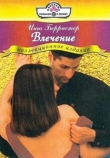Текст книги "Проклятие рода"
Автор книги: Алексей Шкваров
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 80 страниц)
– Государство без справедливого и христолюбивого правителя суть разбойная шайка. Так, кажется, писал Блаженный Августин. А как же священство? – Иоганна захватил рассказ новгородского владыки. Он слушал его с неподдельным интересом.
– И опять ты прав, отче. – Кивнул владыка. – Народ увидит и примет душой и сердцем такого правителя, уверует в него, словно рассмотрит тот самый мир, что на святых иконах, узрит свое присутствие в нем, ибо одно сердце и одна душа у народа и правителя, одна справедливость и Вера на всех. Священство и царство – величайшие дары Божии человеку: одно служит вещам Божественным, другое управляет и заботится о вещах человеческих; и то, и другое происходит от одного начала и благостью украшает жизнь. Если мы – священство будем во всем безупречны и причастны дерзновению к Богу, а царство справедливо упорядочит врученное ему общество, то выйдет благая симфония.
Ты думал Новгород это вся Русь? Это краешек ее, малость самая, камень пограничный, а дальше глубь бездонная, лесами, полями, степями, реками и озерами наполненная. Дух ее чист и не замутнен, свеж и сияет, как дитя из купели крещенской вынутое. Но и мир соблазнов полон. Зло подстерегает и свое и чужое. Дитя взрослеть начинает, тут и указать ему надобно, дабы перст Божий увидело воочию, а не одни лишь кресты на храмах. В душу Бога впустить, ибо если Его там нет, мертва душа-то.
Вот и глаголить с народом надо на родном языке русской души со всей ее широтой и бездонностью. Нужно слово, отсюда, из мудрости отцов церкви почерпнутое, – владыка показал на книги, – но единого слова мало, нужен дух, который потрясет эти души, содрогнуться заставит, испытать истинный страх Божий и пред Господом и пред тем, кто Его именем править придет. Душа народная должна проникнуться этим словом, что изречет помазанник Божий, и поведет, как пастырь свое стадо к величию и могуществу той самой бездонной души, чтоб наполнить ее смыслом, верой в Триединого Бога, Духа и Сына, в присутствие Покрова и заступничества Божьей Матери, и вырастет Третий Рим, но сперва в душе, а затем и воочию, преломляя хребты и кости всемирному злу, одолеет и агарян, и смуты боярские и ереси всякие, дабы придти к устроению мирному земскому. Из души, а не из камня, души связанной невидимыми, но наипрочнейшими нитями со своим помазанником вырастет град великий. Но крепость его будет не в стенах каменных, а в помыслах, что прочнее любой тверди земной. Сии помыслы, суть молитвы о возвышении великокняжеской десницы над всеми недругами и врагами, о пособлении и укреплении христолюбивого воинства, о мирном устроении земли нашей, о благопребывании земском и тишине, о здравии и спасении всех православных, зачнут день новый на Руси.
Архиепископ замолчал. Молчал и Веттерман, погруженный в раздумья. Ведь ему подтвердили только что собственные догадки о непостижимости русской души, видимо когда-то толкнувшая Русь к принятию христианства. Рассказ новгородского владыки об апостоле Андрее, принесшем христианство в Московию одновременно с Римом, не показался настолько убедительным пастору, чтобы он мог в него поверить. Веттерман не читал труды тех достопочтенных отцов церкви, на которых сослался Макарий, хотя имена были ему знакомы. Но он понял главное, оценил бездонную глубину и чистоту русского духа без мутной богословской схоластики, ее неподвижность, которую следовало привести в действие, запустить, заставить развиваться в борьбе добра и зла, в стремлении познать Божью истину, увидеть Божественный свет, и тем, кто воскликнет «Вперед!» и поведет за собой, будет новый правитель страны, соединивший в себе ветхозаветную историю и евангельское повествование жизни Христа. Это означало одно – создание нового мира Руси, сотворенного теперь по Божьим, а не языческим законам, создание нового государства, пространства, культуры. Это означало приближение к взрыву сознания, похожему на то, что началось в Европе с победного шествия протестантского вероучения, лишь масштабами, исходя из необъятности просторов Московии, но совершенно иного по сути, без философских или художественных откровений, на которых Русь была скудна и только приступила к познанию величайшего интеллектуального наследия Рима и Византии до их разделения и после, в чем он убедился сейчас находясь в покоях митрополита, в его библиотеке. Иоганну показалось, что он стоит на краю бездонной пропасти, вдруг открывшейся перед ним, называемой Русью, заполнить которую берет на себя смелость стоящий перед ним монах с помощью другого человека, должного стать для всего народа воплощением Божьего духа. Но как ему удастся придать порыв, воплотить в себе одном новую страну, жизнь, Веру без опыта многовековых богословских споров и основанных на них традициях, без собственных озарений, которые необходимо прожить сначала в душе, а потом вынести их в реальный мир, этого Веттерман представить не мог. Нужно прожить в самом себе битву тьмы и света, добра и зла, выйти из них очищенным через откровения, чтобы не перенести душевные битвы в мир, где живут люди и не начать священную войну с ними, заполнив пустоту сознания трупами врагов из плоти и крови, сделав их всемирным злом. По силам ли это одному человеку, даже если, как сказал владыка, это будет помазанник Божий? И будет ли он воистину богобоязнен и любвеобилен к стаду своему? Не есть ли то попытка построить мнимое Его присутствие, дабы заполнить ужасающую пустоту Его отсутствия?
Макарий прервал его размышления:
– Пора тебе, отче! О нашей встрече писать в Стекольну не надобно. Не поверят все равно. Не допускался ни один из ваших отцов до архиерейских покоев. Пиши суть самую – Русь хочет мира. Вот, возьми на память. – Архиепископ протянул Иоганну небольшую резную деревянную икону. – Здесь образ Святого Николая, что почитается покуда у вас, – не удержался владыка, чтоб не съязвить, – с избранными нашими святыми Иоанном Милостливым, Параскевой Пятницей, Космой и Дамианом. За добро, добром платим, и добрым людям рады! Торговлей, а не войной процветать намерены. Верой, но не суевериями! Единым государем, а не распрями боярскими! На том, прощай, отче. Храни тебя Господь! – Макарий размашисто благословил пастора крестным знамением. Отец Димитрий склонился над столом в глубоком прощальном поклоне. Как из-под земли вырос инок, что привел Веттермана в покои архиепископа. Пастор хотел было откланяться, но Макарий придержал его:
– И еще… – владыко прищурился, – ежели какая помощь нужна будет, нам не противная, сей послушник, – кивнул на провожатого, – Сильвестром нареченный, имеет мое благословение. Он скажет, как его сыскать. Поможет. Не сомневайся!
– Благодарю вас, владыко, и вас храни Господь и Пресвятая Дева Мария.
Иоганн низко поклонился, поблагодарил и отправился в обратный путь по лабиринтам переходов и коридоров.
Он думал о том самом младенце, Иоанне, которому новгородский владыка предрек судьбу демиурга . Сколько ему лет сейчас? Шесть, семь? Способен ли он будет даже с помощью мудрейшего архиепископа – наставника пройти сложнейший путь заполнения собственной души, чтобы позднее соединить ее с душой народа, став одним целым, жить одной жизнью человека и народа? Он думал о своем сыне, о том, какая ждет судьба Андерса. Сможет ли он преодолеть томления собственной души, гордыню осуждения и сквозь них придти к истинной любви, как к собственной матери, так и ко всему живому?
– Ладаном обкурить, аль святой водой обрызгать? – Тихо спросил архиепископа отец Димитрий, лишь закрылась за гостем и его провожатым дверь.
– Язвишь, старче? – Усмехнулся владыка. Вопрос ученого монаха отвлек от тяжелых мыслей. – Ересь Лютерова от грехов римских рождена. Православному ли ее бояться? Оттого, что немчины сии палаты возводили, нечто стены ересью-проказой покрыты? Нет. Образы святые их приняли, украсили благоговейно. Не ересей страшусь, старче, супротив них Слово Господне щит надежный, пустоты языческой русской души опасаюсь, да малолетства государя нашего, советников мудрых подле себя не обретшего покуда. А те, что есть… – махнул рукой, – на все воля Божья… сподобит – наш черед придет. Всколыхнем Русь, верой христианской наполним, чрез государя Божьей властью облеченного соединим народ с Творцом. Но больно уж глубока эта бездна… А немчин – добрый человек. Видно сразу. Глаза и душа – любовью Христовой, а разум – мудростью, светятся. Жаль, не наш он… Добрый помощник в делах наших великих и праведных получился бы…
Глава 7. Царское детство.
Иоанн отца почти не помнил. Налетал кто-то большой, безбородый, с длинными усами, пахнущими чем-то кисло-острым, подхватывал на руки, подбрасывал, так что сердечко замирало от страха, целовал колюче. Вокруг гоготали, ревели по-звериному какие-то дядьки волосами поросшие, на чудищ лесных, да болотных похожие, про которых няньки сказывали и крестились:
– Упаси, Бог, встретить! – Оттого еще больше пугался.
Сполохи памяти – он же, отцом называемый, лежит на кровати большой, запах в клети тяжелый, смрадный, жар от печей, везде свечи и те же дядьки толпятся, мать лежит у изголовья, плачет сильно. Подвели к нему, голова закружилась, отец сказал что-то, руку поднял или помогли ему, осенил знамением. Все вокруг толпятся, плачут, слезы с соплями по бородам размазывают, а сами такие страшные… Испугался, заплакал навзрыд, к матери потянулся, да не до него ей было. Чьи-то руки подхватили, вынесли прочь.
На дыбочки встал рано – около года и двух месяцев – так рассказывали ему потом мамки и няньки. Шагу ступить одному не давали – не дай, Бог, упадет, зашибется, лазит ведь везде. Во двор гулять выводили, тут уж глаз да глаз нужен. Ладно, в грязь упадет, помыться отнесут, переоденут, а подрастать стал, беда другая, оглянуться не успеешь, как шасть от нянек, да к дворне, к ребятишкам-погодкам. Обидеть, не обидят, но всякое возможно. Иоанн хоть и мал был, осанку великокняжескую сразу перенял, хоть отца почти и не помнил, зато на посольских приемах скучных насмотрелся, запомнил.
– Я – князь великий! Кланяйтесь мне! – Покрикивал на ребятишек. Те посмеивались, а кто и пугался, но исполняли все. Только разве не могут в отместку зло какое учинить? Иль белены подсунуть или бздники , хуже если к лошадям уведут, да начнут, проказники, их за хвосты дергать или стегать хворостиной, сколь таких покалеченных, беззубых, с глазами выбитыми бродит потом калеками, а тут дите царское – не досмотришь – нянек иссекут в дробные части, собакам скормят. Метались няньки да мамки, выкрикивали:
– Иоанн Васильевич! Где ты, князюшка? Отзовись! – Про себя кудахтали, бросаясь на поиски врассыпную. – Ох ти, Господи, потерялся поди.
От дворовых и словам бранным научился. Мамке Челядниной первой досталось – сукой обозвал. Просто так, интересно ему было. Та вспыхнула сначала, раскраснелась, рука зачесалась прут найти да вздуть, опомнилась быстро, заулыбалась:
– Ах, ты проказник, буян этакий, что ж на мамку свою ругаешься?
Если на двор не пускали – дождь сильный или ветер, приходилось с братом Георгием сидеть, а тот глухонемой, много с ним наиграешь? Одна радость вечером, как спать ложиться, тут уж ритуал – сказка обязательная, под нее сон быстрый и легкий приходит. По матери скучал сильно. Видеться-то редко приходилось.
– Дела государевы… – Успокаивали Челяднина с мамками.
– Дела, сыночек, государевы… – Вторила им Елена.
– А после? После дел-то? – Спрашивал мальчик, руками разводя.
– Забегу, сыночек. Поцелую, молитовку прочтем вместе с братиком твоим. – Обещала мать, да не часто слово данное сдерживала. Дядька все возле нее крутился – князь Иван Оболенский. Не нравился он княжичу. Ревновал.
– Кто он? Что тут делает?
– Гостинцы тебе принес. – Объясняла мать, бегло оглянувшись на Овчину, подмигивала любовнику, давай, мол. Тот выкладывал заранее приготовленное. Мальчик рассматривал, что-то увлекало его, но, как только мать исчезала вместе с Оболенский, так и интерес пропадал к гостинцам. Небрежно ногой отодвигал куда-нибудь в угол или брату несмышленому подсовывал.
– Не хочу! – Заявлял нянькам.
По матери тосковал сильно, оттого часто ловил ушами жадными любое слово о ней. Подслушивать научился. Няньки знай себе шепчутся по углам, думая, что дитё спит или играет себе в горнице, а сами-то глуховаты, шепотом не выходит, почитай, иногда в полный голос переговариваются. Иоанн тут, как тут, ушки на макушке растут и растут, каждый слог заглатывают. А то, бывало, запрячется где-нибудь в уголке укромном и слушает, впитывает от всех, кто мимо проходит – мамки с няньками, Челяднина с мужем, бояре и челядь разная, стражники и холопы.
Овчину поругивали, ( – Так ему, злыдню! – думалось радостно), мать иногда нехорошим словом поминали, ( – Вот ужо я вам! – грозился), часто про воров всяких, да крамольниках князьях, боярах разных, что матери лиха хотели. Страшно становилось, словно в лесу дремучем, где из-за каждой кочки болотной, из-за осин кривых, Лихо высовывалось в шапке боярской, в шубе длиннополой, трясло бородой козлиной, ухало протяжно, пальцы к княжичу тянуло цепкие. Когда слышал, что извели вора – радовался, поделом, мол.
– Вырасту, и всех побью! – Кулачки сжимались.
Сперва думалось, что за теремом-дворцом великокняжеским, где они с братом обитали, где мать жила, где приемы и трапезы праздничные велись, за огромной стеной, весь мир остальной из чудищ, воров, да крамольников состоит. Но в пять лет на богомолье отправились, в Троице-Сергиеву лавру. Увидел, что нет ничего страшного за стенами каменными. Люди все такие же. В ноги валяться, спины в поклонах гнут, шапки срывают. Понравилось Иоанну. Только вот опять без матушки, ну все без нее, с одной Челядниной, да с няньками. В храмах благостно, тихо, умиротворенно... Лики святых строгие. Хор поет красиво. Можно стоять, слушать, молится…
Приемы тягостные, лишь первые мгновения интересные – все кругами ходят, все разряженные, все в ноги кланяются, все великим князем – государем называют, а трон отцовский огромный, неудобный, устаешь быстро, крутиться не дают, одежды тяжелые, к матушке, что рядом восседает нельзя тянуться, да ну их всех, поскорее б кончилось и во двор выбежать…
В дальнем углу двора великокняжеского был заброшенный колодец. Что могло притягивать к нему? Прогнивший сруб, с покрытыми слизью черными бревенчатыми стенками, с жидким полным нечистот дном неведомой глубины, источавшим не просто смрад и вонь, но ужас смерти. Может ее недостижимость для юного возраста пробуждала интерес, но дворовая мелюзга часто толпилась вокруг колодца, заглядывала вовнутрь, словно пыталась кого-то или что-то разглядеть на жутком плохо различимом дне, среди лопавшихся гнилостных пузырей. Сказки о Мокоши, страшных болотниках, леших и кикиморах оживали наяву, а вокруг ярко светило солнце и страх уменьшался, суживался до размеров черного зева колодца.
– Гноище! Ворота адовы! – шептали самые знающие, внешне смело, но с опаской внутренней, заглядывая в смрадную темноту.
– Прямо в ад ведет? – С дрожанием в голосе спрашивали другие, нерешительные, стоя в шаге от потемневшего, заросшего мхом сруба.
– А то! Прямиком, чрез Поганую лужу и далее, до геенны самой. Все там, и грешники и черти, из гнили да в пламя жариться. – Оторвавшись от разглядывания дна, гораздо громче и увереннее поясняли первые.
Иоанн опять убежал от нянек, оставив их далеко позади. День был теплый, на нем холщовая рубашонка, подпоясанная вышитой оборкой, порточки, суконные сапожки-бахилки. Видя ребятню, у колодца столпившуюся, к ним важно направился. Приметив княжича, расступились. Мальчишки шапки скинули, девочки за их спины спрятались, но все поклонились поясно. Было их с десяток, может больше. Самый старший, лет двенадцати, Иоанн давно его заприметил, держал в руках двух щенят малых – черного и белого. А сам ярко рыжий, кудри хоть и острижены в кружок, да вились во все стороны своенравно. И смотрел всегда также, хоть кланялся со всеми, да с вызовом, иль насмешкой во взоре. Иоанн слышал, что Нечаем его зовут остальные ребятишки и, что он сын одного из конюхов великокняжеских. Вот и сейчас, щенят одной рукой держал, в другой шапку скомкал, поклон отбил, и уставился своими глазищами карими прямо на княжича, а на губах усмешка презрительная играла, словно выговаривал, чего, мол, пожаловал, и без тебя хорошо было.
– Я – князь великий! – Непонятно зачем сказал Иоанн.
Все еще раз поклонись ему. И тот, Нечай, со всеми вместе, но улыбка с лица не сошла, только злее стала. Молчали дети, ждали, что дальше скажет княжич.
– Чего собрались тут? – Спросил Иоанн.
– Щенят топить будем. – Ответил за всех Нечай с ухмылкой.
– Щенят? – Переспросил княжич, всматриваясь в черный и белый комочки, прижатые к груди сына конюха. – А почто?
– Для забавы! Лишние они. – Пояснил, все также задиристо ухмыляясь, Нечай.
– А не жалко? – Иоанн вдруг представил себе ужасное дно колодца, куда он однажды заглянул, пересилив собственный страх. Деваться было некуда, сам объявил тогда перед ребятней, что хочет тоже посмотреть туда, куда и они. – Утонут ведь!
– Так и топим, чтоб утонули. – Безразлично пожал плечами мальчик.
– А тебе не жалко?
– Чаво жалеть, чай не человек, а пес, собака! – Презрительно сплюнул на землю сын конюха. Умом младенческим Иоанн понял, что всем своим поведением, Нечай стремится обидеть его, но что делать дальше, сообразить не мог, оттого губенка нижняя задрожала. Хотел было оглянуться назад, нянек высмотреть на подмогу, али из взрослой челяди дворовой кого, но передумал. Чуть закусив трепетавшую губу, смирил волнение, набрался смелости и выпалил одним духом:
– А кто позволил топить?
Нечай не ответил, снова поднял и опустил недоуменно плечи, глянул презрительно на княжича, мол, какое еще позволение на такую ерунду надобно. Щенки попискивали жалобно, пытались высвободиться, но мальчишка держал их крепко. Наконец, ему это надоело, он перекинул шапку, что в кулаке сжимал, зажал ее подмышкой, схватил освободившейся рукой черного щенка за холку и простер над бездной колодца.
– Я не позволяю! – Выкрикнул Иоанн, понимая, что сейчас свершиться непоправимое. И в тоже мгновение Нечай разжал пальцы, не сводя с княжича насмешливых глаз. Откуда-то из глубины черного зева колодца донесся слабый звук всплеска. Детишки, забыв об Иоанне, гурьбой обступили колодец, хором наклонили головы – что там внизу.
Княжич вспыхнул гневом, обида испарилась, он шагнул вперед и ударил ручонками в грудь Нечая, желая наказать обидчика. Двенадцатилетний противник ожидал этого и напрягся. Получилось, что семилетний Иоанн ударился о непреодолимую стену, и его отбросило назад. Княжич растянулся на земле и… заревел от обиды во все горло.
– Ты… холоп… я… моя… воля… великий… князь… холоп… – Доносилось снизу, рыданья размазывались слезами и соплями по лицу серыми от пыли ручонками, превращаясь в грязные темные разводы.
К колодцу уже бежали наперегонки няньки, обнаружив местонахождение драгоценной потери. Опережая их, подскочил стражник с огромной саблей на боку. Первым делом подхватил княжича, поставил его на ноги, сорвал с себя шапку, вытер ее грязь с лица мальчика, приговаривая в горячке.
– Не убился, Иоанн Васильевич? Не поранился?
Убедившись, что с великим князем ничего страшного не произошло, обернулся к ребятне и грозно спросил:
– Кто обидел?
Малышня бросилась в рассыпную, остался лишь один Нечай. В глазах его блеснул озорной огонек бесстрашия, одной рукой он по-прежнему прижимал к груди белый комок.
– Ты, что ль? – Стражник поймал его ухо и стал выкручивать. Мальчишка весь изогнулся и выронил щенка. Тот шлепнулся кулем о землю и тонко заскулил. Иоанн тотчас рванулся к нему, схватил и прижал к себе. Злым, прерывающимся от рыданий голосом, выкрикнул:
– Он! Он, холоп! Я повелевал! Он не выполнил.
– Запорю, стервец! – Зашипел стражник, вытягивая ухо провинившегося, так, что тот вынужден был приподняться на цыпочках, ибо казалось воин хотел оторвать его вместе с головой. Было видно, как больно Нечаю, но он терпел изо всех сил, не издавая ни звука.
– Да, да! Пороть его! – Кричал Иоанн, уже окруженный охающими и ахающими бабками. – На конюшню его!
– Щас, мы мигом его, государь! – Стражник отпустил на мгновение ухо жертвы, ударил наотмашь по лицу так, что мальчишка кубарем полетел на землю, нагнулся, схватил за шиворот рубашки и поволок полубесчувственное тело за собой.
Вырвавшись от нянек, с щенком на груди, Иоанн решительно зашагал за ними, на ходу еще шмыгая носом и утирая рукавом вытекающую соплю.
Полумрак конюшен отозвался вопросительным тревожным ржаньем. Несколько лошадиных голов повернулись в сторону нежданных гостей, встревожено кося глазами. Слева от яслей стояли деревянные козлы, с водруженной на них большой дубовой колодой – кобылой, побуревшей от засохшей крови, длиной больше человеческого роста и шириной в пол-аршина. На одном конце ее был вырез для шеи, и два по бокам – для рук.
Навстречу входившей в конюшню процессии – впереди стражник с Нечаем, волочившимся по земле, за ними княжич Иоанн с няньками, выскочил испуганный молодой широкоплечий парень – конюх.
– Ката сюда! Быстро! – Рявкнул стражник, оторвав одной рукой тело своей жертвы от земли, и швырнул на колоду. Если и теплилось до этого в Нечае еще какое-то сознание, то теперь, глухой стук головы по дереву означал полное беспамятство. Конюх исчез. Вместе него, спустя какое-то время, появился широкоплечий мужик в красной рубахе с большой густой черной бородой и полностью выбритым черепом. Через его левое плечо была переброшена длиннющая плеть, волочившаяся за ним по устланному соломой земляному полу. Заметив великого князя, кат остановился, поклонился низко, коснувшись правой рукой земли. Распрямившись, подошел к кобыле и осмотрел предстоящую работу. Тело мальчика лежало неподвижно посередине гигантской колоды. Размеры приспособления для порки были слишком велики. Палач покачал бритой головой, примериваясь. Затем, привычным жестом разорвал на мальчишке рубаху, оголяя спину, подхватил за подмышки, подтянул, чтоб голова безвольно рухнула в отведенный для нее вырез, раскидал в стороны руки, присел на корточки, достал тонкий кожаный ремешок, размотал его, прикинул, хватит ли длины, вновь покачал головой, но подлез под колоду и стянул запястья. Выбрался, распрямился во весь рост, осмотрел все заново, хмыкнул удовлетворенно. Отошел в сторону на несколько шагов, повернулся к Иоанну, вновь поклонился и спросил:
– Дозволь начать, великий князь?
Няньки закрестились, зашептались за спиной Иоанна, упрашивая:
– Батюшка наш, уйдем подале от греха. Не гоже дитятке малому смотреть на казнь. Пожалей себя, Иоанн Васильевич!
Но княжич упрямо мотнул головой. Его губы были поджаты, скулы заострились, взгляд переместился с белеющей в полумраке конюшни обнаженной спины на красную рубаху ката, затем на рукоять плети, висевшей пока в бездействии на левом плече палача.
– Дозволяю! – Зло выкрикнул мальчик.
– Токмо, великий князь, прошу тебя чуть в сторонку отойти… – кат склонил голову, правую руку к сердцу прижал, обхватив сразу рукоять плетки, – обрызгать могу, невзначай.
Иоанн мотнул головой:
– Нет!
– Как знаешь… – пожал плечами палач, отвернулся от княжича, прищурился и стал медленно приближаться к приговоренному. Плеть тащилась за ним узкой змейкой по полу. Подойдя ближе, его рука взметнулась, в воздухе раздался свист, а затем хлопок удара… Бил с правого плеча по ребрам под левый бок. Плеть сразу же глубоко прорубила кожу до самых костей, и палач левой рукой собрал с нее полную горсть крови, отряхнув ее за спину. Теплые брызги, упавшие на лицо Иоанна, ошеломили. Не зря предупреждал кат! Свист и второй удар, крест-накрест, слева направо. Снова брызги. Хлопок. Брызги. Брызги. Живая теплая кровь… Она уже заливала лицо княжича, его рубаху, кроваво-белый щенок беспокойно ворочался у него на груди, но Иоанн ничего не чувствовал, кроме горячего запаха смерти своего врага, ничего не видел, кроме его растерзанной спины, превратившейся в миг в один сплошной кусок рубленного, окровавленного мяса с бесстыдно поблескивающими оголившимися костями ребер. В красном тумане, заполнившем конюшню, вдруг отчетливо зазвенела тишина. Исчезли все звуки, плеть больше не свистела, не хлопала, не рубила, где-то вдалеке, чей-то голос глухо изрек:
– Готов!
Иоанн повернулся и на не сгибающихся ножках побрел на выход, сквозь расступившихся пред ним нянек. Они испуганно прикрывали рот ладонями, показывали пальцем на него, многие рыдали. Княжич вышел на солнечный свет, посмотрел на свои руки, грудь и щенка. Все было залито кровью. От нее исходил странный животный запах. Она быстро засыхала и стягивала кожу, темнела на глазах, превращаясь в одно огромное бурое пятно. Иоанна вырвало. Его кто-то подхватил на руки и быстро-быстро понес прочь.
Княжича раздели, быстро окатили теплой водой, терли, намыливали, снова обливали. Потом насухо вытерли, одели чистую рубашонку, уложили в кровать. Появилась испуганная мать.
– Матушка… – Он потянулся к ней ручонками. Елена прижала сына к груди, чувствуя, как бьется, вырывается его сердечко. За ее спиной маячила кудрявая голова Оболенского. Мальчик помедлил, не сразу, но отстранился от матери:
– Я спать буду!
– Сказку не хочешь на ночь, дитятко? – Ласково спросила мать, приглаживая подсыхающие вихры.
– Нет! Я собачку принес белую, пусть живет со мной!
– Хорошо, хорошо… – закивала княгиня, – пускай живет. Если хочешь с тобой, и будет с тобой!
Иоанн отвернулся к стенке и через мгновение уже спал безмятежным сном. Подле его кроватки копошился на расстеленной белой тряпице отмытый от крови белоснежный щенок…
На следующий день в Москву пожаловал архиепископ новгородский Макарий, сбор полонянный привез в дар правительнице, выкупать несчастных из татарской неволи. Елена Васильевна сама его приветила, под благословение голову склонила. Макарий попросил ее:
– Дозволь, княгинюшка, дитятко царское лицезреть, благословение ему духовное отеческое передать.
– Отчего ж нет! С превеликой радостью, владыка!
– Мы с ним свечку зажжем, молитву сотворим, да разговоры разговаривать будем…
– Сама отведу к нему, владыко! – Обрадовалась Елена Васильевна.
Проводила, дверь тихонько в горницу отворила, заглянула – мальчик сидел на полу со щенком забавлялся, после пропустила вперед архиепископа и… дверь за ним притворила, снаружи оставшись.
Иоанн посмотрел на вошедшего архиерея, на ножки вскочил живо, подбежал, головку склонил:
– Благослови, батюшка!
– Бог благословит, чадушка! – Новгородский владыка ласково погладил по головке, поцеловал в макушку. – А ты, чадушко мое, ведаешь, кто такой Боженька наш?
Мальчуган стал серьезным, насупился, нижнюю губку поджал:
– Боженька, Он добрый! И любит всех!
– Всех ли? – Усмехнулся владыка. – Бог всеправедный, справедливый. Он без причины не накажет, но и худого человека не оставит без наказания, если он, человек, свою жизнь не исправит.
– А знаешь, он наказывает тех, кто заповеди не соблюдает!
– Верно, чадушко. А какие заповеди тебе ведомы?
– Не воруй! Кто ворует, тот плохой, и его Боженька не любит! Вон мой дядя вором был, оттого его в темницу посадили, а он умер там. И князя Ивана тоже в темницу надо!
Владыка оглянулся – не подслушивает ли кто, спросил тихо:
– Отчего ж князя Ивана вором кличешь?
– А зачем он отцовскую спальню занял? По какому праву? Вот вырасту… – и кулачком потряс.
– Аль обижает тебя князь?
– Нет! – Мотнул головой кудрявой. – Игрушки носит, токмо не нужны они мне. Выбрасываю или ломаю. – Княжич замолчал, сосредоточенно, с прищуром, в сторону уставился. Иоанн вспомнил, ночью проснулся как-то, посмотрел в полутьму, колеблющуюся огарками свечей, няньки на лавках похрапывали. Испугался чего-то, о матери подумал, кто ж защитит от страхов детских, выскользнул ящеркой из-под пухового одеяла и, зябко перебирая ногами по холодным каменным плитам, к ней направился. К двери опочивальни пробрался неслышно, прислушался к странным звукам оттуда доносившимся. Будто стоны материнские раздавались. Приоткрыл тихонечко дверь, даже не скрипнула, внутрь вошел и остобенел.
На кровати, материнские ноги бесстыже в стороны раскинуты, а между ними другие, поросшие черным густым волосом. Мать стонала тяжко, с придыханием, что-то негромко вскрикивала. Мальчик не понимал, что происходит, но в нем вдруг сразу возникло желание заступиться за мамку, мол обижают ее, но странно, он не спешил последовать инстинкту взрослеющего детеныша, который может броситься на защиту матери, что-то неведомое доселе, постыдное и греховное, но сладкое, как запретный плод, удерживало на месте и заставляло смотреть во все глаза на происходящее.
Наконец, мать изогнулась вся под мужским телом и испустила громкий протяжный крик, заставивший Иоанна встрепенуться и забыв о любопытстве броситься к ней на помощь:
– Мама! Мама! Отстань от нее! Слезь! Отойди! – пихал он слабыми ручонками волосатое мужское тело, душившее его мать своей тяжестью. Овчина, а это был он, непонимающе и с изумлением смотрел на невесть откуда взявшегося княжича. Елена пришла в себя моментально, спихнула любовника в сторону, прикрывая собой, на мгновение показавшись Иоанну полностью обнаженной, и цепкий детский взгляд тут же выхватил и запечатлел торчащие груди с крупными сосками, живот, что-то темнеющее внизу. Мальчик снова испытал чувство постыдной сладости увиденного, но мать уже прикрылась одеялом и протянула к нему оставшиеся обнаженными руки:
– Сыночек, Иванушка, – ее голос звучал хрипло, с придыханием. – Что случилось? Почему ты здесь?
Сын заметил крупные капли пота, выступившего на материном лбу и мелким бисером покрывавшие чуть видный пушок над верхней губой. За ее спиной по-прежнему безмолвно маячила всклокоченная голова – борода набок – Овчины-Телепнева.
– А он что тут делает? – Мальчик не нашел лучшего, чем грубо ответить вопросом на вопрос, одновременно бросаясь в объятья матери. От Елены исходил какой-то странный запах, в котором ощущалось что-то родное, но к нему примешивался и другой, забивавший привычный материнский, острый, щекочущий ноздри и вызывающий непонятное возбуждение и томление в чреслах.
Впервые, Иоанн видел в Елене не мать – Божество сошедшее с иконы Пресвятой Богородицы, о которой иначе, как о заступнице небесной и не помышлялось, а как на женщину, до селе ему не знакомую, но волнующую. Возникло желание схватить ее за грудь, но не для того, чтобы получить столь желанное в детстве молоко из чувства младенческого голода, а просто, чтобы мять и тискать эти упругий белый шар, который увенчивал коричневый отросток соска. До этого дня он не видел ни разу обнаженное женское тело. Его мыли няньки в бане, но никогда при этом не оголялись, несмотря на жару. Хотя он обращал внимание на то, что у одних из них очень выпирало из-под рубахи, у других мало. Иногда его взгляд проникал в вырез, когда кто-нибудь наклонялся над ним, чтобы полить на голову и рубаха отвисала, он видел женские груди, соски, но они напоминали ему о вкуснейшем молоке.