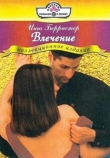Текст книги "Проклятие рода"
Автор книги: Алексей Шкваров
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 80 страниц)
Мамка укоризненно головой покачала и скрылась за дверью. Елена в волнении расхаживала по горнице:
– Может сон и в руку? И не важно, что на Ваню тот князь не похож… – Билось сердечко.
Дверь отворилась, и в светелку вошел сам Захарьин. Скинул шапку высокую, на иконы перекрестился, потом и Елене поклон отвесил глубокий.
– Полноте, Михаил Юрьевич! – Попыталась его остановить девушка. – Рада гостю столь знатному.
На лавку присесть пригласила. Сама с краешку примостилась и с любопытством, молодости свойственном:
– Что за причина навестить бедную сиротку?
Михаил Юрьевич сперва шубу сбросил – мамка подхватила, потом уселся степенно, посох прислонил, мамке знак сделал – мол, удались. Старушка посмотрела недовольно, но, поймав взгляд Елены, хмыкнула и ушла.
– С весточкой я к тебе девица красная, от дяди твоего разлюбезного… – начал боярин неторопливо.
– Ах ты, Господи, – руками всплеснула Елена, – как он там, жив, здоров? А мы уж и не чаяли дождаться чего-либо. Как по покойнику плачем…
– Рано ты его к покойникам причисляешь, девица… – усмехнулся Захарьин. – Он еще ого-го! Недаром Дородным его всегда кликали. Жив, здоров, кланяться велел. Вот и поклонился тебе княгинюшка, да благословение на словах передать хотел.
– Ой, как все хорошо! Как я рада-то! А когда увидеть-то смогу, дядю разлюбезного? Он один за батюшку мне остался. Скоро ль великий князь и государь наш Василий Иванович сменит гнев, да опалу на милость свою?
– От тебя это ныне зависит, девица! – Захарьин решил сразу брать за рога, отметив, что почитает Елена своего дядю.
– Как это от меня? – опешила девушка. – Я то, чем помочь могу.
– Ныне великий князь и государь наш Василий овдовел. Невесту себе подыскивает. Велел он мне, – схитрил боярин, – чтоб тебя пред ясные очи царские вывести.
– Меня? – Елена речи лишилась. Себя не чуя, поднялась. Будто обруч ледяной грудь сдавил, а под ногами бездна открывалась. Еще капельку и сорвется… дышать стало нечем.
Захарьин, видя как побледнела внезапно девица, испугался. Вскочил с лавки, к ней шагнул, под локоток взял осторожненько.
– Да ты не тужи, девица! Эк счастье-то привалило… Государыней будешь…
Губы в миг пересохли, взгляд затуманился…
– Я другого люблю… – прошептала чуть слышно. Захарьин догадался о ком речь. Строже заговорил:
– Ты, девка, должна ныне думать о благе княжества всего и Руси, о дяде своем, который в темнице сырой почитай двенадцать лет заживо гниет, должна думать о том, как наследника выносить земле русской! А конюшего из головы выкинь! – прикрикнул грозно, – не то… суд великокняжеский сама ведаешь каков может быть.
Елена вдруг бурно разрыдалась. Все ее надежды в один миг рухнули, и ей казалось, что сама она летит в бездну, которой нет ни конца, ни края.
– Это уже хорошо! – подумал про себя боярин и, приблизившись, обнял юную княжну, поглаживал вздрагивающие плечи. От нечего делать она уткнулась в широкую грудь Захарьина и продолжала безудержно рыдать. – Ничего, – думал боярин, – со слезами-то проще… проревется девка, зато потом, как шелковая будет.
Мамка было сунулась, но Захарьин так шикнул на нее, что испарилась в миг. Проревевшись, Елена отстранилась от боярина, и стояла, всхлипывая, в пол уставившись.
– Я ж добра тебе желаю, княгинюшка… – ласково продолжил Захарьин, – и дядя твой благословенье свое отеческое дал… Рази можно ослушаться… А конюший твой… – глаза вскинула, черноогненные, от слез блеснувшие ослепляющее, – так он же совсем рядом с тобой будет… он же в свите государевой… вот и любуйся им… Добра ж тебе все желают, и просят… – Захарьин закряхтел и даже на колени стал опускаться.
– Что ты, Михаил Юрьевич… – спохватилась Елена, старику не позволяя в ноги упасть.
Послушался… распрямился:
– Все равно быть тебе государыней! Все равно все будут в ногах твоих валяться.
– Согласна я… – глухо произнесла Елена, отвернувшись в сторону и от обиды великой, почти в кровь закусила губу.
– Вот и славно, княгинюшка. Вот и славно… – повторял боярин, внимательно за ней наблюдая. – Завтрашний день заеду, обговорим все, как и что поступать надобно будет, когда на смотрины поедем…
– Какие смотрины? – встрепенулась Елена. – Ты ж сказал…
– Обычай, матушка моя, обычай… – развел руками Захарьин. – По обычаю многих соберут невест, принародно тебя и выберут.
– А с чего ты взял, что именно меня? Откуда про меня князь Василий знает? – голосок дрожал, но насторожилась. – Не обман ли случаем?
– Слух о красоте, да уме твоем Елена Васильевна и до хором великокняжеских долетел… – хитрил Захарьин.
– А ежели еще кто будет? Кто краше меня ему покажется? – не унималась Глинская, но нотка ревности тихонько звякнула… а Захарьин подметил.
– Так мы выставим тебя так, чтоб затмила всех. Сама подумай, княгинюшка, на престол взойдешь, государыней всея Руси будешь… Это ж дух захватывает… – Боярин от избытка чувств замотал головой, руки раскинул во всю ширь.
– Ладно! – насупилась. – Ступай уж себе, Михаил Юрьевич!
– А голосок-то уже выдает тебя, красная моя девица… – подумалось Захарьину, – власти-то такой кто ж не захочет.
Не заставляя повторять, боярин отходил спиной к двери, по пути посох свой, к стене прислоненный захватил. Напоследок – уже в дверях был Захарьин, услышал:
– Ты дядюшку-то увидишь? Передай, только ради него и по его воле согласна я! Не своей!
– Передам, передам, не сомневайся! – закивал боярин, задом дверь выталкивая. – До завтра, княгинюшка, до завтра…
Выйдя, на мамку натолкнулся. Та смотрела на него с недоумением.
– Ты, старуха, – грозно сказал ей, – коли чего слышала, язык на замок покудова. Не то обрежем! Княжна твоя ныне невеста царская!
– Ох ти Господи! – мелко мелко закрестилась старая.
– Смотри у меня, ни гу-гу – пальцем погрозил. – Шубу давай!
Навстречу боярину спешила Анна Глинская, дочь воеводы сербского, за которого сосватал ее Михаил для брата своего. Захарьин знаком остановил ее:
– Ни о чем меня не вопрошай, княгиня! Дело государево здесь и твоей дочери касаемо! Ныне невеста она царская, но покудова государыней не станет, болтать о сем запрещаю! Готовить тихо и таясь от дурного глаза или уха! Или ты счастья не хочешь для кровинки своей? Или избавления от мук сродственника вашего Михайлы Глинского?
Княгиня Анна остолбенела от свалившихся новостей.
– Вот так-то лучше! Завтрашний день буду, тогда и потолкуем. Поди, – на дверь светелки девичьей показал, – успокой, да возрадуйтесь вместе.
Все вышло, как задумали Захарьин с Поджогиным. Лично невест расставляли в палатах великокняжеских, и чтоб свет из-за стекла оконного венецианского падал так, как им нужно, и чтоб свечей отблеск не мешал, кто покрасивее – задвинуть, кто не из писаных красавиц – вперед, кто румянами да белилами переусердствовал – туда же… Долго выбирал Захарьин и для Елены местечко… Потом додумался, не в начале, не в середине, а чуть дальше…
– Утомится Василий, а тут мы его и придержим… – Пояснил Шигоне. – Рядом пойдем, отвлекать будем, а как к ней приблизимся, так и встанем… будто сами ослепли от красоты…
Говорил-то уверенно, но волновался в душе. Больше для успокоения собственного нашептывал Шигоне, а у самого скреблось:
– Вдруг не выйдет, вдруг не захочет…
Но и Елена была не промах! Не мазалась, как все дуры московские румянами, что не поймешь свекла-то, аль лицо женское, не белила себя, будто мукой обсыпанная, лекаря вызвала к себе иноземного, тот и раскинул перед ней море флакончиков, баночек-скляночек, все рассказал, все дал попробовать, объяснил, что для чего надобно, что оттенить может, а что и спрячет… Правда, прятать-то было нечего… Куда красивее-то. Но довели до полного совершенства. Как богиня античная выглядела сейчас Елена…
Триста невест со всех концов Руси собрались… каких только родов и фамилий тут не было… русые, чернявые, статные, высокие, полногрудые, глаза какие хочешь, только выбирай! Всех мамки осмотрели, все к детородству пригодны… Дело за князем Василием…
Невесел был государь… Шел на смотрины, а душа болела… жаль ему Соломонию… Шигона что-то жужжал на ухо, Василий морщился, Захарьин поспешал молча – широко шагал князь. Взгляд его скользил по женским лицам, что скромно потупили очи пред грозным владыкой. Не одно сердечко сначала замирало, начинало биться учащенно, чувствуя, что ближе, ближе, ближе князь и… обрывалось все, мимо проходил.
Приближались… Еще пять осталось, четыре, три … Захарьин, чувствуя напряженность, ускорил шаг, стал заходить вперед и вдруг встал, как вкопанный… Василий с размаху уперся в него и поднял глаза…
Перед ним стояла красавица, черноокая, почти черноволосая, но с рыжиной, одетая, не как все в сарафаны, а платье покроя иноземного, зато грудь крепкая обозначена ясно … кожа бледная, но белил густых не видно, румянец свой, от смущения, а вот губы яркие, полные, сочные, так и манят к себе… Что-то вспомнилось князю… Опять Соломония… что-то было в ней от прежней жены… Не отводил глаз, а скромница не смела взглянуть на государя, но нет, нет… задрожали, затрепетали реснички пушистые, порозовели сильней щечки, лишь на мгновение приподнялась завеса и обожгло князя… в самое сердце.
– Кто? – хрипло спросил. Захарьин откликнулся:
– Елена князя Василия дочь Глинская. – И не удержался, прошептал, но так что слышал Василий. – Хо-ро-ша-а-а…
Государь пошел было дальше, но вдруг остановился и еще раз посмотрел на Елену. Поджогин переглянулся с Захарьиным. Тот кивнул чуть заметно. Свершилось!
Глава 13. Царская свадьба.
Мы не будем утомлять читателя описанием свадьбы великокняжеской. Скажем одно – гулять начали в пятом часу дня 21 января, а завершили через неделю, почитай весь мясоед праздновали. Очаровала юная невеста Василия, и манерами европейскими, и рассуждениями умными, а все боле красотой своей. Помолодел великий князь, будто и не было двух десятков лет прежней жизни, а как преподнесла ему Елена книгу об охоте псиной, что взяла из библиотеки дядиной, да уселась читать вместе, тут и вовсе растаял грозный государь. Уж больно охоч он был до сего предмета. Ведь первый он на Руси, кто положил начало забаве этой. А тут и жена все понимает, будто дьяк ученый. В угоду любимой даже бороду обрил князь. Бояре промолчали изумленно, лишь митрополит Даниил поддакнул тут же:
– Только царям подобает обновляться и украшаться всячески… – И затих сконфуженно.
Поджогин переглянулся с Захарьиным, руку поднял, рот прикрывая – борода-то жидкая, ухмылку не спрячешь. Михаил Юрьевич в ответ лишь глаза опустил. Пока все по-ихнему выходило.
Одно беспокоило государя. То осуждение, что прочел он в глазах духовника своего Вассиана Патрикеева. Еще когда решился Василий Соломонию заточить в Суздале, спросил, смущаясь о том старца.
– Ты даешь мне недостойному такое вопрошение, какого я нигде в Священном писании не встречал, кроме вопрошения Иродиады о главе Иоанна Крестителя! – И громыхнув посохом удалился Вассиан, даже не дождавшись позволения великокняжеского.
Задумался великий князь. Что тем самым подразумевал Патрикеев…? Вспоминал мучительно…
– Иродиада вступила в кровосмесительный брак сначала с одним своим дядей, затем с другим… ее дочь Саломея… Соломония, при чем тут Соломония… танцовщица та была… Ирод поклялся любую прихоть ее исполнить и по просьбе женщин обезглавил самого Иоанна Крестителя. – Догадка озарила. – Так старец сравнил его вопрос с кощунством иудейской царицы, осмелившейся добиться казни святого! Но Саломея… Соломония… ведь это она же исполнила волю матери… Нет, Вассиан… тут ты не прав! Я и сослал Соломонию, ибо она греховна в том, что понести не могла столь долгие годы. Она виновна, а не я! Не предавал я святых отцов! – Успокоил себя государь, а мысли сами к Елене прекрасной вернулись…
Ох и целовал же ее Василий… Как земля полуденная зноем иссушенная вбирает дождь благодатный, так и он пил сладостный сок с губ любимых. Закрывала глаза Елена, принимала ласки государевы, высоко вздымалась грудь ее страстью наполнена, а за ресницами пушистыми одна лишь картина стояла – молодец пригожий, Ванечка любимый, лобзаниями ее тешит, кудри его лицо щекотят, а оторвется от губ горячих, взглянет, словно жемчуга посыплются. Приоткроет Елена глазок, самую щелочку, ан нет, то Василий, государь и князь великий с ней…
Зато мрачно было на душе у Овчины Телепьева, когда стоял он средь толпы праздничной, гульбы всеобщей. Мысли черные метались лисицей юркой, ревность дикая нутро выжигала:
– Солнышком красным величал, камешком самоцветным, лучиком лазоревым… а где она теперича… вон!
И поднимал он очи черные, злобой налитые, словно в пустоту смотрел, а все вокруг веселились, плясали, любовались на гульбу великокняжескую, всяк посмотреть хотел, как шла пара венценосная, по соболям раскиданным, как хмель осыпался на их головы. Подал митрополит князю Василию склянку с вином фряжским, отпил тот немного, да с размаху о ступени каменные. И разлетелись осколки вместе с целомудрием девичьим, влагой мужской обрызганной… Отвели молодых в спальню, а Овчине горше всех роль выпала. Как конюший государев всю ночь теперь он должен был по двору взад вперед ездить с мечом обнаженным. Какого ему ездить и знать, что с его любушкой старый князь забавляется… А ночь-то зимняя, длинная, конца и края нет ей… Уж под утро услыхал окошко скрипнуло. Поднял очи и увидел. Сперва мелькнула белая ручка, затем лицо женское и пал на него взор ее ясных глаз. Лишь на мгновение, и пропала, но ручка, ручка оставалась, махнула раз, другой и спряталась.
– Она! Она! – забилось сердце. – Помнит, любит. – Сорвал Овчина с себя шапку, лоб вытер, что в миг испариной покрылся. – Эх! – И пустился в загул веселый, как только отпустили с часов. Хмельной, братался со всеми, пил за здоровье литовской княжны, а коли выкликали имя великокняжеское, так притворялся, что уронил под стол вещицу и, знай, ее ищет там.
В самый разгар веселья, третий день уж почитай буйствовали, примчался Охрюта взмыленный, и к хозяину в ноги.
– Чего ты, пес? – вздрогнул от неожиданности Шигона. – Случилось что?
– И да и нет! – Татарин все в ногах валялся.
– Да подымись ты! – Приказал дворецкий. – И толком объясни.
– Девку свез в Новогород, как ты велел. Продал купцу свейскому, но с острова Готланд. Вот купчая и деньги. – Протянул сверток. – Шигона развернул, прочел быстро. – Дальше сказывай! – Буркнул недовольно, видя, что мнется сотник. – Стряслося что?
– Да, Соломония… – тянул татарин.
– Что Соломония? – Со свистом вбирая воздух, прошипел Поджогин, яростью наливаясь, готовясь уже к худшему.
– Да Ульяна сказывала, будто спуталась княги.., – запнулся и поправился, – монашка София со стражником одним, Сенькой кличут…
– Ну и…? – Сверкал глазами страшными дворецкий.
– И ничего! – развел руками Охрюта. – Под лед спустил его я.
– Ну, дурак! – Выдохнул Шигона. – Зачем под лед?
Сотник виновато пожал плечами, чего, мол, с ним еще делать-то было
– Сюда волочь! На дыбу, со встряской, да на огонь медленный… чтоб все сказал, было – не было, а что теперь? Тьфу! Убирайся с глаз моих, чтоб я не видел твоей рожи басурманской. – Так захотелось пнуть, но удержался, только плюнул еще раз. Охрюта, как побитый потащился прочь.
– И там сидеть, в монастыре, и ни ногой… – Крикнул ему вслед Поджогин, а сам к Захарьину поспешил.
Тот выслушал молча, лишь брови сошлись круто у переносицы. Был краток:
– Удавить, коли родит!
Шигона замотал головой.
– Что? – вдруг повысив голос строго спросил Захарьин. – Крови испугался безвинной?
– Насчет крови, ты не прав, боярин. – мотнул головой дворецкий. – Не боялся я ее николе. Ты псов моих верных видел? То-то! На части порвут и не глазом моргнуть не успеешь… А вот безвинной… тут твоя правда.
– Безвинной, говоришь… – прошипел Захарьин, так близко к Шигоне наклонился, глаза в глаза, что горячее дыхание опалило веки. – А бывает другая разве? Мало ли на Москве казнят кого? Много ли из них истинно виновных? А здесь кровь не безвинная! Есть у нее вина – только твоя, и псов твоих верных, что не доглядели за бабой! Думать о том раньше надобно было… Ладно, – добавил, остывая, – сперва убедиться надо, что брюхата. Ежели родит, тогда и думать будем! Сейчас другая забота – новая невеста понести должна от князя Василия.
– А ежели… – Шигона даже досказать не решился.
Захарьин вздохнул тяжело, распрямился, поясницу потер заболевшую:
– Не знаю! – буркнул, к небу глаза поднял, перекрестился. – Тогда на одного лишь Бога надежда! Что со всеми нами тогда будет… в Его только воле… Князь-то вона, глаз не сводит с Елены. Браду сбрил, на ляха стал похож… Старцы плюются по углам. Вассиан и вовсе от двора отошел… В спальню князь словно отрок младой… на крыльях летит… расплескать боится, – усмехнулся боярин, – только будет ли толк с того… Но любит… любит… И то хорошо, что невестой-то мы ему угодили с тобой… – зыркнул глазом задорно. – Пора и о дяде ее подумать. Притомился небось князь Михаил, сиделец наш…
– Уговорит Василия-то?
– Сам что ль не видишь, Шигона? – удивился Захарьин.
– Да, вижу, вижу. – Закивал дворецкий. – Но сильно зол был на него князь, за измену-то…
– Коль сильно зол был – давно б казнили, не мешкая… – глубокомысленно изрек боярин. – А так поразмыслить дал времечко…
– Одумаешься… за двенадцать лет-то…
– Года дело наживное… ума-разума понабрался… кому и как служить думаю понял, да и кому избавлением своим обязан тоже… На Литве сильно рады будут православные, Глинский для них словно стяг. А Сигизмунд польский опечалится, хоть и манил к себе князя, покуда у нас он обретался, да думаю, чтоб удавить его. Да, – вдруг неожиданно вспомнил Захарьин, – девка, что была неотлучно при Соломонии? С ней-то что?
– Вот память! – подивился Шигона, но вслух сказал, головой мотнув в сторону:
– Продали ее! Вот купчая! – достал из-за отворота шубы. Показал.
– Продали… – протянул задумчиво Захарьин. – И куда? Кому? Что за купец на сей товар сыскался?
– В Новгород. Купец свейский. Имя его… – Поджогин развернул грамотку, вгляделся, – Нильс Свен… Свенсон.
– Свейский, говоришь… – Захарьин обдумывал что-то. – Значит, помиловал ты девку, Иван Юрьевич? – посмотрел с хитрецой на Шигону.
Тот неопределенно покрутил головой, купчую убрал за пазуху.
– Да не хочешь, не отвечай! – Согласился Захарьин. – Может и к добру все это… Ныне свеи вновь от датчан отделились, короля себе выбрали, Густавом кличут. Рода вроде б и не знатного, да нам без разницы. Датчане себе волосья рвут, да кровушку пускают, два короля у них теперича. Не до свеев им ныне. А нам – торговля дело выгодное, что с датчанами, что с немцами свейскими, что с Ганзой… Ныне Густав ихний посла принять просит, договоры старые подправить – печатник Третьяков сказывал. Надобно знать нам что там в Стекольне их, да почем… Рыбаков наших, что на Каяново море промышлять ходят, по-прежнему свеи обижают. Мир с ними на 60 годков подписан, да вот с границами все незадача выходит. Ты, Иван Юрьевич, уточни у наместника князя Оболенского, что за купец девку нашу приобрел, да и проследить ее надобно. Может и сгодиться…
– Согласиться ли… – неуверенно произнес Шигона.
– С подходцем надо, дворецкий, не с наскока… – усмехнулся боярин. – Ты ж от смерти неминуемой ее спас, жизнь подарил… помнят такое…
– Ей жизнь и не мила была, смерть принять хотела за княгиню свою.
– Хотела, да не приняла… Забывается то, а жизнь… вот она! Живет же… Купил то какой из себя? Молодой, аль старый? Купец-то этот свейский?
– Не знаю! – признался Шигона. – Не о том мысли были! О Соломонии думал…
– Расспроси пса своего. Ежели молодой может полюбятся, может поженятся, ежели старый… так и то ж на младое потянуть может… Лишь бы нам отсель ниточку какую протянуть… – Пальцем крючковатым в воздухе потряс.
– Узнаю все! – тряхнул головой Шигона. – Раньше весны свей отплывать не соберется. А там, глядишь, с новым товаром придет, вот и узнаем, что с девкой нашей сталось. Все-то ты помнишь, Михаил Юрьевич… и про девку Соломониеву… – усмехнулся Поджогин.
– А ты не смотри, что старый я… – сверкнул глазом боярин, – годы они богатством разума да памяти дороги. Ноги вот подводят, – на посох показал, – а голова, как у отрока свежая. Великий князь сказывал сразу как отгуляем, первым делом на богомолье отправиться с младой женой, – построжел разом Захарьин. – О деторождении молиться будут. Вот забота, так забота… А с Соломонией, да с девкой разберемся как-нибудь.
– И то правда, – согласился успокоенный дворецкий. – Глаз не спущу! Сам поеду в Суздаль!
– Чего ныне-то ехать? Полгода выжди хоть! Не будешь же ты ей рясу задирать, брюхата аль нет? Ульяна смотреть должна!
– Вот и заставлю дуру старую! – зло бросил дворецкий.
– Думаю, без тебя, игуменья напугана. Ежели что – сразу отпишет! Не нам, так владыке своему.
– Нам! – упрямо мотнул головой Шигона и повторил. – Нам только! Никаких владык! Самолично ей накажу!
– Поезжай! – Согласился Захарьин. – Только по весне-лету, заодно дары отвези в монастыри суздальские. И от меня тоже. За грехи наши тяжкие… Напомнишь, когда соберешься!
На том и расстались.
Глава 14. Жена и дочь.
Несколько месяцев живет Любава у старого шведа. Пообвыклась. Сперва сторонилась, уж больно странно смотрел Свен на нее, Уллой все называл. Догадалась, что с дочерью его покойной схожа, да и Густяк про то рассказывал. Старик не донимал ничем девушку, отвели ей светелку, там и просиживала она вечерами, а днем гуляла по Немецкому двору, где стоял дом Нильсона и других иноземных купцов. Вслушивалась в речь чужую, смотрела, как люд чужеземный трудится, без суеты, без крика, без разговоров лишних – на слова-то они все скупы были, вроде б и неторопливо все у них, да работа спорится – разгружают товар всякий, заносят, выносят другой, грузят, да не навалом, как бывало свои, русские, а все аккуратненько, ровненько. Все вместе на обед, все вместе на ужин. По субботам в церковь дружно шагали, дружно молились, потом сидели пиво пили. Чуть шумнее становились, но ни драк тебе, ни ссор громких.
Нильсон сразу ей сказал – он по-русски хорошо разговаривал, только смешно как-то звуки получались, и по-нашему, да не так:
– За ворота нельзя тебе! Опасно это!
Да она и не стремилась. Вечерами ужинать звал с собой, слуга стучался в ее светелку, знаком показывал – мол, хозяин кличет. Сидели молча сперва, все смущало ее, как смотрит старик, будто заплачет сейчас. Потом рассказывать начал:
– Давно это было… Жену Аннитой звали, сын Бернт, да дочка Улла, вот такая была… – старик рукой показал чуток от пола.
– Совсем маленькая… – догадалась Любава.
– Чума… – покачал головой Свен.
– Моровая язва? – Переспросила Любава.
– Да. У вас так называют… – кивнул старик.
– А еще есть кто из сродственников?
Нахмурился Свен:
– Есть... Вспоминать не хочется…
– Что так? – наивно спросила.
– Ах…, – рукой махнул старик, – сестра младшая, всегда злобной была, завистливой, вороватой, словно не из нашей семьи… Проклятая или порченная она что ли… купец знакомый заезжал, рассказывал… мужей было несколько, да все помирали… один от пьянства, другой рыбаком был, так потонул, третьего паралич ни с того ни с сего разбил – помер. Говорят, живет с каким-то…
– А дети у нее есть?
– Видел ее дочь однажды, давно еще, совсем девочкой… но взгляд какой-то не хороший… холодный, волчий, да и имя под стать – Илва. Тот же купец говорил, что подалась на юг куда-то, в блудные девы… нагуляла там ребенка, да к матери вернулась… так и живут, наверно… – пожал плечами. – Не хочу о них! – Махнул рукой. – Посмотрел один раз на них – кроме алчности в глазах, ничего не разглядел.
– А я тверская… – вдруг неожиданно для себя самой, начала рассказывать Любава. – Род наш когда-то богатый был, Можайским князьям родственный, до тех пор, как великий князь московский Иван, отец нынешнего, не прибрал к рукам Тверь. Сперва теснили его люди земли наши, обиды чинили несносные, не было на них ни суда, ни управы. Бежали многие тогда, кто на Литву, как братья деда моего. А кто и подале. А он остался – не хотел на чужбине умирать, все верил во что-то… Князя Тверского на Москве не жаловали, он с Литвой связаться пытался, да только хуже сделал. Тверитяне многие, как и мой дед, искать стали защитника в московском князе. Описали его дьяки все земли наши, на сохи поделили, да урезали. Так в упадок и пришли. Батюшка мой с матушкой на Москву перебрался, в службу вступил, там я и на свет Божий появилась. Померли мои родители, мать в горячке родильной, когда брата вынашивала, да не выносила…, – Любава перекрестилась, прошептав что-то, – отец в схватке с татарами сгинул, а я, сирота, при дворе великой княгини Соломонии оказалась… Только нет ее более… муж насильно в монахини постриг учинил… ныне вот здесь, у тебя… пожалел меня один из злодеев, продал… – опустила голову, замолчала Любава. Молчал и старик. Потом спросил:
– Сколько лет-то тебе?
– На Герасима-грачевника шестнадцать будет.
– Вот и моей Улле столько же… – подумалось Свену.
– Что я сижу все в светелке или по двору слоняюсь без дела? – Вдруг встрепенулась Любава. – Чем могу, хочу полезной быть тебе, господин!
– Не зови меня так. – Ответил купец, опять глаза его слеза застилала. – Ты и правда, дочь мою мне сильно напомнила. Зови, как у вас, отцов кличут. Ныне хочу я тебя заместо дочки своей видеть… Словно судьба свела нас вместе, я осиротевший, да и ты…
Так и стала Любава помощницей старому шведу. То-то радость старику. И работяща, и смышлена, не прошло и полгода, как болтала вовсю по-свейски. Думал старик, думал, да решился. Взял, как-то под вечер девку, да побрел, на плечо хрупкое опираясь, к пастору Веттерману, что тут же неподалеку проживал. Любава и не догадывалась зачем пошли. Старик частенько к пастору захаживал. Пиво пили, о делах судачили, что в государствах европейских творились. Пастор немцем был, долго служил в Швеции, в Кальмаре, потому свободно говорил и по-шведски. Годами гораздо моложе Свена, но умен. Рассказывал, что книгу пишет о Московии, о связях ее с государствами разными, о государях, политике, о народах многих, что живут здесь, о тех, кто приезжает, о том, что Европа о московитах думает. Любаша слушала, понимала многое, только все без интереса особого, что ей до стран далеких! Сердце о другом болело, да томилось. Что там с княгинюшкой любимой… На торге давно уже бирючи прокричали, что женился великий князь московский. Охнула тогда Любава, аж в глазах потемнело…
– Сживут ведь со света Соломонушку, ироды бессердечные.
Вышли они тогда со Свеном за ворота двора Немецкого, на торг прогулялись. Приодел ее купец в платье иноземное, никто, чтоб не догадался. Вместо платка привычного – чепчик темный. Чужестранка, и всё тут. Посреди толпы стояла Любава, куполам новгородским кланялась, молилась о спасении души княгини опальной. Народу вокруг много, никто и внимания не обратил, чего вдруг девку нерусскую поклоны бить угораздило.
А тут пришли к пастору, стал с ним хозяин разговаривать, как вдруг поняла все Любава – жениться хочет, да обвенчать их. Пастор закивал, ушел куда-то.
Хотела было возмутиться, но старик палец прижал к губам бесцветным:
– Молчи! Так будет лучше Любава. Для всех, а главное, для тебя. Чую конец мне скоро. На кого все оставлю. Родня моя далеко, да и увидишь их – сама все поймешь. Чужой я им. Все что имею, хочу тебе оставить. Ты и имя мое в доброй памяти сохранишь, а после… встретишь того человека, что тебя достоин будет, не то что я старик… Ныне веру лютеранскую примешь… – Любава замотала отчаянно головой, но старик был неумолим, – вера у нас едина, во Христа все веруем, крестимся едино, а что молитвы на латыни, так то не вечно. Пастор давно говорил мне, что грядут перемены, некий священник с Германии, с Вюртембурга, перевел уже все книги священные с латыни на шведский, да и в самом Стокгольме говорят многие на том же стоят… не упрямствуй дочка, делай, что тебе говорят. Лишь добра тебе желаю. Фамилию мою возьмешь. В делах моих ты не хуже меня самого управляться научишься. Одну просьбу имею, как помру, отвези на родину в Мору. Хочу в родной земле успокоиться.
– Да не хочу я! – уперлась Любава. – Как это женой?
– Не могу по-другому, пойми, дочка! – Продолжал упрашивать Свен. – Ежели удочерю тебя, не поверить могут, ни бумагам, ни пастору. Сама говорила от смерти едва спаслась… А как они одумаются? А так ты будешь ныне уже подданной другого короля, нашего шведского. Не достанут они тебя! Долго я думал… один выход – женой тебя сделать!
– Нет! – головой мотала.
– Вот упрямая! – Усмехнулся старик. – В точь, как Улла моя… хоть и малышкой совсем ее помню, но как топнет ножкой, губки надует, нахмуриться, как ты сейчас…
– Я ж тверская… – Рассмеялась Любава. – Про нас все говорят – упрямей нет!
– Соглашайся, дочка! Очень тебя прошу!
Молчала Любава, думала, поджав губы… Молчал и Свен. Потом девушка решилась:
– Об одном хочу тебя попросить…
– Проси, милая, все исполню… ты ж дочь моя… – развел руками купец.
– Дозволь мне как-нибудь в Суздаль съездить!
– Княгиню свою навестить? – Старик нахмурился.
– Да! – огоньки надежды в глазах вспыхнули.
– Опасно это! – покачал головой.
– На Руси жить опасно! – усмехнулась невесело.
Свен на стол ладонью плотно оперся, в глаза ей посмотрел:
– Давай так решим, сейчас свадьбу справим для виду, чтоб все и на дворе Немецком знали и в Новгороде, после Стокгольм навестим, покажу где я живу, как… К осени вернемся, и я помогу тебе. Слово! – впечатал таки ладонь в стол.
– Согласна!
Так и свершилось… Пастор Веттерман сперва в веру другую обратил, Уллой нарекли ее, как и просил Нильсон, после и обвенчал их по-быстрому.
Свадьбу справили скромную, в основном купцы-соседи были. Никто и не удивился скоропалительной женитьбе пожилого Свена Нильсона. В купеческой среде всякое бывало. Браки заключались не по любви, а по расчету. Разница в возрасте была делом привычным. Да не только в купеческой гильдии, во всех цехах так было. Молодые подмастерья охотно женились на немолодых вдовах, чтобы унаследовать мастерскую, место в цеху или в гильдии. Старики, потеряв жену, также не мешкали вновь связать себя узами брака для продолжения рода. Не найдя себе ровни, запросто брали в жены кого-то из молоденьких служанок.
Тосты звучали краткие, в основном, в честь хозяина. Про жену повторяли одно и тоже:
– Ева всегда должна быть на стороне Адама! – Или:
– Муж и жена едины!
Купеческие матроны, что прибыли со своими мужьями, были все как на подбор чопорны и молчаливы. Их черные одеяния скорее походили на траурные одежды, но никак не на праздничные наряды. Лишь у некоторых, на облегающих голову чепчиках, поблескивала пара-тройка жемчужин. Пили совсем немного – в купеческой среде пьянство осуждалось. Любава запомнила чей-то рассказ о некоем богатом купце, что приходился братом одной из присутствующих жен, который пьянствовал несколько дней, пил испанское вино, потом пиво, вышел на воздух, уснул, простудился и умер. Та, о чьем брате шла речь, скромно опустила глаза и несколько раз быстро перекрестилась.