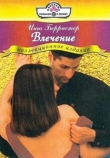Текст книги "Проклятие рода"
Автор книги: Алексей Шкваров
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 60 (всего у книги 80 страниц)
– Нет! – Вскрикнула женщина, затрясла головой и руками, с трудом отгоняя внезапно захлестнувшую ее волну страсти, после чего замерла, стараясь успокоить неистово бившееся сердце и отдышаться. Еще несколько минут она сидела, опустив голову, не смея открыть глаза и посмотреть в зеркало. Возбуждение, неохотно покидающее тело, сменялось злой досадой неудовлетворенности и болезненной тяжестью внизу живота. Наконец, Катаржина почувствовала успокоение, несмотря на оставшиеся неприятные ощущения недостижимости желаемого, понимания, что в этом никто, кроме нее, более не виноват. Она подняла голову, всмотрелась в свое отражение и недовольно нахмурилась. Напротив принцессы сидела красивая женщина, но лицо ее выглядело изможденным, уголки рта опустились, ровный румянец сменился какими-то красными пятнами, всегда плясавшие огоньки глаз потухли, под ними обозначилась невесть откуда взявшаяся синева. Катаржина потерла лоб – а это еще что за складки! Морщины? Прочь подобные развлечения! Что я себе позволяю! Мои глаза, мое лицо, мое тело могут излучать только любовь, манящую и чувственную. Любовь, которая сразу очарует этого юного герцога и будет вечным источником его жажды. Каждое мое прикосновение или взгляд должны вызывать в нем неутолимое желание. И не важно, как будет происходить их соитие – быстро и неистово, как ей только что представилось, или медленно, в постепенно нарастающей нежности. Важно другое – жажда любого проявления любви, переходящей в страсть или наоборот, должна быть неиссякаема! Но он никогда не должен привыкнуть к тому, что властная, сильная и непреклонная, как и ее мать из рода Сфорца, Катаржина может затрепетать под ним! Это будут лишь мгновения его потрясения и обоюдного наслаждения. А дальше все повториться сначала – пусть это будут его вечные танталовы муки. Жажда обладания ей и само наслаждение, рождающее новое желание. И так день за днем!
– Ну, хватит! – Сказала она себе, ощутив снова знакомое тепло внизу. – Я должна стать королевой! Я рождена быть королевой, и я ей буду! – Эти мысли помогли ей избавиться от фантазий плотских наслаждений.
Уподобиться сестрам? Ну, уж нет! Старшую, Изабеллу , никто не спрашивал. Мать выдала ее замуж в двадцать лет за престарелого Яна Запольски, короля Венгрии и князя Трансильвании. Через год она родила ему сына, а еще через месяц стала вдовой, в самый канун нашествия орд Сулеймана. Лишь милостью турецкого султана, взявшего Буду, ей была оставлена крошечная Трансильвания, да и ту быстро отобрал Фердинанд Австрийский, тесть моего братца-короля. Хорошо же отплатил этот Габсбург Сигизмунду Августу за двух своих дочерей, припадочную Елизавету и нынешнюю корову Екатерину, которых тот брал поочередно в жены. Бедняжка Изабелла… Катаржина и виделась с сестрой последний раз на свадьбе Сигизмунда с Екатериной семь лет назад. Видно мать прижала этого напыщенного Фердинанда, что тот вернул Трансильванию Изабелле с сыном. Только поздно. В прошлом году сестры не стало…
Потом эта история с несчастной Барбарой Радзивилл, которую сразу невзлюбила мать… Вторая сестра Катаржины – София так боялась Бону, что выскочила замуж за первого подвернувшегося – герцога Генриха Брауншвейского. Тот и вовсе семидесятилетний старик. Весело же ей теперь, нечего сказать. София могла и подождать – мать уехала вскоре после свадьбы, да видно уже невмоготу было.
Анна… ее последняя старшая сестра. Странная. Уединилась и живет сама по себе. Женихов не ищет, хотя, конечно, это дело брата-короля, а он словно позабыл про нее, да и свататься, никто не сватается к ней. Целыми днями вышивает, отстаивает все мессы… в монахини, что ль себя готовит… Не понятно.
Принцесса вспомнила отъезд матери. Тогда, наконец, она избавилась от опеки навязанных Боной фрейлин, этих чопорных дуэний, похожих на полумертвых истуканов, затянутых в глухие черные платья, словно это не одежда, а саваны, из которых отсвечивали смертельной белизной маски их лиц. Впрочем, они брали пример с вдовствующей королевы. Костюм Боны отличался лишь обилием серебряной вышивки и большим, осыпанным драгоценными камнями крестом. Хотя, в молодости, мать позволяла себе более открытые наряды. Катаржина видела одну гравюру с изображением Боны сорокалетней давности. Конечно, далеко от сегодняшних корсажей, роль которых открыть, а не скрывать красоту женской груди, но… мать смотрелась неплохо.
– Пресвятая Дева Мария и Святой Николай упокойте ее душу! – Катаржина перекрестилась. Через год после отъезда мать умерла от яда поднесенного ей верным советником Жуаном Лоренцо Паппекода, нанятым тем самым Филиппом Испанским, которого мать ссудила четырьмя сотнями тысяч золотых дукатов. Лучше бы отдала Сигизмунду! На войну с Московией. Мать похоронили там же в Бари, в базилике Святого Николая, и теперь сестра Анна хлопочет о пышном надгробии.
– Хотя… – задумалась принцесса, – если бы тогда Сигизмунд получил эти деньги, то он бы не нуждался сейчас и в герцоге Юхане, а, значит, это касалось бы и меня. Выходит, судьба…
Ах, как радовалась тридцатилетняя Катаржина избавлению от опеки этих набожных итальянок! Иногда она с любопытством наблюдала за ними и не могла понять – почему ее так волнует собственное тело, а их – нет! Плоть принцессы бунтовала, бурлила, выплескивалась, требовала любви. И вот пришел ее час, закрутил в вихре танца, бросил в объятия любовников… Но! Катаржина всегда помнила свою принадлежность к роду Сфорца. Страсть – да, но чувства и дети – для мужа. Два правила соблюдались ей неукоснительно. Уже сладкая тайная дрожь пробегала по телу, а губы обжигало горячее дыхание любовника, она всегда находила в себе силы в последний момент отстраниться, запечатать его рот пальчиком и отчетливо, хоть голос и прерывался, произнести:
– Так чтобы у меня после детей не было. Помни кто я! Тебе ясно, пан?
– Да, твоя милость! – Немедленно соглашался шляхтич, изнемогавший от желания утопить себя во влаге ее тела, но предупрежденный чьей спальни порог он переступил.
А после, эти задиристые и любвеобильные шляхтичи могли думать, что угодно, проснувшись в огромной кровати Катаржины, но любые попытки продолжить отношения после безумной, пронизанной огнем страсти, ночи, гасли, как свечи, одним дуновением губ принцессы:
– Это перстень Сфорца! – С легкой усмешкой, заранее наслаждаясь ожидаемым эффектом, Катаржина демонстрировала драгоценность случайному избраннику на одну ночь. Перстень со странным, неведомым ей камнем, принцессе действительно подарила мать на шестнадцатилетие. Он был велик Катаржине и не держался ни на одном пальце. Она быстро разгадала его секрет – камень сдвигался, открывая небольшую полость в золоте. Для яда! – поняла Катаржина предназначение потайного углубления. Конечно, принцесса и не помышляла кого-то отравить, хотя… вдруг пригодится. Зато кто не знает в польском королевстве о перстнях дома Сфорца? Интуиция никогда не подводила молодую женщину, и перстень всегда хранился в ее спальне, подле кровати.
Шляхтич, заставивший содрогаться под собой первую польскую красавицу, а потому возомнивший, Бог весть что о себе, на глазах немел, бледнел, с ужасом смотрел на предъявленный предмет, его любовный пыл превращался в животный страх, выступавший бисеринами пота на лбу, взгляд испуганно метался, то стараясь заглянуть в глаза Катаржине, то возвращаясь к перстню. Ее улыбка становилась еще коварнее, а губы тихо шептали:
– Эта ночь лишь твои сновидения. Одно слово и… – Тонкий пальчик осторожно сдвигал камень в сторону. Шляхтич униженно сползал с кровати на пол и божился Пресвятой Девой Марией и вкупе с ней прочими святыми, что его здесь никогда не было.
Лишь однажды, златокудрый красавец родом с Мазовии не испугался ее слов. Он с предсмертной тоской заглянул в глаза Катаржине и тихо ответил:
– Я готов умереть за свою королевишну!
– Значит, умрешь! – Качнула головкой красавица. – Уходи немедленно!
– Да, твоя милость!
Шляхтич поднялся с постели, неторопливо оделся, затем поклонился в ноги принцессе и с достоинством удалился, гордо подняв голову. Катаржина тут же позвала кого-то из служанок, приказала разузнать его имя и немедля написала краткую записку брату-королю с просьбой отправить шляхтича туда, откуда обычно не возвращаются. Спустя день она поинтересовалась, исполнена ли ее просьба.
– Да, твоя милость. – Склонилась перед ней верная Малгожата. – Я справилась у секретаря его королевской милости. Пан… – Но Катаржина приложила покачала головой, имя не должно произноситься, и служанка тут же осеклась, поправилась. – Сей пан отправлен к Днепру против татар.
А еще через месяц, та же Малгожата обмолвилась будто невзначай:
– Сей пан, о котором твоя милость спрашивала, погиб в сабельной схватке.
– Жаль его… но это его судьба – Подумала про себя Катаржина и тут же забыла. Это было ее третье правило! Один любовник – одна ночь. Никаких привязанностей.
И какая ж теперь ее ждет судьба? Она станет герцогиней? Да, сначала герцогиней, а потом королевой! Этот Эрик совершил глупость, нет, не глупость, хуже! Он оскорбил ее, предпочтя иных принцесс и королев, которые выдают себя за девственниц. Он глубоко пожалеет об этом, лишившись короны в пользу моего будущего мужа, ибо так решила я – Катаржина, чьей матерью была сама Бона Сфорца. Я буду править Швецией! – Она посмотрела в зеркало и была удовлетворена своим отражением. Перед ней сидела королева.
Глава 6. Опричь земного.
Тени метались вслед за язычками пламени, огонь беспощадно съедал воск свечей, ускоряя собственную погибель. Тени обступали со всех сторон, увеличивались в размерах, заползали на своды потолков, сталкивались, теснили друг друга, стремясь одна раньше другой нависнуть над головой, взять верх над царем, заставить его согнуться и затем уж растоптать… Стоя на коленях перед образами, Иоанн старался не обращать на них внимание, сосредоточившись на Спасителе – глаза в глаза, повторяя одно и тоже заклинание:
– Нет власти кроме, как от Бога! Кто власти противится, тот противится Богу, Его повелению. Кто противится Богу, тот есть отступник! Нет власти кроме, как от Бога…
Весенний ветер внезапно поменял направление, отчего легкий сквозняк, вгонявший в дрожь пламень свечей, прекратился, язычки замерли, вслед за ними застыли и тени. Иоанн краем глаза это заметил, левая щека чуть дернулась, то ли в усмешке, то ли в презрении. Царь медленно повернулся, окинул взором стены. Теней осталось двое. Иоанн поднял руку и скрюченным пальцем ткнул сначала в одну, затем в другую:
– Где ж третий ваш, Алешка Адашев? Сдох, как собака! Ни следа, ни тени его не осталось. Поделом! Вы с Сильвестром удумали, что царем я на словах буду, а на деле вы? Разве Бог, избавив евреев от рабства, поставил над ними священника и иных правителей? Нет! Единого царя Он им дал – Моисея, а брата его Аарона сделал первосвященником, запретив к мирскому приближаться. Вы же словесами, яко медом истекали, токмо вкусом полынь горькая была, ибо змеиный яд под языками вашими хранили бесам подобно. Думали, не чую, что советы ваши смердят гнуснее кала?
Царь поднялся с колен. Теперь, как и всегда, он выше ростом былых советников. Осмотрелся, выбрал: Сильвестр – слева. Тень протопопа съежилась под тяжелым взглядом:
– Ты, Сильвестр, взялся быть наставником души моей и плоти. Кем послан ты? Не будучи архиереем учить вздумал? Кого? Царя? Сына учил бы, ан нет, Анфимку к таможне приставил. То от беса в тебе! Свою душу спасать надобно, иное о душах и телах других печься. Не ты ли, поп, в сомнения впал, когда тело мое изнемогло в струпьях болезни, крест моему первенцу целовать отказался? Отчего ж? Под свою власть державу умыслить захотел? Токмо от попов главенствующих царства разоряются, а не богатеют. Считал свои молитвы умными, да токмо моей просьбой о милосердии Божьем Казань агарянская пала вместе со всеми нечестивцами.
Не вы ли, все, с собакой Адашевым, сгубили мою голубицу Настасьюшку? – Раскалясь добела, Иоанн плюнул злобной шипящей слюной на стену, – ибо токмо в ней видел заводь тихую души моей, без омутов злокозненных ваших, куда советами словно путами на дно утягивали, где не зги света Божьего не видно во век. Так бы и пропал там чрез козни ваши лживые. Но просил сам у Господа, просил сердцем, чрез вас ставшим скверным, просил душой, чрез вас ставшей окаянной, дать мне узду помощи Божьей и Его спасительное прибежище. Здесь, – обернулся, глянул на иконы, перекрестился истово, до боли персты в грудь, плечи, лоб вонзая, славя губами пересохшими Отца и Сына и Святого Духа и Богоматерь, – здесь прозрел, у ликов святых. Сам. Не по наущению твоему, Сильвестр, а чрез молитвы, слезы, да плоти умерщвление после безвременной кончины моей Настасьюшки. – Царь закрыл глаза, склонил скорбно голову, зашептал заупокойную. – Господи, души рабов твоих…
Отмолившись, вернулся к протопопу:
– Ты, Сильвестр, ныне свои грехи замаливай за гордыню злонравную! В келье отрекись от суеты мирской, то малая плата, ибо Господь и аз милосердны! Собаке же Адашеву, яко и роду его, да будут муки вечные, гореть им в геенне огненной. Не ты ли, Алешка, из грязи мною поднятый, более всех зло удумал, злом же за доброту и мягкосердие отплатил. Не по твоему ли наущению к Максиму Греку меня понесло совета искать? Ох уж, мне эти советники! А что нашел? Смерть царевича за поклон святым образам Кирилло-Белозерской обители? Не с Алешкиного ли помысла под кормилицей с дитем сходни рухнули? Не с его ли козней умерла Настасьюшка? Собака! Холопья душа! Весь род Адашевский повыведу, выжгу каленым железом!
Царский гнев вспыхнул с прежней яростью. Иоанн распрямился, взмахнул широкими рукавами одеяния, пригожего чернецу, но не властелину. Тени метнулись в разные стороны, разбежались в страхе, сопровождаемые скулежом ветра в печных трубах.
Кой уж день проводил Иоанн в добровольном заключении. Никого не принимал, ни бояр с дьяками, ни даже царицу Марию Темрюковну не подпускал к себе. К еде, вину, что приносили в царскую опочивальню, почти не притрагивался. Только воду пил много и жадно. Почти не спал, проводя дни и ночи перед иконами или в трудных беседах – обличениях с тенями прошлых советников, то смиряясь, то вспыхивая.
Как весна на лето повернула, стал отходить от поста молитвенного себе же назначенного. Неожиданно замерзать начал, холод палатный пробирал до мозга костей. И до того откуда-то задувало, из дверей ли, из окна, плохо заделанного на зиму, но царь не замечал холодного дыхания ветров. А тут, как весеннее солнце пригрело, по обыкновению топить стали через день, больше для очищения застоявшегося, прелого воздуха. За зиму скопилось много запахов – от лука с чесноком до мехов залежалых.
Обнаружив остывающую печь, прошипел зло:
– Дров царю жалеете, ироды? Заморозить удумали?
Испугались до смерти, расстарались. Истопники, сыны боярские, отталкивая друг друга, непрерывно запихивали в ненасытную топку все новые и новые поленья. Теперь, казалось, что не дрова, а сама печь потрескивала от жара.
Царь прижимался спиной, чувствовал сквозь мех шубы, как тепло проникает в плоть, растекается по жилам ощущением добра, надежности, защиты, словно обнял и согрел кто-то ласковый, нежный, сильный. Когда пробивал пот, жар выступал бисером капель на лбу и румянцем на щеках, поворачивался лицом к печи, пристально разглядывал в мерцающих сумерках расписные изразцы. Отблески свечей заставляли двигаться персонажей рисунков. Люди охотились на зверье, преследовали, настигали, те защищались или смирялись с предрешенной участью. Как на ладони были видны все уловки и хитрости ловчих. Но положение менялось. Теперь загнанные животные в ярости нападали на охотников, не взирая на рогатины и стрелы, с неба камнем падали вниз соколы, целясь острыми клювами и когтями в голову, и те, кто возомнил себя ловчими, да сокольниками в страхе разбегались в разные стороны. Добро и зло перемешивалось, и было непонятно, где одно, где другое. Иоанн видел все мелочи – оскал клыков, пену бешенства, остроту когтей и клювов, страх в глазах преследуемых. Крови не было – сюжеты изразцов обрывались, словно не досказанная сказка, как недопетая песня. Это раздражало и одновременно смешило царя.
– Людишки…, – усмехался недобро, – ничего-то до конца довести не можете. Ловчие, да сокольники и не заметили, как сами стали дичью. Отчего ж? Оттого, что без царя живете, без страха Божьего.
Летом, словно очнувшись, одним словом вздыбил весь двор. Ехал молча впереди, окруженный рындами и поддатнями , да ближними лутчими людьми – другом детства князем Иваном Мстиславским, братом царицы князем Михаилом Черкасским, князем Афанасием Долгим-Вяземским, боярином Алексеем Даниловичем Басмановым-Плещеевым с сыном Федором, сродственниками покойной Анастасии двоюродными братьями Захарьевыми-Юрьевыми Никитой да Василием . Позади теснились возки с царицей и царевичами, митрополитом, боярами, дьяками, шагали стрельцы, мерно покачиваясь под тяжестью бердышей, за ними тащились обозы дворовые, да военные. Сперва в Никитский Переяславский монастырь направились, освящать собор. На заутрене и литургии Иоанн пел на клиросе. После приказал в Троицкую обитель везти, задумал мощам Св. Сергия Радонежского поклониться для помощи, милости и устроению его царскому державству великой Руси. У мощей приказывал подолгу оставлять в уединении, допуская прочих лишь на службы церковные. На людях в глубоких поклонах, на коленях ли пред святыми иконами все косил глазами по сторонам. Измена! Везде одна измена! Была Адашева, Сильвестрова, Курбского, а ныне чья? Старицкие, Шуйские, Бельские – не лучше. Никому верить нельзя! Царский взгляд ловили, замирали в страхе, отводили глаза, словно скрыть что хотели. Что скрыть? Измену? Насмешку? Или просто страх?
Из Троицкого в Спасо-Андронников, после в Иосифо-Волоколамский монастырь, метался, словно заранее искупая будущие великие грехи.
Прошлой зимой, как удачно все складывалось. Полоцк взяли, а после… после одни смерти – брат Юрий, младенец царевич Василий, что родила Мария Темрюковна, за ними владыка Макарий… Литовцев не удержали под Улой, князь Петр Шуйский пал на поле брани… Кругом измена боярская – Репнин, Кашин, Овчинин, Шереметев! Велел казнить! По смерти Макария указал собору поставить в митрополиты Афанасия, бывшего протопопа Благовещенского, клобук белый ему дозволил носить, а он… первым делом за бояр, в делах изменных замешанных, заступаться вздумал. Тут и Курбский в бега на Литву подался!
Обида на Курбского особо донимала. Ладно, эти, Сильвестр с Адашевым, из праха поднятые, прахом и остались, хоть в мыслях, хоть в деяниях, суть одна. Но ты-то, князь! Сбежал к латинянам. Не токмо царя своего, но и веру продал за серебряники ягеллоновские! Трусливее раба своего, с коим письмо отправил. Тот смерть принял честную, оставшись верным своему господину, его же от бесчестья по-глупому недомыслию спасая. Видно, лжива была твоя храбрость, князь, что сказывали под Казанью ты явил. Трус, бросивший женку с дитем малым, раба на смерть вместо себя пославший. Нет, неспроста ты, Андрей, яро отговаривал меня на Литву идти, ибо задолго умыслил измену свою.
После монастырей объехал тюрьмы, сопровождаемый Басаргой Леонтьевым, в чьем ведении все московские темницы были. По списку, поданному Разбойным приказом велел отпустить душегубов и воров. Зачем? Задобрить Господа милостью к падшим? Дабы прощенные возносили молитвы за него? Вспомнились слова Спасителя сказанные татю распятому с ним: «Истинно говорю, сего дня будешь со мною в раю!» Устыдился подобного.
Царь возвращался в Москву, заглядывал в Грановитую палату. На трон не садился, шагал из угла в угол, мерил бесконечными часами. Ступал бесшумно, лишь посох гулко ударялся о каменный пол, следуя за биением царского сердца. Гневается? В думах? В тревогах? Измену ищет? Крамолу? Чего ждать? – терялись все в догадках. Из Кремля слухи расползались по Москве, а из нее вместе с гонцами, воинскими командами, крестьянскими обозами дальше по всем дорогам и весям Московии. Замерла Россия. Не пиров, ни приемов посольских, словно пост неурочный наступил.
С каждым шагом царское слово в пол впечатывалось, спор бесконечный продолжая:
– Сами благочестие нарушили! На державу, данную мне Богом, покусились! Возомнили будто мудрость ваша превыше моей, самим Господом Богом с помазанием Божьем врученной. Уподобились бесноватым, Божий суд править решили, яко собаки последние. Противны вы стали мне, Богу, святым и преподобным. Яко святые страдали от бесов, так и я терпел от вас. Сказано апостолом: «К одним будьте милостливы, отличая их, других страхом спасайте!» Сам апостол речет спасать и образумлять страхом! Чрез страх обращу людей к истине, дабы познали единого истинного Бога, в Троице славимого, а с Ним и данного Богом государя!
Видел, хоть и помнить не мог, ибо в бреду горячечном метался, а ныне предстало будто наяву, (со слов верных Захарьевых-Юрьевых – родни Анастасии), как толпились в опочивальне царской крамольники, шептались, трясли гривами, да бородами сивыми, переглядывались, морды кривили, мол, не хотим малолетнего царевича на царство. Князь Андрей Старицкий со своей ведьмой матерью вовсе затаился, своих детей боярских жаловать принялся. К нему бегали, челом били, крест целовали на верность, коль не станет государя Иоанна Васильевича. Наяву видел сейчас, как выползали жужелицами из опочивальни, а дальше бегом, бегом, подобрав длинные полы шуб своих, на подворье Старицкое и мигом обратно – жив ли еще государь, не отдал ли Богу душу. Собаки! Как приходить стал в себя, так все возвернулись. И Андрей Старицкий с ними… Господь внял моим молитвам, рассудил верно – нельзя царство на младенца с матерью оставлять. В распрях Русь погрязнет, раздерут на уделы, все завоеванное кровью христианской агарянам возвернется, крымчакам на разграбление. Мятежный Новгород вновь о вольностях вспомнит, а тут и свеи, и поляки, и немцы и литва… Где слабовольному Старицкому справится, даром, что Рюрикович, да не тот! Погодьте, придет время, всем воздам по делам вашим, по изменам, да крамолам, за шатание, за неверие. Живите покуда милостью Божьей, да моей.
Прервав хождение, останавливался у окна. Сквозь цветное стекло проникал будничный свет, а вместе с ним и наружные звуки: скрип колес, цокот копыт по булыжной мостовой, лошадиное ржанье и всхрапы, брань челяди, окрики стражников, бряцание оружием. Внезапно царь ощутил тоску одиночества. Она давила, как низкое небо, затянутое свинцовыми дождевыми облаками безысходности.
Что происходит с душой, когда она высвобождается из плоти. Им овладело странное чувство неуверенности, перерастающее в убежденность неподвластности ему, царю, того, что случается со всеми после кончины. Тоска усилилась, добавилось смятение и беспомощность. Здесь и сейчас я – владыка души и плоти любого. А там? За той чертой власть государя бессильна? Он закрыл глаза и представил, как отделяется душой от собственной плоти. Душа поднялась, посмотрела с высоты на брошенное, замершее, чуть сгорбившись у окна, тело. Многомесячный, с самой зимы, пост истощил плоть, хищный нос нависал над искривленными губами, на лице все жилы выступили, налившись кровью. Тело выглядело чужим, не своим. Душа огляделась и заметила две толпы. И в одной и другой были все сословия – князья, бояре, епископы, дети боярские, торговые и посадские люди, воины и крестьяне – весь русский люд. В одних Иоанн узнал казненных и ввергнутых в опалу, в других одаренных милостью или прощенных. Первых было намного больше. Но властен ли он над ними? Отсутствие ответа раздражало, вызвало гнев, а тот в свою очередь вынудил ум извернуться.
Иоанн закрыл глаза и осторожно глянул в кромешную тьму. Сначала ждал, что из черноты ночи, опустившейся на него, появится хоть какой-то лучик света. Но ничего не происходило, тогда царь сильно зажмурился, надавил пальцами на глазные яблоки. И свет появился, сперва обозначившись крохотной звездочкой, огоньком, надавил сильнее, тьма раздвинулась и вспыхнула огнем, в миг превратившись в грозного Божьего ангела, спешащего на помощь царю, ведь он – помазанник Его.
Иоанн резко отнял руки от лица, открыл глаза, щурясь и привыкая к дневному свету. Повернулся, медленно подошел к рындам. Долго всматривался в побледневшие от страха юные безбородые лица. Белее одежд своих становились сыны боярские, кровь в жилах остывала, мороз по коже скреб, не то, что шелохнуться, вздохнуть было боязно. Лучше умереть, чем взгляд государев выдержать. Лучше умереть, чем в беспамятстве свалиться. Так в столбы ледяные и превращались. А царь отвернулся и вновь зашагал из угла в угол.
Шаги, шаги… сколько их? Тысячи, десятки тысяч, сотни, тьма? За каждым мысль, трепещущая, гневная, колеблющаяся, отрицающая предыдущую, утверждающая иное, бранная, милостивая, но обрастающая плотью-кровью будущих свершений, твердых, как камень, безжалостных, как сталь, обжигающих, как огонь небесный.
Услышав колокола, призывающие звоном к службе, царь резко поворачивался, покидал палату. Рынды, замершие словно деревянные истуканы, расслаблялись, посеребренные топоры едва из рук их онемевших не вываливались. Приходила смена, а отмучавшиеся на негнущихся ногах, шатаясь, как пьяные, уходили вслед за царем.
Жгла душу затея, пока неведомая, рождалась в собственных иоанновых муках, в брани на былых советников.
– Иное обустройство Руси надобно! – Вставали пред глазами видения, остановившись подолгу всматривался в росписи стен палатных, со святыми, со Страшным судом. – Беды земские, тягу к изменам чрез подвижничество монашеское превозмочь. Царь есмь замысел Божий на земле, чрез человечьей плоти страх дойти к истине страха Божьего, спасая души всех. Плоть есть поле брани диавольского и божественного, брани за спасение души. А кому душа не нужна, казнить будем лютой смертью, поганой, нечистой, топить в болотах гнилых, пятерить без причастия, без крестоцелования, без отпущения грехов, да скармливать зверью дикому и собакам. Будут их души бродить вечно, заложными мертвецами, покуда их сам Господь не рассудит! Искореним крамолу и измену, где плотью истерзаемой, где молитвой. Чрез плотский страх к Его истине придем все. Что отшельники в своих пустынях ведают? Они агнцу беззлобному подобны, аль птице, что не сеет, не жнет, не собирает в житницы. Чернецы, от мира отрекшиеся, хоть и равные среди равных, жить должны по заповедям, да уставам. Не соблюдают их – житье расстроится! Священство должно жить в строгих запретах на зло, да любит славу, почести, сребро и злато, равными быть не могут – протопоп архимандриту подчиняется, тот епископу. Царская же власть превыше всех. Ей дозволено страхом, запретами и обузданиями бранить безумие злейших, изводить чрез истязание плоти измену душ. Я Богом избран, дабы и народ мой избранным стал. Не Римом Москва будет. Русь – не Ромея, не в Рим, в новый Израиль воплотится с небесным Иерусалимом над ним. Над земством подниму новый град, сиречь Иерусалим, по образу монастырскому его выстрою. Не царем, но игуменом земли Русской буду! Обитель – создание Божье, наверху игумен, под ним братия подвластная, ниже – послушники, совсем внизу – люд, на земле живущий. Опричь земского одно лишь небесное!
От свейского короля Ирика послы прибыли. Ждали воли царской о разделе Ливонии. Но не лезли дела повседневные в голову, иными мыслями занятую. Все давно уже казалось пустым и бессмысленным, как паутина, неведомо кем сотканная в самом дальнем углу, куда и случайная муха не залетит. Вызвал Басманова – отца, ему поручил разговоры вести. Боярин докладывал, изредка подглядывая в грамотку:
– Прибыли от короля свейского Ирика бояре Исаак Нильссон, Ханс Ларссон и воевода их главный Хенрик Классон Хорн. С ними толмач Франц Ерихов. Видеть их не желаешь, государь?
– Не дуруй! – Угрожающе откликнулся царь. – Нешто сам бездарен, не справишься?
– Справлюсь, государь. – Опустил голову Басманов.
– Что там у нас с ними?
– Подтверждаем со свеями мир на семь лет, их право на Колывань, Пернов, Пайду и Каркус с уездами. За нами Ругодив . Свеям в сей город приезжать и торговать дозволяем. Следующим летом, к Ильину дню , в упомянутые города, что за свейской стороной оставлены, присылаем и мы и они межевых судей по три в каждый город дабы рубежи уездов обозначить. Далее города перечислены, куда свейскому королю вступать воспрещается, наше согласие на обмен перебежчиками, вольная торговля всем, равно езда послам и купеческим людям. Свейский король не смеет помогать ни Польше, ни Литве, коль те умыслят напасть на нас.
Царь постучал посохом, кивнул головой согласно:
– Пусть в Юрьев отправляются. Там боярин Михайло Яковлевич Морозов с ними грамоты подпишет.
– Дозволь идти, государь? – Басманов склонился в поклоне.
– Погодь! – Иоанн поднял палец вверх, что-то припоминая. Была заноза какая-то в свейских делах. Запамятовал в заботах. Вдруг кольнуло – Катерина Ягеллонка, что отвергла с братом-королем его сватовство по кончине Анастасии, предпочла ему юнца, сводного брата свейского короля. А тот измену умыслил против законного правителя, в мешок каменный ввергнут ныне. И женка Катерина с ним. Зажглась в груди жгучая горечь застарелой обиды. Самое время отмстить!
– Скажи, Данилович, послам свейским, коль их король Ирик отдаст мне Катерину Ягеллонку, братом своим признаю, равным пожалую. Дозволю сношаться со мной не чрез наместников, а прямо. А до того более не хочу слышать о нем. Так пусть и скажут своему Ирику – царь желает Катьку заполучить!
– Катьку? – Невольно повторил за ним боярин. Опытный Басманов давно ничему не удивлялся. Но тут и он не сумел скрыть недоумения. Оно помимо воли Алексея Даниловича промелькнуло в глазах и потухло тут же в безразличии. Ведь речь шла даже не о боярской дочери, царь требовал выдачи сестры польского короля и невестки свейского. Словно дань. Но воля царская – воля Божья.
От пытливого взора царя не ускользнуло мимолетное смущение Басманова. Иоанн поманил пальцем, мол, подойди ближе. Когда боярин осторожно приблизился, поднявшись на ступенях к самому трону, почтительно склонил голову, то услышал чуть различимый шепот:
– Женюсь на ней!
Иоанн сам не ожидал от себя таких слов. Они вырвались одновременно с осенившей его мыслью. Адашев, Сильвестр, Курбский, измены боярские, обустройство царства заполоняли голову долгие месяцы, отодвинули от него нынешнюю царицу – черкешенку. Только сейчас царь понял, что и не вспоминал ее. Мария Темрюковна предстала неким предметом, обязательным, почти неодушевленным, относящимся ко двору, как прочая челядь по чину, сопровождавшая царя на пирах, приемах, выходах или выездах. Иоанну более не нужны были ее горячие ласки. Когда ж Темрюковна пыталась-таки приблизиться к нему, напроситься в опочивальню, Иоанн одним движением грозно сведенных бровей пресекал ее порывы, ощущая не безразличие, но пресыщение. Царь задумался – когда наступил этот перелом? Ведь она нравилась ему раньше. Иначе бы и не сделал царицей. Ее сверкающие черные глаза, презрение к любой одежде в моменты близости, смуглое обнаженное тело, диковатые ласки, стоны и крики в беспамятстве страсти на чужом для царя, черкесском языке, все пробуждало в Иоанне бешеную похоть. Плевать он хотел на посты и церковные запреты, представив себя с ней в опочивальне. Но сейчас… одно пресыщение. Может, когда умер их сын Василий, душа царя омертвела? Какая теперь разница. Все это время он жил, как чернец. Ныне ему нужна Ягеллонка! Вспыхнувшая внезапно обида вкупе с пробудившейся жаждой мщения всколыхнули давнюю тайную похоть к недоступной, пока что недоступной, польской красавице. Ему пришлось отступиться на время, попытаться забыться с черкесской княжной. Изворотливый ум подсказывал – добьюсь своего, сломлю чрез свейского короля гордую полячку, заставлю трепетать под собой, а вместе с ней и всю Польшу с Литвой! Заставлю проклятого еретика Сигизмунда чрез женитьбу отдать без боя захваченные города Ливонии, а там, глядишь, и всю Литву – в ней немало православных бояр и шляхты, готовой отъехать под мою руку. Заодно и собаку Курбского заполучу. А на Темрюковну, ставшую безразличной после кончины Василия… что с ней… опалу возложу, удалю в монастырь, а будет артачиться, удавлю вместе с братьями. Но об этом пока молчок. Пусть Ирик свейский не дурует, а выдает мне Катьку, все едино в заточении гниет. Пораскинет мозгами молодыми – стоит ли мир одной бабы, хотя бы и в родстве чрез сводного брата Юхана состоящей. В темницу ведь не зря упрятал сродственника. Те ж одни измены, да крамолы в ихней Стекольне. Удавил бы давно Юхана, вот и вдова на выданье мне поспела бы. В слух Иоанн не произнес ни слова, но верный Басманов угадал ход мыслей правителя и восхитился царским замыслом.