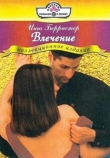Текст книги "Проклятие рода"
Автор книги: Алексей Шкваров
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 61 (всего у книги 80 страниц)
– Преклоняюсь пред мудростью твоей, государь! – Склонился в глубоком поклоне. – Токмо перст царский – свет Божий! – Высказался умиленно и подобострастно. И уже вдаль заглядывал – черкесов Темрюка при дворе перебить не в тягость, передушим, как котят. Свейскому королю урок и милость царская – равным признает. Горделивую полячку проучим. Выбьем спесь из братца ее, Сигизмунда. Велик, да еще как велик, наш государь! Без крови, одной бумагой, одной печатью ту бумагу скрепляющей, мало того, что мир наступит, так сколь крепостей, городов, земли сколь получим с припасами и мужиками!
– Все! Тебе, Данилыч, известна ныне воля наша царская. В Юрьев послов свейских, в Юрьев, к князю Михайле Яковлевичу!
Обрела, наконец, мысль царская образ зримый. Вот он, Иерусалим небесный – слобода Александровская! В ней будет расти обитель выстраданная, что градом Божьим станет. Отсюда благодать Божья и царская на земство снизойдет, души человечьи спасая. Так и объявил ближним своим – Мстиславскому, Вяземскому, Черкасскому, Басмановым да Юрьевым:
– Не царем, но игуменом буду! Объявлю свой удел – опричнину, от всего иного, земского. Оставлю Москву! – Иоанн замолчал, наслаждаясь растерянностью ближних, стоявших перед ним.
Князь Иван Мстиславский морщил лоб, пытаясь постичь умысел царский. Афанасий Вяземский, насупив брови, в пол уставился, словно там разгадку искал. Михайло Черкасский – кровь горячая, встрепенулся, блеснул глазами. Юрьевы просто молчали, в лице не изменившись. Басмановы, одинаково косматые, похожие друг на друга, лишь в масти отличия – отец чернявый с проседью серебряной, сын в рыжину больше, в упор смотрели на Иоанна, не раздумывая ни о чем, лишь ожидая какой указ последует, что делать, куда бежать, кого казнить, кого миловать, как лучше волю царскую исполнить!
– Все опричь земного – небесное. – Усмехнувшись краем рта, царь начал пояснения. – Царство мое уподоблю монастырю, дабы все в вере неразрывной пребывали, в братстве, но в страхе Божьем, яко и в милосердии Его! – Иоанн перекрестился, за ним и все присутствующие, а Басмановы добавили хором:
– Славится Господь наш в Троице святой и государь Иоанн Васильевич!
Мельком взглянул на них – не лукавят ли? Нет, смотрят широко распахнутыми глазами, словно псы верные в ожидании взмаха руки царственной – то ли кость швырнет, то ли загрызть кого велит, все едино. Верно, псы, не собаки. Пес хозяину верен, и смерть от руки господской примет и в клочья изменщиков – крамольщиков порвет. Такие и нужны. Метлой мести, клыками рвать мясо, челюстями кости сокрушать. Как Тимерлих – пес ангельский. В аду ли, в раю, в земстве повсюду нужны псы – братство иноческое, одной верой, одним уставом, одной кровью помазанное, загрызут и выметут крамолу. Встанет облаком Божьим новый Иерусалим с десницей карающей и милосердной – царской, ибо аз – помазанник Господа нашего. За все ответ един буду держать пред единым Создателем нашим.
– Тебе, князь Афанасий, тебе князь Михаил, и вам, Басмановы и Юрьевы, – Вяземский встрепенулся, поднял голову, глаза впились в лицо царя, но под острым взором вновь потупился. А этот, не мыслит ли чего? – мелькнула мысль у Иоанна, но князь посмотрел иначе, виновато, не смел, мол, так глядеть на повелителя. Царь успокоился. Басмановы по-прежнему пялились преданно. Юрьевы смотрели спокойно. Иоанн держал паузу, опустил взор долу, легонько постучал посохом об пол, продолжил, – вам набрать поручаю людей лутчих. С тысячу. Каждый поручится за другого. Лучше десять за одного. Выбрать самых верных, отдать боярину Алексею Даниловичу, он имена нам зачтет, самолично переберу, дабы не затесались крамольники лукавые. То будет наша братия, новоиерусалимская, безгрешная. По заслугам смотреть, не по месту! Слободу Александровскую рвами укрепить, стены бревенчатые в камень одеть до самых стрельниц. Ты, князь Афанасий, и ты, князь Михаил, в слободу отъедите. Все про нее сказанное – исполните. Но людишек перебрать первым наперво!
– Кои сроки дашь, государь? – Хрипло прозвучал осторожный вопрос Вяземского.
– Сроки? – Усмехнулся царь. – Думал, Афанасий, сорок сороков отпущу? – Вяземский вновь стушевался. Усмешка исчезла с лица Иоанна. – В декабре тронемся на богомолье, через Троицкий монастырь и Коломенское, а завершим его в слободе. Там и станем главой новой Руси, нового Израиля. Дело сие с великой молитвы и поста рождественского зачнем. Яко Христос, – царь перекрестился, за ним и все остальные, – в яслях родился, тако и мы родимся в слободе, явим себя народу православному.
– Вам, Захарьины, – кивнул двоюродным братьям Юрьевым , – велю всю казну, весь двор к отъезду готовить. Из церквей забрать образа почитаемые. В канун, – пояснил, – о том, мы объявим особо. Волей царской брать! – Добавил твердо, заметив сомнение в глазах боярских.
Закивали головами согласно – все исполним! Один Мстиславский стоял неподвижно, так и не понимая до конца, что умыслил государь. Растерянность князя не укрылась от царя.
– Что, Иван, молчишь? Мыслишь, забыл о тебе? – Иоанн смотрел без улыбки, но приветливо.
– Твоя, государь, ноша самая тяжкая. Тебе обо всех нас, грешных, помнить, думать, вразумлять. – отозвался Мстиславский.
– Верно молвил, князь. – Царь кивнул головой. – Наша власть превыше священнической, ей одной ответ держать за грехи общие, оттого мой венец – шапка Мономаха тяжелей кедра ливанского из коего крест Спасителя сколотили, из коего посох сей, – постучал железным концом по полу, – сделан. Грехи наши тяжелее, ибо зло это, а зло всегда добро перевесит. Добро же – вера наша, страх Божий, страх царский. Подул ветерок, унес страхи, с ними и вера улетучилась. Что осталось? Ядра каменные грехов к земле прижали, цепи ноги опутали, потянули в узилище адово. Страх чрез плоть вернуть надобно. Потому что ядра, да цепи те, сиречь грехи человечьи, не на плоти обретаются. Плоть она глупая, безумствует, пороками, изменами, крамолой душу развращая. Чтоб до души добраться, сорвать тяжесть каменную, терзать плоть человечью будем. Страх, яко посох, аль поводырь слепца, поможет идти по жизни к истине веры. Мы будем поводырями и судьями в едином лице.
Царь оставил посох, прислонив к подлокотнику трона, поднялся, легко спустился вниз к Мстиславскому, одну руку положил на плечо князю, другой на пол показал.
– Вот, где мы ныне! На земле. То земщина наша, – ткнул сперва себя в грудь, потом указал на Басмановых с Юрьевыми и Вяземского с Черкасским, перечислил, – царь, бояре со своим местничеством, дрязгами, крамолой, с ними дети боярские, архиереи, игумены, священство с иноками. Тут же и все прочие – торговые люди, вои, крестьянство, казаки, холопы, бабы и ребятишки. – Снова о себе вспомнил, повторил. – И царь? Где царь-то, Ваня?
Мстиславский замешкался с ответом, переводил глаза то на государя, то на опустевший трон.
– Вот-вот, – закивал царь головой, поймав движение глаз боярина, – пусто там, куда поглядываешь. Надобно, дабы земщина осталась там, где стоим, а выше, – отпустил плечо Мстиславского, шагнул обратно, на степень поднялся, – братия новая обретаться будет, опричь земских, над ней, взлетел к трону, – царь – игумен. По сему, государство наше, – Иоанн подхватил посох, взмахнул им, отсекая черту невидимую, – поделим, земли перемешаем, от мест родовых кого нужно оторвем в казну нашу, в свой удел, одарим верных. Всю крамолу земщине оставим, ей же и опалу объявим, после снимем по заслугам, да безгрешности. Оставшихся же крамольников выгрызем. Понял ныне, Иван Федорович?
Мстиславский качнул головой.
– Все в земщине останется, как прежде. – Продолжил царь. – Дума, бояре, войско, митрополит… и ты, Ваня, там останешься. – Закончил торжествующе.
– За что немилость такая, государь? – Пробормотал князь побелевшими губами. Мстиславский изменился лицом, медленно опустился на колени. Афанасий Вяземский с Алексеем Даниловичем, Юрьевы смотрели безучастно, младший Федор Басманов ухмыльнулся, князь Михаил Черкасский удивленно мотнул головой.
– То не опала, боярин. – Чуть раздражаясь непонятливости, вынуждавшей давать пояснения, сказал Иоанн. – То око государя твоего. Ты, князь Иван, един одинешенек из отрочества нашего, здесь стоишь. Верен, предан нам. Кому ж мы можем отдать самое тяжкое в доле нашей?
– Прости, государь, раба твоего за неразумение, за скудость ума. Не угнаться за быстротой твоей мысли. – Мстиславский припал лбом к полу.
– Встань, боярин. Не возводи на себя напраслину. – Услышал голос над собой. – Ты в меру умен, без меры предан. Ты – человек, не царь. Можно ли требовать большего от тебя, нежели Господь отпустил. Мы всем довольны и хвалим Бога за то, что ты, Иван, есть у нас. Встань с колен! – Подождал пока Мстиславский кряхтя поднимется, обнял его за шею, нашептал в ухо. – Да и не един в думе боярской останешься. Князь Иван Бельский с тобою. И за ним присмотришь тако же.
– В чем доля царская? Бремя ли она? – Иоанн замолчал, задумался. – Давит ли что на плечи? Нет, нет тяжести. Напротив, легка плоть. Царь есмь тот, кто взяв державу, видит в ней не бремя, а волю. Упали путы, отвязались гири, крылья ангельские выросли. Власть царская – власть Божья!
Бояре ближние крепко задумались. Все понимали – вблизи царя легко обжечься и весь род свой спалить, но и по-иному, вдалеке – замерзнуть недолго. Выбирали первое. Свой род поднять повыше любого дорогого стоит. Супротивникам извечным перейти и заслонить дорогу, а кто из обедневших, да захудалых, сам Бог велел. Не упускать же, коль государь велел все по иному в царстве переиначить! Сам зовет за собой, сам к себе приближает!
Теперь одна забота – людей перебрать, связать поручными записями. Для верности. Каждый своих потащил. Чем сродственников, да преданных людишек будет больше, тем легче пред царем выслужиться, да и иных свалить напрочь. Князь Афанасий Долгой-Вяземский сильно встревожен был – где их столько набрать, супротив родовитых Басмановых-Плещеевых, что с Юрьевыми-Захарьиными, да с князем Черкасским в сродстве состоят. Вяземские, младшая ветвь смоленских князей, давно захудали, хоть и служили по дворовому списку, в именных посылках не бывали, не говоря про думские чины. У большинства и титул княжеский упоминался лишь при имени отца. Вся надежа на Афанасия, он любимый оружничий царский. Он один ныне за род ответственен. Вот они, все вместе – Александр Глухов-Вяземский, Андрей Зайцев-Вяземский, Дмитрий Лисица-Вяземский, Юрий Волк-Вяземский, да с ними Василий, Семен и Тимофей. Кого ж еще? Кто верен?
– Гришка Ловчиков, да дьяк Иван Реутов, этих по кошу в полоцком походе знаю… кто еще? Михаил Безнин. Есаулом был в полоцком походе. Государь привечает, кто на Полоцк ходил с ним. После я его приставом к послам литовским пристроил. Государь согласен был, припомнил, как Мишка под Полоцком подъезжал к воеводе Ивану Черемисову, что разговоры о сдаче вел с тамошним писарем Лукашем, кричал им: «Надоело-де сидеть сложа руки, почто государевой рати без дела томиться!».
Алексей Данилович список царю подавал. Иоанн придирчиво заслушивал, переспрашивал почти о каждом.
– Очины-Плещеевы… – перво-наперво Басманов с родни начал, – Захарий, Андрей, Иван, да Никита Ивановичи, воеводы Ивана Григорьевича сыновья. Захарий, если помнишь, государь, в полоцком походе окольничим был.
Иоанн кивнул головой и припомнил:
– Опосля в полон угодил, когда из Полоцка на Литву ходили. Так?
– Да, государь. Третьим воеводой большого полка . – И в оправданье. – Выкупили его. Прошлый год вновь на Литву ходил первым воеводой полка правой руки мстить за поруганье полонное.
– Поручней много ль за сродственника набрал? Не соблазнит ли Литва? – Многозначительно протянул царь.
– За Захария двадцать шесть князей и детей боярских поручаются.
Иоанн усмехнулся:
– Дале чти, боярин.
– Иван в Великих Луках ныне, второй воевода передового полка.
Царь кивнул – дальше.
– Андрей в Алысте со взятия крепости сидит вторым воеводой. Никита рындой при царевиче Иване Ивановиче, записан в поручни по брату Захарию.
Иоанн знаком показал – продолжай.
– Иные Плещеевы: Андрей Иванович Охотин-Плещеев – поручня по Захарию, Иван Дмитриевич Колодка…
Царь перебил вопросом:
– Это который? Сын окольничего Димитрия Плещеева?
– Каждого холопа своего помнишь! – Восхитился Алексей Данилович. – Токмо истинному государю такая память дана.
Иоанн усмехнулся – лесть была приятна. Басманов продолжил:
– Тимофей Федорович Плещеев. На Полоцк ходил, после в Феллине вторым воеводой… – Царь не проронил ни слова. Восприняв молчание государя за согласие, боярин читал дальше. – Иван да Осин Ивановичи Павлиновы, дети боярские по Рузе в Тысячной книге писаны, поручни по Захарию.
Царь молчал.
– Охлябинины, князья ярославские. Князь Иван Петрович Залупа…
– То ж сродственник? – Иоанн глаза прикрыл, спросил лениво.
Алексей Данилович склонил седую голову:
– Женат на моей троюродной племяннице, Марии Федоровой дочери, Плещеевой.
Царь приоткрыл один глаз:
– А не в полоне ли он литовском?
– Верно, государь. – Сокрушенно покачал головой боярин. И в собственное оправдание. – Не век же ему там… Выкупим, обменяем…
– Небось и поручней ему сыскал? – Иоанн по-прежнему смотрел лукаво одним глазом.
Басманов заторопился, перечисляя:
– Савелий Наумов, Иван Мишурин, Димитрий Кашкарев, Замятня Горбатов, Павел Варнавин, Семен да Товарищ Григорьевы сыны Велины Головины, Андрей Жданов сын Яковлев, Петр Хворостинин…
Внимательно слушавший, царь открыл второй глаз, остановил боярина:
– Петра, помнится, посылал к тебе, Алексей Данилович, с золотыми, жалованными за битых под Рязанью татар.
– Милостью твоей, государь, не обижен. – Поклонился Басманов.
– Петр – сын окольничего князя Ивана Михайловича. Не забудь, Данилович, прочих братьев вписать – старшего Димитрия, что на Полоцк ходил головой в царском полку, а ныне вторым воеводой сторожевого полка в Великих Луках, там же где сродственник твой Иван Очин-Плещеев.
Басманов понял – ничто не выпадало из памяти царской, ничто не ускользало от внимания. Поспешил и собственную осведомленность показать:
– Два прочих брата Хворостининых, князь Андрей Иванович при брате Димитрии, а младший, Федор, рындой у пищалей.
– Пиши всех! – Затвердил царь Хворостининых и принялся далее указывать. – Телятевских не забудь. Князя Василия Ивановича, наместника брянского, что в полоцком походе есаулом был. Племянника его, князя Андрея Петровича, что посылали мы в Юрьев обыск учинить про кончину собаки Алешки Адашева. Брата Андреева младшего туда ж – князя Ивана Зубана Петровича. – Иоанн прервался, вспомнил про Охлябининых. – Кто там окромя Ивана Петровича Залупы?
– Князь Василий Андреевич Борец, троюродный брат князя Ивана, он же поручня ему. Князь Роман Васильевич Охлябинин, воевода в Полоцке. Князь Михаил Дмитриевич – поручня по князю Ивану…
– Князей Василия и Михаила рындами в опричнину запишешь, князя Романа покуда не нужно . Князя Ивана Залупу сперва из полона вызволи, после видно будет. Ясельничего Петра Васильева сына Зайцева-Бирдюкина пиши в дворовые воеводы. Василия Григорьева сына Зюзина, из тверских бояр. Помню его по Полоцку. До выхода с Литвы местничал с Евстафием Воловичем , от того обиды у него на Литву.
Басманов восхищенно покрутил головой. Изумлению боярина не было предела. Государь неожиданно припомнил такие, казалось, пустяки, что диву даешься. Что за дело царю до местничества Зюзина с подканцлером литовским. В беглом Курбском загвоздка! Волович сманивал князя Андрея, письмами прельщал. На голое место Курбский бежать не рискнул бы. Чрез Воловича с королем разговоры вел, а тот ему чины да поместья у короля выпрашивал. Ничего не забыл, Иоанн Васильевич! То не Зюзина обиды на Литву – у царя!
– По Юрьевым… – Царь продолжил рассуждения. – Ты ж в родстве и с ними? Твоя мать Елена дочерью приходилась Якову Иванову сыну Казаку Захарьину-Кошкину, да и Федор твой женат на Варваре, дочери князя Василия Андреевича Сицкого и Анны, сестры моей Анастасии, упокой Господь ее безгрешную душу. – Перекрестились оба. Боярин внимательно смотрел на государя, стараясь быстрее уловить, что умыслил царь.
– Василия Михайловича с Никитой Романовичем велим в земщине оставить. Окромя князя Ивана Мстиславского нам еще потребны будет верные слуги в Москве. Нельзя Ваньку на первых порах бросать. О сем самолично им объявим, дабы не думали, будто опала на них легла. Тебе молчать. Протасия Васильева сына Юрьева пиши рындой с саадаком к царевичу Ивану. Братья они троюродные. Князя Василия Сицкого с тремя сыновьями пиши. Пусть Василий боярином будет при царевиче Иване, сыновья рындами.
Басманов смекнул, что государь уже строит в уме новый двор и будущее новое опричное войско. Ждал, что еще велит.
– У князя Афанасия список возьми, я смотрел.
Боярин не удержался, спросил:
– Вяземский како прежде оружничим будет?
Иоанн усмехнулся, сказал, как отрезал:
– Келарем! И не забудь гнездо Черкасское вписать! Под рукой быть должны. – И добавил многозначительно. – Покуда. – Вспомнилась Ягеллонка, спросил. – Послы свейские покинули мои уделы?
– Месяца два минуло, государь. В сентябре подписали грамоту с боярином Михайло Яковлевичем, печати повесили, крест целовали. После отъехали.
– Ведаешь ли – добрались до Стекольны?
– По всем срокам должны были. Но... – Развел руками Басманов.
Царь покачал головой задумчиво и молвил:
– Скажи окольничему Василию Умного-Колычеву и Ивану Воронцову, как с делами нынешними сладим, поедут в Стекольну, к королю Ирику о Катерине разговоры разговаривать. После сами им все обскажем. Ныне иди, устал я. – Махнул было рукой, но остановил собравшегося уходить Басманова. – Вот еще, всем, кто по нашему выбору в других городах обретается, велим быть к декабрю здесь. Без женок и детей, но с холопами и служебным нарядом. Иди, Данилович! – Отпустил, наконец.
Иные мысли нахлынули. Удел себе опричный назначу… А возопят ли, а не скажут ли – коль удумал, так твоя воля, государь, вот Бог, а вот порог – слобода Александровская… Кому есть дело до великих жалостей сердца царева, кои вынудили царство оставить… Пойдут ли упрашивать? А коли нет…
Опричнина – доля вдовья, даром, что сам рек, будто игуменом сделаюсь, по скудоумию уразумеют – царь в чернецы подался. На одних гнев возложил, на прочих нет. Посадский мужик бунтует токмо на пожарах великих, кровью боярской потушить их хочет. Может, поджечь Москву, да на бояр – крамольщиков вину возложить? Токмо глазом моргнуть – Басмановы вмиг исполнят, да и слух нужный распустят… Вспомнился великий пожар московский, случившийся опосля венчания на царство, да женитьбы, как шли посадские к Воробьеву, как упрашивали выдать Глинских им на правеж. Сколь уж лет минуло, а все, как день вчерашний. Страх пред морем-окияном гнева людского вдруг обуял. На бояр-княжат оборотить его надобно. Иной пожар нужен. Царь отъехал – то горестнее, нежели крыша над головой сгорит. Анастасия любима в народе, оттого сродственники ее Захарьины-Юрьевы в земщине говорить станут – без царя, яко без Бога. А как жить без Бога, без церкви, без образов? Юрьевым поверят… Все заберу с собой из храмов. Священство думами пусть исходит, коль все образа почитаемые – лики Божьи, да с царем – помазанником отъедут, каким святым иконам народу прикладываться, кому поклоны бить, пред кем осеняться крестом, у кого милость выпрашивать – нет более ни царя, ни Бога, ни образов святых.
Охватил голову руками, закрыл глаза. Показалось царю, что взобрался он в ночи на стену кремлевскую, стоит во тьме на краю самом, пред ним Москва должна быть, ан нет, ни зги не видно, только ветер свистит в ушах и пустота бездонная разверзлась. Еще не падаешь, но знаешь, что столкнут неминуемо. Дыханье короткое, а полной грудью не вздохнуть. Нет ни единой мысли, а если и есть, то не ухватить, несутся быстрее ветра, быстрее взгляда человеческого. Ощутил дрожь в коленях, а ноги окаменели, то душа в пятках спряталась. Страшно! Был царь и не станет его. Хочется разорвать время в клочья, нет сил ждать толчка в спину. Плоть беспомощно раскачивается, только налитые тяжестью ноги удерживают на краю, душа же рвется шагнуть вперед, заглянуть в бездну, в бесконечность предстоящего падения, торопит покончить со страхом ожидания. Шагнуть самому? Отмучаться быстрее. Нет, страх смерти страшнее ее ожидания. Он удерживает, дабы растянуть мучения. Открыл глаза, обвел помутневшим взглядом палату. Пустота одиночества…
Третьего декабря выступили из Москвы. В день отъезда царь отстоял обедню в Успенском соборе, всех благословил и попрощался. С Мстиславским отдельно. Снова, как тогда в палате, обнял за шею, нашептал в ухо:
– Жди, князь, вестей из Александровской. Сам никуда не езди, даже ко мне, даже ежели митрополит или бояре или люд московский позовут. Пущай сами едут, ты на Москве останешься.
Народу и думе было объявлено – царь вновь на богомолье отправляется. Дело обычное, только выезд был не похож на прежние. Бегство не напоминал, скорее поход военный. Назначенным московским боярам да прочим ближним велено было взять с собой женок и детей, иные, по выбору из других городов, ехали без семей, но со слугами и служебным нарядом – в доспехах, с оружием и припасами. Шли верхами и боевым порядком, сверкая кольчугами из-под шуб. У седел приторочены шлемы, на поясах – сабли, за спинами – луки и колчаны со стрелами, у одних топор подле стремени или сулица, у иных шестопер. Посадка высокая, татарская, стремена укорочены. Всадник легок, подвижен, крутись во все стороны в седле, словно маслом смазан. Лук выхватил, пустил стрелу, за ней вторую, третью, закинул саадак за спину, обнажил саблю, руби со свистом, с окриком молодецким.
Впереди алели кафтаны стрельцов, нагруженных пищалями и бердышами. На санях везли припас – муку, сухари, рыбу вяленую и мороженую – пост рождественский, отдельно свинец для пуль и с особым сбережением – порох. Долго шагать с полным снаряжением было тяжко, да и конные сзади поджимали, вынуждали шаг ускорять, оттого велено было пищали сгрузить на сани.
В конце тянулся пушечный наряд. Посошные мужики суетились вокруг орудий, помогали лошадям, на подъемах сами впрягались. Мастера – пушкари по большей части басурмане – немцы, ливонцы из пленных или перебежчиков, все едино белая кость, развалившись, ехали в санях. Для них война – привычная работа, но таскать пушки, потом исходя, дело мужичье, не пушкарское.
В середине походной колонны, ехал царь с царицей и детьми, везли казну. Забрали все, что было ценным не только в царских палатах, но и самые дорогие иконы из кремлевских соборов. Иоанн отмалчивался, погруженный в думы. То, что ждало его впереди, по-прежнему виделось тьмой кромешной. Исчез из видений град небесный, Иерусалим новый, русский. Вспоминались слова покойного митрополита Макария: «Опалы клади не поспешая, по рассуждению, не яростью!». Отвечал ему вопросом: «Сколь же ждать, владыка, не поспешая? Покуда на шею не сядут, покуда государство Богом врученное не изведут своими крамолами, да изменами, не разорят воровством?». Оттого сам впадал в ярость, вздувались жилы на шее. Опомнившись, прогонял гнев от себя. Делал несколько глубоких вздохов-выдохов, чувствовал, как остывает вспенившаяся кровь, оглядывался по сторонам, ловил озабоченные взгляды ближних бояр. Выдавливал подобие кривой улыбки, качал головой. Вид войска успокаивал. Вот он, государев полк. Все по чину – рядом рынды, одни с большим саадаком , другие с копьем, со вторым саадаком, с сулицей, с третьим саадаком, с рогатиной и самопалом . Воеводы, головы и есаулы, все дворовые – дворецкий, кравчий, окольничий, оружничий, постельничий, стряпчие и прочие. Пока один государев полк с нарядом, посохой и кошем, а скоро войско полное будет – все полки с ертаулом.
Еще не дошли до Коломенского, вместо морозов началась оттепель, вместо снегопадов зарядил дождь. Царь пересел с коня в возок, мысли потекли под однообразный стук капель по кожаному верху. Дышалось тяжело. Воздух наполнился сырой прелостью. Дорогу развезло окончательно. Стрельцы еле передвигали ноги, выдергивая сапоги из чавкающей грязи. Полозья саней отчаянно скрипели по обнажившимся пескам вперемежку с суглинками, переваливались через корни деревьев, выползшие из-под растаявших снегов прямо на дорогу. Посошных мужиков загоняли. То стрелецкие сани толкают, то обозные, после обратно к пушкам бегут. Выбившиеся из сил ложились и помирали тут же, на обочинах. Рынды спешились вместе с поддатнями, чуть не на руках несли сани с царем, царицей и царевичами. Так с превеликими трудами доползли до Коломенского.
Оттепель задержала в селе на две недели. Семнадцатого, как вновь ударили морозы, да снега малость выпало, выехали в село Тайницкое. К двадцать первому декабря добрались лишь до Троице-Сергиева монастыря. Отметили память Святителя Петра, митрополита Московского, тщением которого пращур Иоанновский великий князь Иоанн Данилович Калита возвел на Москве церкву во имя Успения Пресвятой Богородицы. Митрополит Петр поддержал Калиту и перенес кафедру из Владимира в Москву. Добрый знак, верный момент выбран для великого почина. Царь поспешил в Александровскую. С дороги велел Юрьевым заворачивать коней обратно. Долго шептался с ними, отъехав в сторону. Бояре слушали, внимали. Качались высокие горлатные шапки.
Рождество отпраздновали словно поминки чьи-то. Иоанн на все дни затворился с подьячим, грамоты для Москвы правил. Заслушивал и снова правил. Оттачивал, словно топор, что должен обрушиться на Москву, рассечь ее по воле царской на две половины, поставить их одна против другой. В одной грамоте ярость, как смола кипела, с обидой великой перемешанная, другая слезами жгучими истекала от жалости к простому люду, по нужде оставшемуся без заступника пред Богом и басурманами.
Закончил править, в глазах потемнело. Вновь глянул Иоанн в бездну разверзнутую, в жуткую черноту пропасти, наполненной ныне яростью, злобой, муками и болью. Бессмысленными и беспощадными. Ничего живого там не было, лишь кости человечьи белели обглоданные, да скалились голые черепа. На дворе стоял январь лета 7073-го…
Велел воеводе Константину Поливанову с дьяками Путилой Михайловым и Андреем Васильевым везти грамоты в Москву. Первому – ту, что с гневной опалой, отдать митрополиту и боярам, вторым – другую, с милостью, посадским зачитать. Наступило самое страшное – ожидание. Иоанн исхудал, иссох сильно. Тенью бродил по палатам. Если б не мех шубы собольей под черным бархатом, не ферязь просторная поверх кафтана, все бы узрели, что кости торчат, яко жерди в заборе. Взор тлел в угольной черноте запавших глазниц. Скулы сильно выдавались, обтянутые серой кожей. Борода и волосы седели на глазах. Приказал выбрить голову начисто. Руки вытянул вперед, растопырил дрожащие персты, дрожали они прутиками беспомощными. Сжал кулаки изо всех сил, до ломоты в костяшках. Вот так лучше! Встряхнул себя, отогнал страхи. Вспомнил сказ о кесаре ромейском, что сказал «Жеребий брошен!» и речку перешел. Так и надобно. Сжать всего себя в кулак, ждать вестей. И молиться!
Митрополиту Афанасию и оставшимся в Москве боярам Поливанов зачитал первую грамоту со списком измен боярских, воеводских и всяких приказных людей:
– Кладу гнев свой и опалу на архиепископов и епископов и на архимандритов и на игуменов, и на бояр своих и на дворецкого и конюшего и на окольничих и на казначеев и на дьяков и на детей боярских и на всех приказных людей, ибо не токмо казну государеву тощили, но измены делали. Не хотя терпеть изменных дел множества, от великой жалости сердца мы оставили государство и поехали, куда Бог укажет нам путь.
Дьяки Путила Михайлов и Андрей Васильев народу московскому в тоже время иное зачитывали:
– Посадским, торговым людям, всем тяглым – православному крестьянству града Москвы, чтобы сумнения они себе никоторого не держали, гнева на них и опалы никоторой нет.
Все замерло. Закрылись лавки мастеровые, опустели приказы, обезлюдел торг, исчезли коробейники с лотошниками, на город опустилась дневная ночь, только что рогатками улицы не перегораживали. Но постепенно стали появляться прохожие, сперва одиночками, потом все больше и больше, словно капельки дождя сливались они в ручейки, перерастали в речки, выплеснувшись в мощный поток человеческого осознания – те, перед кем простой человек всю жизнь должен был ломать шапку, кланяться и падать на колени – бояре и сыны боярские, дьяки и подьячие, весь приказный люд – они прогневали царя так, что он оставил государство. А выходит, что посадский мужик и есть опора царя-батюшки. Как жить без него? Как овцы без пастыря? – недоумевали, рыдали, рвали рубахи на груди, срывали шапки и оземь, оземь.
– Пущай царь укажет нам, сами потребим изменников и лиходеев бояр! Царь – един владыка, Богом данный! – Орали на площади пред Кремлем, бушевали у подворья митрополичьего.
Владыка Афанасий спешно собирал собор, призывал думу боярскую к совету. А люди Захарьиных-Юрьевых будоражили посадских, вот-вот, громить начнут. Вспыхнул пожар московский, всколыхнулось иное пламя – то огнем горели души людские, горе превращало сердца в головешки. Токмо кровью боярской затушить можно. Уже раздавался на улицах, проникал за высокие тыны боярских подворий, стучался в окна Благовещенского собора, где собрались князья церкви и дума, грозный призыв: «Пущай царь нам укажет, а мы уж казним!»
Князь Мстиславский вид имел печальный, сокрушался, как все. Когда спросили, ответил со слезой в голосе:
– Един выход вижу – челом бить государю, молить вернуться!
Юрьевы поддержали:
– Без царя, яко без Бога. Верно князь Иван Федорович молвил – молить государя о милости надобно. – Да на окна посмотрели, чрез которые глас народа посадского доносился.
С этим все согласились. Владыка Афанасий хотел сам ехать, но порешили, что митрополит останется, а поедут иные: главными – Новгородский архиепископ Пимен и Чудовский архимандрит Левкий, с ними епископы – Ростовский Никандр, Суздальский Елевфрий, Рязанский Филофей, Крутицкий Матвей, архимандриты – Троицкий, Симоновский, Спасский, Андрониковский. От думы хотели послать князя Мстиславского и князя Ивана Дмитриевича Бельского с прочими боярами, но первый наотрез отказался, памятуя строгий царский наказ. Сослался на немощь. Прямо из собора и отправились. А за ними прочий люд московский увязался – челом бить государю и плакаться.
До слободы их не допустили. Остановила застава в трех верстах. Выдержав, отделили первосвященников и выборных бояр, на кого указал государь, сопроводили под крепкой сторожей в Александровскую, где и допустили к царю. Вошли трепеща. Сам вид двора ошеломил приехавших. Все, до единого, включая Иоанна, были в смирной одежде, несмотря на скоромные дни. Все в темном от сапог до шапок. На всех шубы под черным атласом, под шубами терлики атласа гвоздичного или вишневого поверх темных кафтанов, сапоги сафьяновые черные. Ни тебе золота-серебра на воротах, подолах и рукавах, ни жемчугов с каменьями.