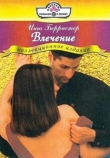Текст книги "Проклятие рода"
Автор книги: Алексей Шкваров
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 80 страниц)
– Услышь, Господь, мою смирену молитву и сотвори путешествие раба Твоего Андерса благополучным. Охраняй его на всех путях этой жизни молитвами Твоего любимого Сына Иисуса Христа Господа нашего. Аминь.
До чего скоротечна была жизнь… Непрерывные войны, бесчисленные эпидемии, религиозная нетерпимость инквизиции и жестокосердные нравы косили людей, собирая свою страшную жатву. Искалеченным и больным убогая медицина, порой граничащая с примитивным шарлатанством, ничем не могла помочь. Вдобавок, часто и самих лекарей отправляли на костер по пустяковой причине, но серьезным обвинениям в колдовстве и связях с дьяволом. «Если кто-то умеет лечить, значит, сумеет и отравить!» – это изречение старательно занес в протокол очередного процесса секретарь парижского суда при тюрьме Шатле Алом Кашмаре. Профессия лекаря, тем не менее, была прибыльной и отдельных конкурентов даже устраняли, так погиб знаменитый Парацельс.
Что, кроме, конечно, молитв, могло помочь страждущему человеку? Вот пример рецепта снадобья, способного, по мнению тогдашней медицины излечить чуму:
Одна унция опилок зеленого кипариса,
Шесть унций флорентийского ириса,
Три унции гвоздики,
Три драхмы ароматического тростника,
Шесть драхм алоэ.
Все надлежит растереть в пыль. Затем взять три-четыре сотни свежайших роз, собранных в столь ранний час, до выпадения росы, растереть их и смешать с приготовленной пылью. Когда все перемешается, то изготовить пилюли и высушить их в тени.
Такую пилюлю следовало положить под язык до полного рассасывания. Человечество не ведало об инфекционной сущности эпидемий, считая их Божьей карой грехи. Лишь в 1546 г. появился первый труд итальянского лекаря Джираломо Фракасторо «О контагии, о контагиозных болезнях и лечении», где он предположил, что эпидемии вызываются крошечными частицами («семенами»), переносимыми от больного через прямой, непрямой (или даже зрительный) контакт. «Чума, иначе называемая чёрным мором, – писал итальянец, – происходит обычно от чёрного колдовства, и с ветром зараза переносится из одного места в другое. Болезнь сия скоротечна и очень заразна. Более всего бедствий приносит она городам, где люди живут тесно. Если начался в округе чёрный мор, надлежит прежде всего отделить больных от здоровых, и чтобы как можно меньше народу соприкасалось с заболевшими. Случается, что у человека достаёт жизненной силы, чтобы одолеть чуму, и он безо всяких лекарств, хотя и ценою страшных мук, выздоравливает. Посему надобно поддерживать силы заболевших и надеяться на счастливый жребий. А чтобы зараза не распространялась, надлежит вокруг места, где собраны больные, жечь костры, и все, кто выходит оттуда, должны меж тех костров проходить и окуриваться их дымом. Ещё чёрный мор случается от мёртвого тела, кое не похоронили, и когда оно начинает разлагаться и гнить, то испускает миазмы, и их ветром разносит».
Мужчины вдовели, тут же женились повторно, а то и в третий раз. Также поступали и женщины, хотя им, конечно, было сложнее, ибо потеряв мужа, следовало главным образом сохранить принадлежность к сословию, цеху.
О любви речь не шла, как и о разнице в возрасте. Смысл жизни заключался в продолжении фамильного рода, что в первую очередь, подразумевало фамильное дело, касалось это рыцарства, бюргеров, купечества или ремесленников, неважно.
Седые старцы женились на юных девицах, зрелые вдовы запросто могли сосватать за себя юношу. Адюльтер присутствовал, хотя внешне порицался строгой протестантской моралью общества, но это было не для всех, в королевских семействах дети от многочисленных любовниц сюзеренов имели титулы и положение, за исключением главного – престолонаследия.
Были ли женщины у пастора Иоганна Веттермана за эти долгие годы? Конечно, были. Природа брала свое, но связи были скоротечны и завершались стремительно, по инициативе самого пастора. Иногда он вспоминал о юных служанках, что дарили ему свою любовь под стенами Августинского монастыря в Виттенберге или на теплых чердаках господских домов, где юный студиоуз подрабатывал уроками. Подхватив юбки, они стремительно взлетали наверх по черным лестницам, маня его за собой. Он забывал вкус губ, цвет глаз, запах волос смолянисто-черных, ярко-соломенных, бело-льняных или рыжих. Целуя их, он закрывал глаза и видел лишь одну единственную… другую. Иногда, в беспамятстве захлестнувшей страсти, ее имя слетало с его губ, он ловил себя на этом, почувствовав кожей чужое недоумение, смущенно распахивал глаза и тут же прятал, отводил в сторону, от пронзительного взгляда той, что находилась сейчас рядом.
В тесноте и скученности Немецкого двора, где купеческие семейства жили бок о бок, холостой пастор, считался завидным женихом. Ни одно семейство пожелало бы видеть его в качестве зятя для своих дочерей, подошедших к возрасту невест. Несмотря на строгие пуританские нравы, царившие в немецко-ливонско-шведской колонии, кое-кто и из замужних дам бросал искоса красноречивые взгляды-призывы молодому священнику, нервно облизывая, чувственные губы. Этого пастор старался не замечать. Одно дело связаться с какой-нибудь служанкой в Германии, другое дело здесь, где он должен быть образцом добропорядочности и обличителем любых попыток нарушить законы Моисея, призывавшие строго карать грех прелюбодеяния.
Уже при Андерсе у него была одна единственная связь со вдовой любекского купца, скоропостижно скончавшегося здесь на чужбине. Она оставалась какое-то время в Новгороде, чтобы довести дела покойного мужа и оформить надлежащим образом наследство.
Связь началась с молчаливого и настойчивого приглашения женщины, не задававшей ему лишних вопросов, не намекавшей открыто на женитьбу. В глубине души ее все-таки таилась надежда на взаимность, закрывавшая глаза на открытую собственной мудростью тайну его сердца, которое было спрятано под непроницаемым панцирем, и ей удалось на нем прочитать имя Другой Женщины, хотя Иоганн ни разу его не произнес. Вдова тянулась к нему всей душой, а он, к величайшему собственному стыду, мог ответить ей лишь плотью. Стыдился, тяготился, но поделать с собой ничего не мог. В его Душе жила Другая. Женщина чувствовала страдания пастора, пыталась по своему женскому наитию вытеснить собой воспоминания его былой, как ей казалось, любви, но наталкивалась на мгновенно появлявшуюся отчужденность. Лишнее прикосновение, и Иоганн вздрагивал, ему это было почти неприятно, словно нежные руки чужой женщины дотрагивались до самого сокровенного в его душе, до не заживавшей раны, и нежность оборачивалась в боль.
Он садился на краю широкой кровати, спиной к ней, несколько минут сосредоточенно молчал, потом вставал, начинал одеваться. Его мучила совесть:
– Зачем я так поступаю? Зачем я вовсе прихожу сюда? В этот дом, к этой женщине… ведь я дарю ей какую-то надежду, иллюзию, и совершаю грех, обманывая ее. – Но изменить что-либо он был не в силах. – Видит Бог, я не хотел этого, пытался избежать. Выбирал из двух зол меньшее – отторгнуть или принять, заранее зная, что ни единого кусочка души подарить ей он не сможет.
Встречи были совсем нечасты, но мучительны для обоих. Первой не выдержала она. При первой возможности уехала на родину покойного мужа в Любек, оставив на память о себе краткое письмо-прощанье. Она не укоряла Иоганна, напротив, была благодарна ему, но, как и он, испытывала боль и усталость от этих тайных свиданий.
Встретить кого-то еще было просто неосуществимо, не говоря о том, чтобы полюбить, когда сердце принадлежит другой. Найти среди русских женщин, как старик Свен Нильссон, пастор не мог, да и опять не хотел, тем более они все, как черт ладана, чурались иноземцев. То, что случилось с семейством Нильссонов, Веттерман воспринял не иначе, как перст Божий, Ему лишь ведомый и подвластный поворот судьбы, соединивший юную русскую девушку и шведского купца. Это только усилило собственные убеждения пастора в предначертании пути человеческого, веру во всемогущество Творца, определявшего судьбу каждого в отдельности, сводившего и разделявшего людей, это укрепляло решимость ожидать того, что должно свершиться с ним. И Нильссоны и его воссоединение с сыном послужили ярчайшим подтверждением неизбежности Провидения. Поэтому Иоганн жил прошлым, но с верой в будущее.
От воспоминаний пастора отвлек уличный шум. Он выглянул в окно, увидел распахнутые ворота, множество людей, лошадей, груженых телег, догадался, что прибыл первый купеческий караван. Старые знакомые чинно раскланивались друг перед другим, незнакомые – новички представлялись старожилам, тут же обсуждались свежие новости с обеих сторон, одновременно шла разгрузка товаров. Все было привычно, по-немецки деловито, споро, шумно, но без суеты и столпотворения. За порядком следил управляющий Гундерман, возле которого, на всякий случай, стояли два стражника. Кому-то он объяснял условия размещения, предупреждал о платежах, а заодно и штрафах, его внимательно слушали и почтительно кивали головой. В этом обыденном неторопливом купеческом круговороте, имеющим раз и навсегда заведенный порядок, похожий на безупречный часовой механизм, где все размеренно по времени, где люди были винтиками, колесиками, шестеренками, подогнанными и соединенными друг с другом, где роль маятника, задававшего общий ритм, принадлежала Гундерману, острый глаз Иоганна выхватил одинокую, чуть сутулую женскую фигуру в черном, которая никак не вписывалась в слаженную работу, в ее отрегулированный ход, а напротив, стояла без движения, настороженно и, как показалось пастору, испуганно озиралась по сторонам. Еще не успела появиться ни одна мысль в его голове, но вместо этого неожиданно возникла необъяснимая встревоженность или предчувствие, происхождение которых он объяснить себе в эту минуту не мог.
Появление женщины среди купеческого каравана и по всему ее облику, манерам, не имевшей абсолютно никакого отношения к торговому сословию, безусловно, не могло осталось незамеченным и не могло не привлечь к себе внимание управляющего. Гундерман сделал несколько шагов к женщине, и, высокомерно задрав голову в черном бархатном берете, о чем-то ее спросил, кивнул утвердительно в ответ и неожиданно показал рукой на то самое окошко, в которое смотрел пастор. Сердце Веттермана вдруг забилось сильнее и сильнее. Время замедлило свой ход. Женщина невероятно долго, так показалось пастору, поворачивала свое лицо к нему. Иоганн задрожал всем телом, как последний осенний листок, который вот-вот должен был оторваться и отправиться в последний гибельный полет, превращавший его в ничто.
Она! Вот она перед тобой! Живая, невредимая… нет, что-то с ней произошло, она хромает, направляясь к его дому, голова неестественно склонена на бок, но это она! Та, которую ты десятки, сотни, тысячи раз вспоминал и видел ежедневно – в молитвах, в мыслях, во снах, ты разговаривал с ней… Она. Она? Она ли? Что чувствуешь ты, когда видишь сейчас женщину, не просто воскресшую из мертвых, не просто восставшую из могилы, а другую, появившуюся внезапно из глубин памяти, из мыслей, обратившихся в осязаемую плоть. Или это наваждение? Иоганн протер глаза и вытер струящийся со лба пот. Нет, наваждение не пропадало! Что чувствуешь ты, живший в предвкушении, в мечтах об этой встречи, прорисовавший и разыгравший, конечно, трогательно и со слезами на глазах эту сцену? Все ли соответствует твоему scenario? Не устали ли твои актеры проигрывать одно и тоже на протяжении почти двух десятков лет? Не превратилась ли трогающая зрителей за сердце драматургия пьесы в обычное лицедейство? Не тянет ли отвернуться, зевнуть от скуки и, скосив глаз в зал, убедиться в том, что сюжет давно уже приелся и наскучил всем и зрителям и актерам?
Она ли перед тобой, Иоганн? Ее ли ты ждал, лелеял, холил, просил прощения у Бога и у нее, блудодействовал, в конце концов, с ней в своих мечтаниях и снах? Да, да, и это тоже! Вот она, перед тобой твоя неземная любовь, твоя Беатриче, твой давний грех, прощенья которого ты так долго вымаливал! Она осязаема, ты можешь дотронуться и убедиться в этом.
Веттерман уже вышел из дома, спустился с крыльца и сейчас стоял перед ней. Она ли это? Она и есть твоя мечта? Почему ты молчишь сейчас? Что тебя сдерживает? Может ты вспомнил то, как она предала и обокрала тебя? Ведь это сделала она, а не та, другая, любящая и любимая, прожившая эти долгие годы неразлучно с тобой. Соединились ли они вместе сейчас, или остались каждая по себе врозь? Но ведь она здесь! И что-то ее привело сюда, через моря, в чужую страну. Что? Любовь? К тебе? Или нет?
Господи, сколько раз он представлял себе эту сцену: в Арбю, в Кальмаре, Море, Стокгольме, Штеттине, Виттенберге, в церквях, на улицах, в трактирах и на дорогах. Он помнил каждый скрип входной двери той деревенской церкви, где все начиналось, означавший ее возвращение. Он видел их встречу на залитой солнцем или скользкой от льда брусчатке городов, посреди луж и в пыли, на снегу и в бескрайних лугах, в лесу и на берегу моря. Он искал ее черты в лицах тех девушек и женщин, что ловили его взгляд на себе и улыбались в ответ, но все исчезало, растворялось, потому что было обманом и вновь обретало ее истинный образ в мыслях, совершенно другой, созданный неизвестным художником, скульптором, хотя почему неизвестным, имя ему память или он сам – Иоганн Веттерман. Ваятель, Пигмалион, твоя Галатея сейчас стоит перед тобой…
Мир исчез, его покрыл густой мрак ночи, оставив крошечный кружок света, словно нимб, оттеняющий своим сверканием лики святых или солнечный зайчик, застывший там, куда его отбросил случайный поворот зеркала. Так видит мир человек, теряющий сознание – мрак стремительно приближается со всех сторон, заливает сплошной непроницаемой чернотой все краски света, оставив лишь то, что он должен увидеть, запомнить в этот миг, возможно последний в его жизни. Смолкли звуки, голоса, остановилось время…
– Иоганн… – Почти беззвучно прошептали ее искусанные обветренные губы. Эти шесть букв прозвучали одновременно и каждая в отдельности и вместе, аккордом, образовав начало Божественной мелодии, внезапно оборвавшейся нежнейшим прикосновением молоточков к прозрачным стеклянным колокольчикам:
– …ганн-ганн, ганн-ганн… – продолжавшим своим биением этот ласкающий ухо хрустальный звон, – …ганн-ганн, ганн-ганн…
– Здравствуй. – Хрипло донеслось из удушаемой спазмами гортани. – Ты нашла меня…
Эта непроизвольно вырвавшаяся, выдавленная фраза, отражала все то смятение, охватившее душу пастора, сердце которого сейчас билось тяжелыми ударами набатного колокола – «бум-бум», к которым примешивались хрустальные молоточки произнесенного вслух имени – «ганн-ганн»…
Его мысли свились в один толстый стальной жгут, натянутый, как струна, и никакой человеческой силы не хватит, чтоб вырвать, вытянуть хоть одну осознанную нить, которая помогла бы распутать остальные. Но этот, еще мгновение назад, прочнейший канат был рассечен одной единственной фразой:
– Я искала Андерса…
Пастор сорвался с утеса и стремительно падал в бездонную пропасть сознания. Он явственно ощущал свист ветра в ушах и легкость собственного тела. Под безжалостным палящими лучами истины его бумажные крылья так тщательно скрепленные воском молитв, надежд, страданий, рассыпались белыми перышками-листами недописанной драмы со множеством разнообразных сюжетов, но не имевшей до сих пор эпилога. Он упал, не почувствовав удара о землю. Лишь дрожание рук и невероятная тяжесть вновь обретшего вес тела, напоминали о только что пережитом падении. Конечно! Она искала сына. А ты подумал? Твоего сына! Который полгода назад отрекся от нее, а ты убеждал, просил, молил его не делать этого. Он уехал, и пастор прочел в его глазах искорку надежды-обещания выполнить просьбу отца. Ты ждал ее или другую? Ты представлял себе ваши слезы и объятья? Что ты хотел увидеть, услышать? Слова покаяния и любви? Не были ли твои молитвы и мечты простым эгоизмом, башню которого ты возводил все эти годы, закладывая каждый камень в ее стены вместе с обращением к Богу? И вот ты рухнул с нее, или она рассыпалась под тобой, поскольку ее раствор был замешан не на яичном белке, а на ошибочной убежденности в собственной правоте, собственной греховности и потребности ее искупить. Ты молился Богу, чтоб он спас ее? Он ее спас, оживил, воскресил! Ты молился Богу о ее любви? Нет. Ты молился о своей любви к ней! Ты получил то, что хотел. Ты ее любишь? Или сейчас у тебя нет ответа? Или тебя гложет мысль о том, что она начала с вопроса о сыне, а не с покаяния в грехах? Ты остался для нее тем, кем был? Он снова почувствовал, как тогда в Арбю, холодный безжалостный клинок между лопаток, стальные объятия боли, не позволяющий вздохнуть полной грудью. Иоганн отгонял эти видения, стараясь дышать ровно. Он вдалбливал себе:
– Она – мать Андерса! Она ищет сына! Она – мать!
Понемногу боль рассосалась, он смог посмотреть на нее спокойно и даже с кажущимся безразличием, (лишь дрожание пальцев унять было невозможно), подал ей руку, приглашая пройти в дом. Ее кисть, все такая же тонкая, легла на протянутую ладонь. Прикосновение вдруг согрело и наполнило тело успокоением.
– Андерс уехал в Упсалу, учиться в университет. Пишет с ним все хорошо. Пойдем, я дам прочесть его письмо.
– С ним все хорошо… – Мысленно она повторила за Иоганном, и огромный камень, давивший все эти годы ее душу, стал рассыпаться, превращаться в песок, теряя вес на глазах, освобождая место для других мыслей, о том мужчине, что стоял сейчас рядом и держал ее за руку. Нет, они были и раньше, но Агнес их старательно отодвигала, как можно дальше. Теперь же, когда стало ясно, что сын жив, здоров, благополучен, ее захлестнула волна благодарности вместе с ощущением страшной вины перед Иоганном за содеянное много лет назад. Чего было больше, она сказать не могла, лишь безропотно подчинилась протянутой мужской руке, в которую опустилась ее ладонь. Агнес почувствовала трепетное волнение от этого прикосновения, и какое-то совсем далекое, совсем забытое и, казалось, потерянное навсегда, возбуждение. Или все-таки ей это показалось? Или это была дрожь его пальцев, передавшаяся ей и тут же исчезнувшая, превратившаяся в обволакивающее плоть тепло.
Они сидели за столом друг напротив друга и молчали. Нет, она должна сказать ему всё. Агнес решилась, приоткрыла рот, чтобы произнести первые слова, но Иоганн опередил, накрыл ее руки своими и чуть слышно произнес:
– Не надо! Не надо слов. Я все пойму и почувствую. – Последнее он сказал больше для себя. Он должен почувствовать или… нет.
Веттерман внимательно вглядывался в ее лицо, и каждая клеточка была узнаваема, изгиб бровей – левая чуть приподнята, выбившаяся из-под платка прядь волос, тонкость и прямизна носа, пушистость ресниц, голубизна глаз, небольшой аккуратный рот с плотно поджатыми сейчас губами. Даже небольшая темнота глазных впадин, напомнила ему ту легкую усталость, что испытывали они после бурных бессонных ночей, проведенных вместе. Ее глаза… Он словно пытался заглянуть сквозь них в ее душу. Он видел сейчас бездну пережитых страданий и легкие мерцающие звездочки, которых раньше не замечал. Что это? Ее ресницы чуть шевелились, оживляя глаза и заставляя звездочки мерцать сильнее. Он почувствовал, как ее руки перевернулись ладонями вверх и сомкнулись с его. Он поднялся, не выпуская ее рук, обогнул стол, ей пришлось повернуться, преломил колени, положил ее ладони на свою грудь, обнял за плечи и прижал к себе. Сейчас мир перестал существовать для них обоих, точнее, он представлялся Иоганну безликим людским морем, потоком, огибающим утес Любви. Их не могло потревожить ни могущество Посейдона, ни шум и гомон человеческих волн, набегавших и отступавших, оставляя после себя гладкую пустоту пола. Казалось, разверзнись хляби небесные, ударь молния, закрутись ураган, погибнет все живое, кроме этих двоих.
Они слились в одно целое, превратились в монолит, но не бесчувственный обрубок мрамора, которого не коснулся еще резец скульптора, а в живой, дышащий, уходящий корнями в самое лоно природы, светящийся словно костер в пронзительно черной ночи, невидимое тепло которого кругами достигало только ангелов-хранителей, спустившихся сейчас с небес на землю, чтобы оградить и возрадоваться вместе с ними. Только ангелы слышали, чувствовали его согревающие импульсы, это бились сердца, одно общее сердце. Сейчас они дышали одним воздухом с ангелами, и он был пропитан нежнейшими ароматами цветочной поляны, что вдруг расцвела на безжизненной равнине пола. Воздух струился, превращаясь в бесцветную оболочку слившихся душ. Она колебалась в такт их дыханию, но бессмысленно было испытывать ее прочность, ибо вышедшая изнутри, она была замечена Им и приняла, ниспосланное Создателем благословение Любви, принесенное ангелами и превратившееся в волшебный панцирь, повредить который не мог никто. Теперь даже Он.
Глаза Иоганна были закрыты, словно он спал, и сон был сладок, глубок, безмятежен. Так младенец замирает на груди своей матери в безмерности пространства и покоя. Иногда Иоганн чуть поднимал подбородок, склонял голову, прижимаясь сначала щекой, затем касаясь носом волос, выбившихся из-под платка, вдыхал их запах, трогал губами, и его улыбка отражала бесконечность младенческого восторга.
Наконец, они разомкнули объятья. Теперь их соединяла лишь тонкая нить взгляда. Он не спрашивал ее ни о чем, ни о том, как она жила все эти годы, ни о происхождении тех увечий, что сделали ее почти калекой… Это все будет потом, ведь у них впереди целая жизнь, жизнь, которой хватит и на исповеди и на признания в любви, жизнь, которая будет – он не сомневался – наполнена счастьем, если на то последует воля Господня. А Ему это будет угодно, ибо в век, когда десятками, сотнями тысяч умирали те, кто должен был жить, случилось так, что воскрес давно умерший человек, иначе бы Он так не поступил, не воплотил мечту, жившую в молитвах пастора.
Иоганн легко поднял Агнес на руки. Ее ладони соскользнули с его груди, и он почувствовал их горячее прикосновение затылком и шеей. Его губы медленно приближались к ее лицу. Первый поцелуй был легок и краток, как мимолетное прикосновение крыльев бабочки. Со вторым поцелуем он ощутил притягивающую силу ее ладоней, охвативших шею и старавшихся соприкосновение губ сделать крепче и продолжительнее. Ее рот приоткрылся и в третий раз поцелую, казалось, не будет конца…
Когда потом они обнаженные лежали в постели, отдыхая от наслаждения страстью, в ожидании новых сил для нового погружения с головой в омут любви и единения плоти, снова и снова, она пыталась что-то прошептать ему, но Иоганн тут же прикладывал палец к ее губам и с улыбкой качал головой: «После!». Он ощущал ее некоторую скованность и покорность в движениях, хотя она одновременно вся тянулась к нему, старалась раскрыться и отдаться полностью, но ей что-то мешало. Возможно, она стеснялась своих увечий, мелькнула мысль, или…, он не успел додумать.
Она не выдержала и заплакала. Он не утешал ее, лишь крепче прижал лицо к своей груди, и она спряталась там, словно маленькая девочка, нашедшая, наконец, своего спасителя и заступника от множества собственных глупостей и чужих обид. Проплакавшись, она подняла лицо и посмотрела на него. По его щекам тоже текли слезы. Она вновь зарыдала, прижавшись всем телом. Они покрывали друг друга бесчисленными поцелуями, губами собирая соленую влагу. Тела переплелись, снова став единой плотью, как повелел Господь.
Потом он в первый раз назвал ее по имени:
– Илва…
Она с улыбкой покачала головой и прошептала:
– Меня давно уже зовут Агнес Нильссон…
– Агнес… – Он повторил за ней и прислушался к своему голосу. – Агнес… Хагнос по-гречески невинный, мой ангел…– Иоганн перевернулся на спину, она положила голову ему на грудь, и посмотрел в потолок, представляя за ним бездонное синее небо, где на недостижимой взору высоте сидел сам Творец. – Благодарю тебя, Господи… Твои пути неисповедимы, и лишь Тебе ведомы…
А потом была ее исповедь. Вся, без утайки, с той самой минуты, когда ее рука коснулась церковного серебра, нет, даже раньше, с того памятного разговора с Сесиль, или еще раньше, с того дня, когда она переступила порог трактира Иоланты и до того, как она вошла в дом Уллы Нильссон. Она не утаила ничего: отношения с матерью, блудную жизнь до Иоганна, замужество с Олле, и снова блуд, но уже в браке, донос на Уллу, расправу с матерью и с ней. Даже свои сны, кошмары и виденья, преследовавшие ее долгое время, она поведала ему.
– Ты знаешь Уллу и семейство Нильссонов? – Удивился Иоганн.
– Свен Нильссон был моим дядей, и мы с матерью умыслили расправиться с его вдовой, чтобы завладеть богатством умершего. – Грустно покачала головой Агнес.
Сейчас выговорившись, наверно впервые в жизни, она почувствовала невероятную легкость. Все цепи, камни, вериги, что стягивали ее душу эти 38 лет жизни, рухнули. Ее душа голубкой выпорхнула из железной клетки и доверчиво опустилась на плечо Иоганна.
– Я хочу сделать тебе несколько предложений! – Торжественность голоса Веттермана немного разбавлялась радостной, чуть лукавой улыбкой. – Primum , как пастор церкви Святого Петра, хочу отпустить тебе все твои грехи. Для этого мы сходим в субботу в храм, и я совершу необходимое таинство очищения твоей души. Secundum , и это главное, я хочу объявить всем, что по воле Господа и своей собственной, обручаюсь с девицей, (он произнес это слово с особой интонацией), Агнес Нильссон с ее полного согласия. Tertium , я напишу в Стокгольм магистру Олаусу Петри о срочной необходимости увидеться с ним по неотложному делу. Причины найдутся! – Мелькнула мысль о том, что он может рассказать советнику о встрече с Макарием, хотя новгородский владыка не советовал этого, считая, что Веттерману не поверят. Но, в конце концов, это дело Петри – верить или нет. Совесть Веттермана будет чиста в любом случае. Макарий не запрещал ему, и речь в разговоре шла о пожелании мира между их государствами. Он продолжил рассуждения. – Это позволит нам вместе отправиться в Швецию и навестить Андерса. – Как произойдет эта встреча, и что можно от нее ожидать, Иоганн еще не представлял, но всем сердцем искренне верил в силу Божьего Провидения и того, что Господь и дальше не оставит их семью. – И в заключение, я всерьез хочу заняться твоим лечением.
Веттерман ожидал увидеть ее лицо, чуть смуглое от первого весеннего загара, слегка покрасневшим, но Агнес, напротив, стала бледнеть. Встревожено, он спросил ее:
– Я что-то не так сказал, любимая?
– Все правильно… – тихо молвила Агнес, опустив глаза и нервно теребя прядь волос, накручивая на палец и распуская ее обратно.
– Дай мне руку! – Он протянул свою, заставил отпустить волосы. – И посмотри мне в глаза. – Его голос звучал почти умоляюще.
– Я со всем согласна… – Огоньки мерцали в ее глазах, но как-то обреченно печально. – … кроме одного: я не могу принять твое предложение и выйти за тебя замуж…
Иоганн порывисто хотел было что-то сказать, но она укоризненно качнула головой – не перебивай, и он осекся.
– Этому есть несколько причин. Я – падшая женщина, погрязшая в грехах, которые не могут быть отпущены мне лишь одной исповедью. Величайшим милосердием Спасителя и заступничеством Святой Девы Марии мне дарована жизнь во искупление этих грехов. Я уже дважды нарушила брачный обет. Не была верна ни тебе, ни другому мужу. То кольцо, что ты мне одел тогда на руку в Арбю, я тщательно прятала от матери, но наш дом сгорел, а вместе с ним испарилось и кольцо. Нельзя столько раз искушать судьбу. Я недостойна тебя, ни как чистого и честного человека, ни тем более, вновь, как священника. Я просто хочу быть покорной судьбе и следовать теми путями, которыми меня ведет отныне Господь. – Она вновь отвела глаза в сторону.
– Бред! Она считает, что Господь позволяет ей лечь со мной в одну постель, но запрещает идти под венец! – Чуть было не сорвалось с языка, но Иоганн удержал себя, осознав, что произнеси он эту фразу и все будет потеряно. Ее прошлое давит на нее и ей никак не избавиться от ощущения пропасти между ними, которую пастор пытался преодолеть, засыпать еще там, в Арбю. Пока она сама не осознает, пока она сама не побоится перейти ее по тому, пусть жидкому, хлипкому, состоящему из тонких дощечек мостику, что удалось и ему и ей, и волей Всевышнего, перекинуть через бездну, все будет бесполезно. Но он должен дать ей понять, что она не сорвется, что он ее держит за руку и не позволит упасть. За обе руки! Так и надо сделать! Иоганн взял в свои руки тонкие кисти Агнес, заглянул ей в глаза:
– Теперь, моя девочка, послушай меня, знакомого, как ты понимаешь с законами логики и умеющего правильно воспринимать и трактовать волю Творца. (Как я сейчас самонадеян! – мелькнула мысль). Ты сказала, что хочешь быть покорной судьбе, то есть, воле Господа? – Они кивнула. – Но не Он ли привел тебя снова ко мне? Он нас соединил много лет назад, и эта связь более чем ощутима, она осязаема, она воплощена в нашем сыне. Один раз ты ее уже разорвала, поддавшись искушению дьявола. Что из этого вышло – ты знаешь лучше меня, испив чашу вина Его ярости. Может, действительно, не стоит более испытывать судьбу и терпение Господа, который дает еще один шанс все исправить и восстановить. Нельзя иначе отнестись к Его явной воле, оправдывая отказ какими-то прошлыми грехами! Это будет лишь новым грехом перед Ним. Я прошу тебя стать теперь, именно теперь, моей настоящей венчанной женой, пусть даже это будет и во второй раз для меня или даже в третий для тебя, хотя я так не считаю, ибо первый брак был искренним, но незаконным с точки зрения существовавшего тогда церковного права, второй брак был тоже недействительным, потому что он заключался не на небесах, а на земле, в нем не было любви, не было искренности, один лишь голый расчет, что с твоей стороны, что со стороны того, кто принял тебя в жены, а это все было искушением от лукавого. Я прошу тебя избавиться от прошлого, оно уже свершилось и не должно повториться. Как нет больше и искушений, и придумывать их – грех! Я прошу тебя… и от себя, и… от имени нашего сына. (Господи, почему я так самонадеян? Мало того, я осмеливаюсь лгать от лица Андерса, который почти слово в слово сказал тоже самое, что и Агнес, при этом отрекшись от матери. Я выдаю желаемое за действительное? А если Андерс…? Прости мой грех, Господи, но мне кажется, что сейчас я исполняю Твою волю, что сын уже простил свою мать и поддержит меня, превратив сиюминутную мою ложь в правду.)