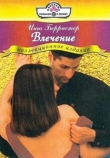Текст книги "Проклятие рода"
Автор книги: Алексей Шкваров
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 52 (всего у книги 80 страниц)
– Грех убивать так… Василек мой… – опустил голову Кудеяр, – по чести надобно…
– По чести? – Оттолкнула его зло. Опять к себя притянула, обняла, в глаза заглянула с мольбой безутешной. Застонала. – Его? По какой чести? Да, душегуб – он, муж мой! Если ему в руки попасть – мясо с костей живьем драть будет! Для тебя одного закон забуду, род и племя свое, соседей, стыд, есть ли кто кроме тебя, сокол мой! – Снова на грудь бросилась, долго еще рыдала. Молчал Кудеяр, гладил, целовал. Успокоилась со временем.
Договорились, что будет он к Марфе заглядывать, а она через сестру весточку ему передавать, когда увидеться смогут. На том и расстались с Василисой.
Что в Москве ждем? Какого случая? Все чаще мучил себя Кудеяр подобными вопросами. Вспоминал Стокгольм, порыв свой горячий, жажду отмщения, манившую и голосом крови и дальней неведомой дорогой. Ан уходит все куда-то. Уморил его мать покойный князь Василий, жена его молодая к тому руку приложила, иные бояре… Так ведь нет ни Василия, ни Елены Глинской… В могиле все они. Может уже своей смертью грехи искупили? Кому мстить? Иоанну? А виновен ли он за грехи родительские? И что я-то хочу? Убить Иоанна? И после? Себя сделать великим князем московским? Народ поверит на слово, как мои друзья нынешние? И мне, зачем все это? И как сотворить? Сидит Иоанн себе в Кремле иль в Воробьеве. Видели выезд его, так воинов тьма тьмущая. Полк целый. И что ждем тогда? Заикнулся, было, а Болдырь в ответ:
– Всяко дело, а такое и подавно, выстоятся должно. До знака Божьего!
Сенька Опара вторил:
– Слух для чего распускали? Чтобы народ будоражить! Народ поднимется – сметет и бояр и царя этого.
– Что-то в Новгороде не сильно поднялся. – Возразил Кудеяр, но Сенька не слушал.
– Весны ждать надобно. Слыхал, что в народе говорят – бабка царева, Анна, мать той самой Елены, что твою мать уморила – ведьма. От нее пожары все. Полыхнет Москва и народ вместе с ней.
– Да, ты что, парень? – Обнял Болдырь. – Аль отмстить за мать не желаешь? Передумал? Спустить псам боярским и княжеским? Да не в жизнь! Раньше сказывают, часто по ночам великий князь с ватагой шастал, озоровал сильно, убивал, девок насильничал. Жаль, утихомирился. А то б мы укараулили. Как котят всех бы передушили – перерезали. – Зло ощерился казак.
Пока суть, да дело, пока ожидание неясное тянулось, начались у Кудеяра встречи полюбовные, тайные, страстные, в поцелуях, да слезах.
– Каждый раз с тобой люблюсь, как в последний! – Признавалась Василиса.
– Бросить все, да вернуться в Стокгольм, к отцу-матери, служить в королевской гвардии. Мать бы как обрадовалась, приняла, благословила, отец был бы доволен… – Думалось Кудеяру, когда лежали, обнявшись в истоме любовной.
– Околдовал ты меня, молодец… – Шептала ему на ухо Василиса, ворошила ласково кудри смоляные, доставала гребень костяной, расчесывала. – Волосом своим вороньим проворожил, взглядом жгучим, сердцем горячим… Возвращаюсь в постылый дом, а на руках, устах, груди горят твои поцелуи. В гроб их заберу с собой. Как пригож ты, как ласков, мой суженый...
– Ну что ты все – «в последний раз…», «да в гроб заберу…»? За этим днем приходит иной, еще лучше и слаще. Не колдовство это, милая, Василек мой ненаглядный, любовь... Люблю тебя, истинный крест, более всего на свете, более матерей родной и приемной, более отца названного, более друзей верных. Так было Богу угодно, а не чарам бесовским.
– А что далее-то будет, самоцвет мой? Что ждешь ты от Москвы? Почему не бежим отсюда?
Молчал в ответ. Что сказать и сам не знал. Вновь думал про себя: «Словно мысли мои читает! Эх, Василек! Так и хочется поднять тебя на руки, закружить, закричать во весь голос: «Потребуй от меня чего хочешь – выполню! Прикажи – исполню. Все отдам – жизнь, тело на куски, кровь до капельки». А молчу. Зачем, и правда, сижу в Москве? Что дожидаюсь? Месть сотворить над Иоанном? Ушла куда-то злость на род их, растворилась в любви горячей. Она, лишь она, Василиса, ныне жизнь его.
За февралем март пришел, с его солнцем пригревающим, с капелью звонкой, быстрой, стучащей, словно сердце в поцелуях жарких, за ним апрель теплый. Любовь все сильнее и сильнее разгоралась, оттого разлуки становились невыносимее. С ними и ревность вспыхивала злой искрой к проклятому неведомому мужу – дьяку Казенного двора. Хотел было спросить о том, что мучило, да опередила его Василиса:
– Слава Господу нашему, видно хранит и оберегает меня Его Матерь, хоть с мужем постылым одр делить не приходится. Один ты у меня, Кудеярушка, и муж и любимый с коим ластиться могу.
– Не нужно, что ль ему? – Спросил осторожно, а у самого аж дыханье замерло радостно.
– Его ласка – кулак, да слово бранное. – Усмехнулась невесело. – Видно ничего ему не мило, окромя терзаний людских. Придет, наесться, напьется, пока я ему сапоги стягиваю, глянь – спит уже. А я и счастлива тому. Ты один мой хозяин и души и тела моего.
– Бьет?
– Бывает иногда… – Запечалилась.
Снова думал, хмуря брови: «Может убить дьяка? Почто моя любовь должна терпеть эту муку?»
Марфу узрел, наконец. Правда, разговаривала она с ним поначалу неохотно. Губы поджимала, брови хмурила. Но привыкла. Приветливее стала. На сестру похожа была, только постарше, ростом повыше, да телом крепче и шире. Одежда и убрус темные, вдовьи, словно монахиня.
– Тяжко Василисе со своим иродом. Оттого и грех ваш на себя принимаю и покрываю. Жаль мне сестру очень. Прости, Господи, прегрешения наши, оставь нам долги… – Крестилась на божницу.
– Давно вдовствуешь, Марфуша? – Спросил.
– Почитай, пять лет.
– А твой муж каков был?
– Чего старое поминать. – Махнула рукой. – Купец. Разный бывал.
– А на что живешь во вдовстве?
– Лавки и амбары мужнины мне отошли. Так в духовной было прописано. Наследников нам Бог не дал. В наем купцам сдаю. На то и живу.
– А иного мужа?
– Нет! – Резко качнула головой. – Нажилась вдоволь и досыта! – Горько рассмеялась Марфа. – Хорошо братьев у мужа не было, а то б со свету сжили, в монастырь загнали. Так и живу. Я да пес дворовый. Да Василиса забегает проведать. Посидим, поплачем вместе, вроде б и полегчает. А ныне гляжу на нее и радуюсь, как тебя повстречала – расцвела. Хоть и грех великий. Прости, Господи. Боюсь за вас. Муж прознает – никому головы не сносить!
Думалось Кудеяру, мыслилось разное: бросился за мать мстить – что это было? Горячность и необдуманность мальчишечьего поступка, жажда справедливости или поиск неведомого испытания? Но мать осталась там, в Стокгольме, там же где и отец! Мать, которая вырастила, а не та, неведомая, скончавшаяся в монастыре, отец, который воспитал воином, которому он хотел следовать во всем. Он отправился в далекую Московию, где обрел друзей, где нашел любовь… Любовь, которая вытеснила всю изначальную злость на обидчиков. Ведь нет злобы на них в душе у него! Нет! Что ему за дело до какого-то великого князя Иоанна, до его бояр, князей, дьяков, что ему до всей этой Московии? Отчего же он здесь, в ее столице? Что выжидает? Вернуться? Снова стать Бенгтом? Ведь не Кудеяр он, Болдырем придуманный, не Юрий, когда-то крещеный, а Бенгт. Так звали его сколько себя помнит!
Ранняя, да теплая весна в том году выдалась. Снегов и следа не осталось, просохло все быстро. Вот и заполыхала Москва в апреле. Сперва леса занялись, огонь быстро подступил к городу. Солнце потонуло в багровом удушливом дыму. Заревели медведи в буреломах, белки косяками в реку бросались. С лесов окраинных пламя на улицы перекинулось. Китай выгорел с лавками, товарами богатыми набитыми, гостиные дворы казенные с ним, обитель Богоявленская и множество домов от Ильинских ворот до Кремля и Москва-реки. Через неделю за Яузой полыхнуло, в пепел превратились все улицы, гончарные с кожевенными. Чуть было и дворы, где новгородцы разместились, не прихватило. Кудеяр оживился – вот оно долгожданное. Если б не любовь с Василисой, зачах бы совсем от тоски ожидания неведомого. Спросил товарищей своих:
– Не ваших рук?
– Нет! – Отказались дружно.
Хорошо в те дни горела столица. Царь опять в Воробьеве отсиживался. Митрополит Макарий чуть ни угорел. Из дыма спасая, стали со стены крепостной спускать к реке, да уронили владыку. Расшибся сильно старец. Зато дождь проливной спасительный хлынул, огонь в одночасье угас. Народ зашептался:
– Владыка мученье принял, оттого Господь смилостивился.
А Василиса на плече плакала навзрыд:
– Опять злодеев ищут. Снова на тебя Степан Данилович бранными словами кидался. Думают, ты поджег Москву.
Вздохнул, но промолчал, лишь обнял, к себе прижал крепче.
За весною лето наступило, июнь уж к концу близился, раз пришла Василиса вся бледная. Обнимать стал – застонала. Сразу понял не от страсти, от боли. Отстранился, в глаза стал заглядывать, а она прячет виновато, губы кусает. Хотел было раздеть, рубаху снять – не дает.
– Что так? Застыдилась? Аль не видел красоты твоей? Аль не целовал всю?
– Не хочу! Испугаешься. – Губы поджала.
– А ну-ка! – Сам взялся за подол, поднял, сорвал через голову, а там… живого места нет, где синева, где подтеки кровавые, где ссадины. Задохнулся от ярости. Василиса стыдливо руками побои прикрывала. Оправдывалась.
– Пьян был. А я от сестры, от тебя вернулась. Припозднились мы давеча. Помнишь? – Он кивнул, кипя внутри. – Вот и накинулся. Повалил кулаком. Волосы рвал и сапожищами, сапожищами. А я лишь живот прикрывала…
– Убью! – Прохрипел Кудеяр. Рука сама к поясу потянулась к мечу невидимому.
– Погоди. – Прильнула она к нему всем телом. – Сказать тебе хочу что…
– Говори, милая. – Взял ее голову обоими руками, заглянул в глаза.
– Дите у нас будет. Тяжелая я…
– Ох… – И задохнулся от счастья, от любви, от ненависти к проклятому Осееву.
– Не разлюбишь? – С испугом и надеждой смотрела в глаза.
Вновь обнял, прижал с себе, гладил затылок пушистый.
– Еще больше любить буду! – И понимает сам – зашли далеко, чтоб возвратиться, да он и не хочет ничего иного, кроме как видеть свою Василису вечно – темной ли ночью, красной зорей, днем ясным иль пасмурным, в доме, на улице, в храме Божьем, везде и всегда. – Без тебя потонет мое сердце в тоске, словно камнем обвязанное исчезнет в пучине темной. Ничего мне не надо, ни злата, ни воли вольной, одну тебя лишь хочу любить и холить. А с дитем и того боле.
Покрыла лицо его поцелуями жаркими со слезой перемешанными. Отвечал он ей тем же. Только заместо страсти была одна лишь нежность и ласка заботливая. Помог одеть обратно рубаху, скрыть с глаз страдания телесные. Помог с сарафаном. Сидели в горнице обнявшись, толковали о будущем.
– Я с ватагой сегодня ж решу, что подаемся прочь с Москвы. В пути и решим куда. Зовут на Волгу, на Дон, в Дикое поле, но мыслю не по пути нам с друзьями. До Новгорода подадимся, а там купцы немецкие вывезут в Нарву, аль в Дерпт. Оттуда морем. В Стекольну. К матери и отцу. Вот уж рады-то будут! Не буду больше ни Кудеяром, ни Юрием!
– С тобой хоть куда, Кудеярушка. Скажешь в Дикое поле – поеду, скажешь за море – и я подле тебя.
– Тогда не будем далече откладывать. Возвращайся домой, дабы изверг твой ничего не заподозрил сегодня. А с утра – к Марфуше. Налегке, ничего не бери. Мы с обозом неподалеку будем. На телеге схороним, рогожам прикроем, деньги нам все рогатки откроют. С нами любовь наша, Господь и Пресвятая Богородица.
– Завтра? – Затрепетала вся. – Матерь Божья, дожить бы… Не вериться! Видишь, не было счастья, так несчастье – побои мужнины помогли. Да я и не такое стерпеть готова, муку любую смертную, Кудеярушка, чтоб только после нее с тобой оказаться. Бабы они такие, терпеливые, все вынесут.
– Не нужно боле терпеть, Василисушка, ночь лишь пережить эту, а завтра к вечеру далеко от Москвы будем.
Горячи и солоноваты были ее поцелуи, гладила Василиса кудри черные, в глаза Кудеяру заглядывала, ластилась. Все расстаться никак не хотела.
– Ой, дожить бы до зорьки ясной…
– Доживем! Осталось самую капельку.
Вышел, народу на улице немного, оглянулся по сторонам, заметил – тень метнулась от забора, бочком, бочком и в сторону. Насторожился Кудеяр, сунул руку за пазуху, меч поправил. Только с церковью поравнялся, как вышли на него три стражника. Лоб в лоб. Двое с бердышами, у всех мечи.
– А ну, стой! – Правый древком ему в грудь уперся. Дыхнул перегаром луковым. – Кто таков?
Бердыш сшиб рукой, меч выхватывая, и рубанул сходу по лицу. Кровью залился стражник, рухнул на землю. Двое оставшихся растерялись на миг. Не ожидали прыти такой. Не теряя времени, ткнул в живот второму, что с бердышом оставался. Согнулся в поясе, застонал. Третий успел отскочить назад, заорал истошно, меч, вытягивая из ножен:
– Воры!
Народ стал оглядываться, присматриваться. Кто-то из церкви на крик выскочил. Но не вмешивались. Схлестнулись мечи, прозвенели. Кудеяр вдруг Осеева вспомнил. Всю злость вложил в удары. Стражник пятился. Рубака из него никакой. Кудеяр понимал – быстрее кончать надо, пока еще кто-нибудь на подмогу не бросился. Плечо вперед выставил, открылся нарочно, а противник и рад – рубанул, да в пустоту провалился, зато меч Кудеяра вошел ему в бок, пробивая кольчугу. Захрипел стражник, упал ничком.
– Поделом им! – Кто-то выкрикнул из собиравшейся толпы.
– Четвертый еще был, иль привиделось? – Мелькнула мысль. Кудеяр оглянулся. Но промежь народа не распознать.
– Беги, молодец, отсюда! – Снова выкрикнули ему.
И то, правда. Бежать надо. Кудеяр меч за пазуху и исчез в переулках кривоколенных…
– Уходим с Москвы! – Объявил Кудеяр товарищам своим.
– Что так? – Всполошились.
– Попался сегодня стражникам. Троих убил, может, кто еще был, да ушел. Мыслю – искать с утра будут. Теперича в лицо меня знают.
Друзья замолчали. Переглянулись.
– Если вы не со мной, то прошу последнюю службу сослужить. Семен, – Опаре. Тот поднял глаза. – помоги телегу с лошадью найти, да рогож на нее накидать. Завтра на заре хочу забрать свою Василису и с ней на Новгород податься, а там с купцами немецкими в Стекольну.
– А..? – Начал было Болдырь.
– Нет! – Резко оборвал его юноша. – Если друг ты мне сердечный, если помочь вызовешься, по гроб жизни должником твоим буду. Дитё у нас с ней будет!
Снова переглянулась ватага.
– Я тебе слово дал, Кудеяр. От него не отрекусь. Куда ты, туда и я! – Твердо сказал казак.
– И я! – Отозвался Опара. – Сперва в Новгород, тебя проводим, а далее сами решим.
– А я что хуже? С вами! – Поддержал их Истома. – Пойду за телегами, не мешкая.
– Выследил-таки женку твою, Степан Данилович. – Мялся перед Осеевым подьячий Афиногенов.
– Ну! – Рыкнул дьяк на Постника. Тот сжался под грозным взглядом, глаза быстро в сторону отвел, разве выдержишь.
– Так это… Василиса у сестры была, у Марфы.
– И?
– Сперва она к сестре пришла, а за ней молодец пожаловал.
– Кто? – Побелел Осеев. Афиногенову вовсе не по себе сделалось. Залепетал, заикаясь.
– Не-не-не ве-ведомо. Дождались мы таки. Сперва он вышел…
– Схватили? Или упустили, собаки?
– Убил трех. – С обреченным видом выпалил подьячий и затараторил далее. – Я и глазом моргнуть не успел, как он меч вытянул из-под полы и разделался с тремя играючи. Бес, истинный бес, прости Господи. Они-то, стражники, мужики здоровенные, а он словно детей малых… И сбежал. Покуда подмога пришла, как сквозь землю провалился. – На всякий случай Постник отступил назад и добавил, словно в оправдание. – Может, это и был сам Кудеяр…
– А-а-а… – Осеев рубанул воздух кулаком, да по столу, как треснет. – Моя баба с Кудеяром сблудила! И сестра ее! Устроили блудище срамное! Удавлю обоих! Позорища, ох, позорища на мою голову! На род весь мой! – Степан охватил голову руками, застонал, сидел, раскачиваясь из стороны в сторону и подвывая.
Афиногенову хотелось в таракана сейчас обратиться и спрятаться в щель узкую, с глаз долой, так страшен был Осеев. Прошло немало времени, пока успокоился Степан Данилович.
– Ты, это… вот что… ночью бери людей и к Марфе. Ее богомерзкую на казенный двор ко мне. – Глухо произнес Осеев. – Эту… – запнулся, не знал, как жену назвать, – блудищу сам буду… Марфу схватите, отправите, ты там оставайся с стражниками. Ждать будете. Как мыши, чтоб затаились! Не спугнули! Придет вор сызнова. Не упусти, пес, иначе… – Дьяк так посмотрел, что у Постника все оборвалось внутри.
– Исполню все, Степан Данилович. – Прошептал подьячий и поскорее за дверь выскользнул.
Отпустив подьячего, Осеев погрузился в раздумья. Дикая ярость отхлынула, забитая кулаком в глубину души, клокотала там, изредка вырываясь вспышкой неистовой злобы, обиды, ненависти, ревности, отчего темнело в глазах. В такие мгновенья Степан жаждал самолично разорвать жену в клочья, словно тряпку, и скормить дворовым псам. Дьяк закусывал кулак до крови, представляя, как неведомый вор, тать, самозванец тешит свою плоть с его, Степановой женой, а он…
– Моего захотел? – Хрипел Осеев, рвал на груди кафтан с рубахой, стучал кулаком в грудь и затихал, уходя в тяжки раздумья, вытесняя личное государевым делом.
– Чрез жену не падет ли на меня крамола? – Беспокойно заерзала вдруг подлая мыслишка. Но осенило. – Марфа! Ее полюбовницей вора сделаем. Она вдовая, ей в самый раз. А эту стерву… запытаю…
Вновь изверглась злоба раскаленной лавой, в ушах зазвенело, задрожало так, что не расслышал дверной скрип. В горницу вошла Василиса. Нахмуренного мужа увидела, подумалось:
– Одну ночку лишь претерпеть…, и не видать более постылого. – Радость спрятала старательно, вздох глубокий подавила, подошла к мужу поближе, поклонилась, да спросила обеспокоенно. – Свет мой, батюшка, Степан Данилович, прости глупую бабу, что от мыслей и забот отвлекаю, трапезничать не желаешь?
Осеев медленно поднял налитые кровь глаза, прошипел, чуть слышно.
– Простить, глаголешь, глупая баба? – И взорвалось внутри. Ударил, разбивая лицо. Топтал долго, с остервенением, не слыша ни хруста ребер, ни криков. Впрочем, Василиса и не кричала. Молчала, пока не лишилась чувств, а дьяк из сил выбился. Осмотрелся осоловело. Заметил кувшин на столе. Схватил, напился жадно.
– Эй, люди! – Позвал.
Вбежали холопы. Указал на окровавленную Василису.
– На казенный двор. Немедля. И чтоб кат был готов.
Василиса улыбалась. Боли почти не было, как не было и живого места на ее обнаженном теле, вздернутом на дыбу. Осеев время от времени отталкивал в сторону ката и пытал сам, ни о чем женщину не спрашивая. Он словно высматривал есть ли еще хоть одно место на истерзанном теле, куда бы не достал кнут или его кулак. Василиса теряла сознание, но ушат холодной воды возвращал ее в страшное бытие. Она улыбалась. Нет, не всклокоченный, забрызганный кровью муж стоял перед ней, а он, любимый. Не удары сыпались на нее, а поцелую горячие, страстные.
Кат, неодобрительно покачивая головой, смотрел со стороны, как дьяк избивает жену. Подвешенная к потолку, она смотрела сверху вниз на Осеева узкими щелочками заплывших глаз, уголок разбитого рта кривился в усмешке. Дьяк не выдержал и прохрипел, задыхаясь:
– Что, сука блудливая, сладко тебе? Слаще, чем с ним, с вором?
Но голова Василисы рухнула на грудь. Она молчала, уйдя в спасительное забытье.
– Ах, ты… – Захлебнулся Осеев, но дверь распахнулась и в пытошную стражники втащили Марфу. Женщина широко распахнула глаза, увидев растерзанную, висящую на дыбе сестру, вспыхнула разом, выкрикнула:
– Что, ирод, потешился вволю?
– Ныне и до тебя дошла очередь. – Тяжело дыша, отозвался дьяк.
– Пытай! Токмо помни – и на тебя кат сыщется!
Осеев отвернулся от нее, не отвечая. Видя, что помощник приготовился выплеснуть на Василису очередное ведро воды, дьяк остановил:
– Буде! Сама очухается. Пущай так повисит. Эту давай приспосабливай рядом.
Кат с помощником быстро сорвали одежду с Марфы, руки обмотали ремнями, в петлю просунули, дернули, и женщина, застонав, повисла в сажени от сестры.
Осеев внешне успокоился. Настал черед воплотить задуманное – отвести от себя крамолу. Дьяк уселся за стол, хотел было взяться за перо, да заметил, что руки и вся грудь с бородой в крови. Поморщился. Пришлось вставать.
– Эй, – кивнул помощнику, – дай обмыться.
– Что по локоть замарал себя кровушкой жены законной? – Донесся с дыбы насмешливый голос Марфы, но дьяк пропустил мимо ушей. Вымыв руки, сполоснув лицо и бороду, вытерся поданной чистой тряпицей, к столу вернулся. Расправил бумагу, обмакнул перышко.
– Ну, с Божьей помощью…
– С Божьей ли? – Снова послышалось из-под потолка.
– С Божьей, с Божьей, ибо с ворами дело здесь имею. – Невозмутимо отозвался Осеев. Поднял голову, всмотрелся внимательно. – Обе, значит, голубушки собрались у меня… Ответствуй, Марфа Федорова вдова купеческая, блудила ли твоя сестра Василиса с вором и татем, Кудеяром нареченным?
– Не знаю такого! – Спокойно ответила Марфа.
– Не про него, покамесь, речь. Вопрошаю сызнова: «Блудила ли твоя сестра?»
– Нет!
– Ты блудила?
– Вдовая я! Грех на тебе! Позоришь меня, честную бабу. Голой вывесил пред мужиками. И сам смотришь с мыслями блудливыми. Грех!
– Упорствуешь, Марфа! – Посмотрел пронзительно, исподлобья.
– Глаз твоих не боюсь, ирод. Не Василиса. Вона, что с сестрой сотворил. За то пред Богом ответ держать будешь.
– Не виновата, говоришь, Василиса? – Задумчиво протянул дьяк.
– Нет! – Резко мотнула головой, застонала от боли в вывернутых руках.
– Добро. О вине ее после потолкуем. – Осеев неожиданно заговорил миролюбиво. – Посуди сама, Марфа, ведь хоть и баба ты, да не глупа совсем. Людишки мои видели, как шастает к тебе на двор молодец. Черняв, высок, широкоплеч. В те же часы шастает к тебе и жена моя, Василиса. После сперва он уходит, за ним она. Кто блудил с ним?
– Отчего тебе блуд мерещится, Степан? То раз единый приказчик от купцов заходил, что в наем лавки моего мужа покойного взяли. Василиса его и в глаза не видела. Она в горнице, а мы в подклеть спускались. – Марфа даже обрадовалась, что сестра рядом, может, услышит. Вместе ведь завсегда легче под расспросом. Дурак, ты, Осеев!
– Зря ты так, Марфа… – Степан Данилыч сложил губы трубочкой, покачал укоризненно головой. – Думал, умнее… ан нет!
– Куда уж до тебя! – Буркнула женщина.
– Зри, глупая, я ведь даже бумагу не мараю лишним, – дьяк показал ей чистый лист, – вот изрекла ты ныне, что приказный к тебе приходил... – Женщина кивнула с дыбы. – Следовать, надобно мне того парня чернявого сыскать… Подыму я все бумаги наемные, по ним сыщу купцов, да людишек их, приказных, дворовых, случайных… всяких, до баб и ребятишек малых, всех. Да на дыбу подвешу!
– Тебе грехом больше, грехом меньше. Одно – гореть в преисподней. – Отозвалась Марфа, но голос ее дрогнул.
– Упорствуешь… Не хочешь признаться с кем…, – Осеев на мгновение задумался, припоминая, – в подклеть спускалась. За блудом быстрым, покудова сестра в горнице ждет. – Подсказал ненароком и кату помахал пятерней растопыренной – пять ударов, мол. Палач кивнул.
Закусила губу Марфа, ни звука не издала. На четвертом ударе в беспамятство впала. Отлили.
– Очухалась, милая. – Осеев спросил участливо. – О полюбовнике твоем толкуем… Так был, аль не был? Спускалась ли с ним блудить в подклеть?
Боль мешала думать, стекала горячей кровью по спине, пульсировала в мозгу, заводя все мысли в тупик страдания, если одна и выскальзывала, тут же цепляла ее когтями, заново сдирая уже не кожу, а мясо с костей, забрасывала в дальний угол безысходности. Сознание туманилось, глаза застилали слезы.
Взять на себя Кудеяра? Отвести от Василисушки? А ежели она уже призналась? Скосила глаз в сторону, на сестру. Эх, не видать, слышит ли она… А что с того, что вину взяла? Под пыткой кого угодно оговоришь и себя и чужого…
– Слышь, Степан, – прохрипела с верхотуры, – напиться дай.
Осеев кивнул палачу согласно. Кат ослабил виску, приспустил, ногами пола коснулась – все легче стало. Помощник миской зачерпнул в ведре, где дьяк смывался, так и подал с кровью. Напилась. Вздохнула и заговорила решительно:
– Пиши, Степан. То ко мне полюбовник захаживал. Зовут Иваном. В торговых рядах познакомилась. Назвался купчиной корыстным. Чем торгует – не сказывал, да и мне не интересно. Не торговаться, чай позвала. Бабье нутро по блуду истосковалось. Почитай, сколь лет без мужниной ласки вдовицей живу, вот и согрешила.
Осеев записывал, не перебивал.
– Звать, говоришь, Иваном? – Лишь переспросил, усмехнувшись.
– Иваном. – Подтвердила.
– А, может, Кудеяром?
– Вольно ему было Иваном назваться, а прочего не ведаю. – Марфа твердо стояла на своем.
– Купчина, толкуешь?
– Да!
– А блудя с ним, меча не приметила?
– Нет! – Мотнула головой.
– А купчина твой, с двора вышедший, яко вор Кудеяр опознан был, троих стражников уложил, достав меч из-под полы кафтана… А ты и не ведала.. – Покусывая перышко, тихо в сторону сказал дьяк, и также, не повышая голоса – кату. – Бей ее…
Веревку вздернули, подняли на дыбу. Свистнул кнут. На третьем ударе вновь Марфа впала в беспамятство.
За спиной скрипнула дверь.
– Кого там несет нелегкая? – Недовольно подумал Осеев, оглянулся. И вмиг подобострастная улыбка озарила его лицо. В пытошную привычно заглянул царев дядя, князь Глинский. Нос закрыв рукавом, огляделся:
– Баб расспрашиваешь, Степан?
– Их самых, Юрий Васильевич.
– Какие-то они… дохлые, что ль?
– Нет еще, отец родной, не дохлые. Притомились просто.
– Кто такие будут?
– Сестра моей жены. – Дьяк кивнул на Марфу. – С вором блудила.
– Ух, ты! – Глинский всмотрелся во вдову повнимательнее. – С которым из них?
– По-всякому пытал, Юрий Васильевич, не знает. – Осеев развел руками. – Мыслю, не врет.
– У тебя немой заговорит, знаю… А свою бабу вижу тоже не пожалел? – Ухмыльнулся князь, мельком глянув на кровоточащее тело Василисы.
– Чего жалеть? – Степан Данилович пожал плечами. – Одна с вором блудила, другая покрывала блуд. Заодно с ворами обе, значится. То дело ныне государево, не мужнино.
– Верно мыслишь, яко слуга достойный, дьяк.
– За ласковое слово прими, князь, поклон мой низкий. – Осеев склонился, а разгибаясь, спросил, словно невзначай. – Что делать-то с ними?
– С женой, что сам хочешь, на свою бабу и скотину – суда нет! А эту…, – Глинский ткнул посохом в Марфу, – колесовать назавтра при всем честном народе.
– Позволь, Юрий Васильевич, слово молвить? – Еще разок склонил спину Осеев. Ничего, не сломается.
– Молви! – Важно кивнул царев дядя.
– Посколь не ведомо с кем из воров спуталась сия баба грешная, посколь сестрой жены моей оказалась, то и на меня крамола падет…
– К чему клонишь, Степан Данилович? – Не понял Глинский. – Нет на тебе крамолы!
– То ты, мудрый князь, ведаешь, от того кланяться не устану пред твоей милостью, за ласку твою. А ведь иные не знают! Прокричит бирюч на площади про Марфу, а запомнят меня, чрез жену. Донесут государю, что плох Осеев в делах государевых, коль сестра жены с ворами зналась.
– Эк, ты витиевато… – Боярин посохом поводил в воздухе. – Что хочешь-то?
– Сказнить. Но тайно. Без колеса. Без народа. Пожалуй меня этим, Юрий Васильевич. Век холопом твоим верным буду.
– Как блудниц казнят по закону?
– В землю по горло закапывают. А мы и груди еще вырвем…
– А со своей как мыслишь?
– Сворой закопаем. Грех на ней не меньший.
– Делай, как знаешь! Моим, да государевым словом повелеваю.
– Вот пожаловал, боярин, так пожаловал… – Степан снова согнулся в земном поклоне.
– Хватит кланяться, дьяк. Воров ищи!
– Близки мы уже, Юрий Васильевич. На Марфином дворе их поджидаем. С полюбовника начнем, за ним и иных словим.
– Поспешай! – Глинский заторопился на выход.
Василиса очнулась. Ох, и сладко забытье, сон дивный, так бы и не просыпалась. Скосила глаз разбитый в сторону, ан, Марфуша рядом, кровью вся залитая. Не пожалел сестру, ирод.
Осеев заметил, что жена зашевелилась. Приблизился, заглянул снизу:
– Что, сука блудливая, сладко тебе?
Чуть двинулись разбитые губы, прошептала:
– Слаще, чем с ним, Степан Данилович, никогда не будет… – Вновь уголок рта скривился в улыбке глумливой.
– Сука! – Взревел Осеев и обрушил свой кулак на нее. Бил в живот, да вниз его, бил со всей силы.
Василиса вдруг почувствовала, оборвалось в ней что-то, посмотрела удивленно вниз, увидала кровь на пол стекающую. Застонала. Нет, не от боли, от понимания, что не родится дите Кудеярово, вытравили плод из нее.
Кат заметил струящуюся кровь, сообразил, что произошло. Голос подал:
– Уймись, Степан Данилович, кончится скоро твоя баба.
– С чего взял? – Осеев прекратил избивать жену, дышал тяжело.
Кат ткнул кнутовищем на низ живота:
– Кровями внутренними исходит из срамного места. Долго не протянет.
– Из срамного, говоришь? – Прошипел дьяк. – А вот мы ей и ласку последнюю устроим. Давай мне прут каленый…
Еще и петухи не пропели, как была ватага в сборе. Две телеги, рогожами завалены, под ними мечи схоронили.
– Не спеши, парень! – Придерживал казак Кудеяра. – Не гоже торчать перед Марфиным домом. Не иначе прицепятся.
– Зачем? Во дворе поставим. Она вдова купеческая, мы с товаром. Мало ли по делам торговым заглянули.
– Сам говорил, дел она не ведет, лишь в наем мужнины лавки сдает.
– Едем к ней! – Уверенно повторил Кудеяр.
– Ждать нас там могут! – Возразил Болдырь.
– С чего?
– С того, что у церкви тебя выследили!
– То у церкви, не у дома! Случай!
– Не верю я в случаи. Не бывает. – Не соглашался казак.
Кудеяр опять вспомнил тень, метнувшуюся вдоль забора. Оттого еще более заторопился. А если прав Болдырь? Если Василиса в беде?
– Ты, вот что, парень… – Казак цепко положил ему руку на плечо. – Горячка не нужна. Не блох ловим. Пойдем-ка сходим сперва поглядим. Коль тихо, Семен с Истомой за телегами вернутся, а мы обождем в сторонке. Жену дьяческую воровать хуже черкешенки дикой. Хватятся, искать будут, на всех заставах смотреть.
Дошли быстро. На знакомой улице осмотрелись – тишина, лишь где-то вдалеке сторож трещоткой постукивает, самого не видать. Ни души пока что. Спит еще народ православный. В доме Марфы тоже – ни огонька, ни звука. Глянь, дьячок церковный появился, дверь в храм Божий отпер и внутрь проскользнул. Калека безногий на паперть взобрался и замер в ожидании народа, что скоро начнет на службу собираться. Голосисто первый петух пропел. Ему собратья откликнулись. Восток зарозовел, словно разбуженный.
– Обождите меня здесь. – Вдруг зашептал Болдырь. – В церкву загляну. Муторно на душе. Потрохами недоброе чую. Свечку поставлю.
– Нашел время… – Недовольно начал было Кудеяр, но казак оборвал его:
– На Бога всегда есть время! Глядишь, подскажет, вразумит. Не при на рожон. Стойте здесь. – И не дожидаясь упреков, казак серой тенью метнулся к церкви. Оглянуться не успели, как он уже у входа шапку сорвал, поклонился трижды и дверь за ним закрылась. Пробыл недолго, вышел обратно на паперть. Одинокий нищий тут же руку к нему протянул.