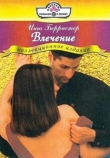Текст книги "Проклятие рода"
Автор книги: Алексей Шкваров
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 50 (всего у книги 80 страниц)
– На Швецию? Но король с такой ненавистью говорил о Ревеле! Он даже хочет на финском берегу построить свой город, который бы отобрал торговлю от Ревеля.
– Густав хитер… Пугает. Зачем стоить новый город, если ревельцы сами попросятся в подданство. Правда, учитывая интересы Ганзы и вражду короля с купеческим союзом, это будет нелегко.
– А ваш епископ?
– А наш… Коадъютор Ордена и правая рука магистра Иоганн фон Рекке и наш епископ фон Рекке. Думаю, здесь все ясно. Тем более, что нынешний магистр не может похвалиться отменным здоровьем. Вполне возможно, что его сменит коадъютор.
– То есть, к императору Карлу?
Отец кивнул.
– К нему. Но наш епископ, кажется, собрался вовсе бежать.
– Куда? И как? – Не понял Андерс.
– Чувствует, что скоро все зашатается, закладывает все свои имения и, по слухам, подыскивает земли в Вестфалии. Мало того, опять же, говорят, хочет повыгоднее продать и собственное место.
– Кому? – Изумился Андерс.
– Да есть тут два претендента… Один – богач, рыцарь Петр фон Тизенгаузен, владелец десятка замков по всей Ливонии. Другой – аббат Фалькенауского монастыря отец Герман.
– Рыцарь и аббат?
– Не удивляйся, сынок. Это же орден. Он состоит из братьев-рыцарей, то есть воинов, братьев-священников, они же духовенство и братьев-слуг – ремесленников и прочих. Рыцари и священники легко меняются местами. Кстати, тот самый аббат Герман Везель больше походит на рыцаря, чем на смиренного служителя Господа. Ливония не монархия, но и на римскую или греческую республику не похожа. Скорее просто земля, занятая переселенцами из Германии, которые заботятся только о собственном благе, но не государстве, ибо его нет. За триста лет существования Ордена они не создали ничего прочного, никакого фундамента, на который можно было бы опереться в дни невзгод. Епископы и магистр это верхушка, враждующая между собой, а им всем вместе противостоят бюргеры – магистрат и две гильдии – большая купеческая и малая ремесленная, которые успели овладеть всеми выгодами торговли и не в последнюю очередь с Московией. Но есть еще и третьи – туземцы – курши, ливы, латыши, эсты, живущие в крайней нищете и безбожии. Мы даже не знаем их языка!
– Я слышал, как один купец из Ревеля называл их «не немцы». – Андерс вдруг припомнил разговор в нарвском трактире с Хельмихом Фикке.
– Именно так их и называют. – Подтвердил отец. – А если мы не знаем их языка, то, как мы можем нести им Слово Божье? Но епископам этого и не нужно, поскольку эти самые «не немцы» находятся в их рабстве.
– То-то меня сегодня фогт спрашивал о финских крестьянах и, узнав, что они свободные люди был удивлен и, кажется, даже разочарован.
– Да-да, конечно, удивлен, ибо немцы себе даже не могут представить такого. Они отбирают у местных крестьян почти весь урожай, обрекая питаться одним толокном, а иногда и корой с деревьев, они пользуются по-рыцарски правом первой брачной ночи, забирая силой в свои замки любую из приглянувшихся юных девушек… Нет, эту землю ждут тяжелые испытания и Божья кара… За жадность купцов, объевшихся жирными угрями и наливающихся с утра до ночи пивом, за высокомерие, разврат и пьянство рыцарства, уже не способного влезть в свои доспехи, предпочитающего бархат и шелка, но не брезгующего отобрать последнее у крестьянина. И эта кара придет с востока.
– С востока? Кого ты имеешь в виду? Москву?
– Да, Московию. Без малого полсотни лет назад Ливонский орден в лице магистра Плеттенберга подписал трактат с Москвой о мире и признал их требования об уплате дани.
– Какой дани? Ты что-то писал об этом, но толком я не понял.
– Эти земли когда-то принадлежали русским, и они собирали дань с местных жителей. Город Дерпт был основан князем Юрием, хотя они предпочитают называть его языческим именем Ярослав по прозвищу Мудрый. Юрий – христианское имя князя. В честь него город назвали Юрьевым. Ливонский Орден был в силе и завоевал Юрьев. Не с первой попытки, но захватил. Русские, в конце – концов, признали эти земли за Орденом, но оговорили себе, что прежде собираемая дань сохраняется и возлагается на Орден.
– И Орден платил?
– Не думаю. Менялся Орден, менялась и Русь. Теперь всем заправляет Москва. В последнюю войну при магистре Плеттенберге Орден потерпел поражение. Русские обязали магистра согласиться и подтвердить дань. Это был единственный способ избежать продолжения войны и завоевания.
– А велика дань?
– По марке в год с одного человека, кроме священников. Думаю, что несколько десятков тысяч уже набежало.
– И что они собираются? Будут теперь платить? И платили ли уже?
– Нет. Не платили и, думаю, не будут. Жадность застилает глаза, которые моментально становятся близорукими и ничего дальше собственного носа не видят. После смерти великого князя Иоанна, деда нынешнего правителя, Московия постоянно воевала с другими – с Литвой, Казанью, Крымом. Потом была Елена, малолетний Иоанн и его бояре. Москве было не до Ливонии. Но время от времени она напоминает Ордену о долгах…
– А они?
– Они… Помниться, новгородцы называли это «лезть на рожон». Здесь, в Дерпте, есть русский двор и церковь Святого Николая. В договорной грамоте от 1474 года сказано, что «Святые Божьи церкви в Юрьеве в русском конце и весь русский конец держать честно по старине». А наш епископ делает все, чтобы отобрать эту церковь.
– Но московиты не простят этого!
– И я о том же.
– Безумцы! Орден располагает сильным войском, способным противостоять Москве?
– Нет. Рыцарские доспехи и мечи давно проржавели, а пивные животы не позволят их даже нацепить. Их воинственного пыла хватает лишь на бесконечные пьяные пирушки и избиение крестьян. А епископские кнехты только вытрясают жалование из своих хозяев. Если им ничего не перепадает, то они объединяются в шайки и выходят грабить на дорогах.
– Хочешь сказать, что агония близка?
– Она уже началась. И Ливония будет заслуженно разорвана между Московией, Данией, Польшей и, возможно, Швецией. Вот кому больше достанется сказать сложнее.
– И ты не боишься оставаться здесь, отец?
– Нет. – Иоганн грустно улыбнулся. – Ведь на все воля Господня. Он сделал так, что чума обошла наш дом, в Его Воле и все остальное.
Послышалось, как гулко хлопнула входная дверь, кто-то торопливо затопал по залу. Шаги приближались. Разговор прервался появлением в ризнице церковного служителя.
– Господин пастор,… – Он запыхался.
– Что случилось, Петер?
– Ваша жена… – Прохрипел служитель, не в силах справиться с дыханием.
– Что с ней? – Вскричал Иоанн.
– Что еще с ней? – Мрачно произнес сын.
– Наверно, поскользнулась, – с трудом преодолевая отдышку, выговорил Петер, – и попала под колеса повозки с рыбой.
– Агнес, она жива?! – Иоганн вскочил, сын остался сидеть.
– Кончается… – Служитель глубоко вздохнул и опустил голову.
– Где она?
– У аптекаря Клауса. Туда занесли, а я побежал за вами, господин пастор.
– Идем, Андерс, скорее. Догоняй! – Веттерман уже бросился к выходу, сын сокрушенно покачал головой, поднялся и молча последовал за отцом.
Агнес умирала. Тяжелое колесо телеги торговца из эстов, прибывшего с грузом рыбы из Ревеля, переехало ей грудь. Что послужило причиной? Был ли это несчастный случай, которому способствовала листва, усыпавшая мокрые булыжники мостовой, или Агнес решила таким страшным образом уйти из жизни, от Иоганна, от Андерса, от Элизабет и воссоединиться с матерью, сказать сложно…
Она силилась еще что-то произнести наклонившемуся над ней мужу, но слова пузырились сукровицей на губах и лопались беззвучно. Иоганн с надеждой посмотрел на аптекаря, но толстяк-саксонец развел руками, вздохнул и скорбно поджал губы.
Стоящий за спиной отца Андерс что-то тихо сказал, но Иоганн не расслышал, обернулся к нему:
– Что ты говоришь, сынок?
– Сказано во Второй Книге Царств: «Аз воздвигну на тебя зло…!»
Они вместе посмотрели в бледное, без единой кровинки, лицо Агнес, в этот момент из ее груди вырвался какой-то хриплый свист, похожий на «Прости!», кровь хлынула горлом, и глаза женщины медленно потухли.
Глава 10. Дела государевы.
Москва приняла ватагу радушно, хоть и с оружием, да люди торговые, кто ж без него в путь-дорогу отправится. Кожи скинули с барышом. Никого не задирали. Об умыслах своих не делились. По дворам купеческим расселились, стали приглядываться, прислушиваться, чем люди живут, чем дышат, о себе понемногу рассказывать. Добрым людям люди рады! Слово за слово, московиты тоже поведали, что жизнь – не малина. От великого князя, что ныне царем звали – так бирючи на торгу объявили, и нужда была великая. Люд московский его выезды ночные безбожные, лютые с людьми побитыми, да девками порченными, хорошо помнил. Поуспокоился, правда, как сперва на царство венчался, да женился после. Надолго ли, нет, кто его ведает? Зато от бояр его, особливо от дядьев Глинских, да бабки княгини Анны, ныне жилья тоже не стало.
– Колдунья она! Сколь пожаров было, все ее ведьминых рук дело! – Новгородцы переглянулись, смолчали. От московских не утаилось. – Не верите, что ль? Вот те крест! – Купчина, ватагу по дворам приютивший, размашисто осенил себя и в крест медный, что на груди богатырской тускнел, кулаком стукнул – для достоверности.
– Ну коль ты доверился, то и мы тебе скажем… – Загадочно шепнул Болдырь. – Слыхали мы, что на Москву Кудеяр некий приехал. А знаешь, кто сей муж будет?
– Кто? – Недоверчиво спросил купчина, косясь на казака.
– Сын Соломонии Сабуровой и великого князя Василия. Ему и быть бы великим князем московским.
– Врешь! – Впился глазами в казака.
– Ну, коль ты крестом клялся, то смотри! – Болдырь также, как и купец, осенил себя. Да не един раз, а трижды. Еще и молитву краткую сотворил.
– Ух, ты! – Восхитился купчина. – То-то люди сказывали, что родила Соломония в Суздале, а дитя исчезло.
– То-то! – Передразнил Болдырь.
– А сами-то его видели? – Допытывался московит.
Болдырь хитро переглянулся с Юрием – Кудеяром.
– Да случилось разок. Он чрез Новгород ехал. Вот и свиделись…
– И каков?
– Помоложе тебя будет. Вот, сродни нашему Юрке. Не, чуток постарше. – Опять подмигнул Кудеяру. – Черняв, бородат, высок, широкоплеч. С ним ватага. Все, как один богатыри.
– А много ль?
– С два десятка.
– И на Москву подались?
– Вперед нас ушли. – Подтвердил казак.
– А на Москве что умысливают?
– То мне не ведомо! Что ж он по твоему разумению должен с каждым встречным делиться?
– Н-да… – Купчина огорченно опустил голову.
– Сдается мне, – загадочно прошептал ему казак на ухо, – неспроста на Москву-то его ватага подалась. Коль сын-то он законный князя Василия, то сам понимаешь, может нынешнего пододвинуть захочет, может за мать в монастыре загубленную Глинскими отмстить... – И отодвинулся. – Токмо я не говорил тебе ничего, а ты не слыхал. Привиделось, послышалось… А то про меня подумаешь, будто я – Кудеяр. Иль вон Юрка.
– Да, не-е-е. – Замотал головой московит. Заулыбался хитро. – Не говорил ничего, а что и расслышал, так, то сорока на хвосте принесла, на торгу трещала. – И добавил, замечтавшись. – Эх, где ж сыскать того Кудеяра на Москве?
– Сказано – про то не ведаю! Больно велика ваша Москва. Людей – пруд пруди. Толчея, аки в Стамбуле агарянском. Человек – песчинка! А на что он тебе-то сдался? – Подмигнул купцу Болдырь.
– Да доброго царя бы на престол великокняжеский…
– А без царя, знамо, никак?
– Нет. – Тряхнул головой убежденно. – Бог на небе, великий князь на земле.
– А с чего ты взял, что он добрый?
– Обиженный всяк добрее энтих, зажравшихся. Сам чудом спасся и людишек жалеть будет.
– Темнота ты московская. Бог он един, а царей – королей, херцогов всяких я повидал на веку своем немало. Токмо ни при одном жизни сладкой не видел. То мы – казаки живем-поживаем, не тужим, кругом решаем, басурман бьем. И нужен ли царь нам? Нет!
– То вы, то мы.
– Эх! – Махнул казак рукой обреченно. – Вытоптали вас татары. Потому и мыслить разучились. Царя вам подавай! Своей башки на плечах нет, токмо у него должна быть.
– Своя есть, да мала.
– Ну и живите! Ищите Кудеяра, может согласится царем вашим стать.
– Попросили бы всем миром.
– Слыхал я про мир ваш… – Казак отвернулся даже. Кинул на прощанье через плечо. – Бывай, купец!
После Кудеяр упрекнул его:
– Зачем сказал?
– Слух про тебя, Юрка, пустить надобно. Пусть задрожат ироды. Чем страху больше, тем злее, а чем злее, тем глупее.
– А разыщут, переловят?
– Где? Посреди задворок и тупичков московских? И кого? Ватагу большую искать будут. А ежели к нам… Ха! Отобьемся и уйдем. Малым числом всегда легче. А у них пусть требуха в брюхе дрожит.
Тяжела служба на Казенном дворе. Целыми днями в клети пыточной, света белого не видишь. Зима ль, лето, все едино. Круглый год тепло от жаровен палаческих. Одного за другим волокут людишек, на дыбу вздергивают, и сидит дьяк, знай расспросные речи записывает. Одного возьмут, а он еще с десяток оговорит, колесо дознаний крутится, поток людской не ослабевает. Вот звонаря приволокли с колоколенки Большого Благовеста, что пред Большим Иваном еще при великом князе Василии поставили. Уронил, пес, колокол в день воскресный.
– А-а-а… – Истошный крик оборвался вместе с хрустом вывернутых суставов. Вздернутый на дыбу лишился чувств.
– Эх, ты, черт! Куда торопишься? – Прикрикнул на палача Осеев, дьяк Казенного двора, ведавший расспросными делами.
– Не рассчитал, Степан Данилыч, легок больно… – Виновато потупился кат, выпустил из рук веревку, отчего тщедушное тело жертвы соскользнуло с дыбы на пол. – Отойдет! – Успокоил. И приказал помощнику. – Плесни на него.
Из темноты застенка выступил молодой парень, одетый, как и мастер в длинный кожаный передник, закрывавший спереди все туловище, взял ведро и с размаху окатил расспрашиваемого водой. В ответ обнаженное тело зашевелилось, послышался слабый стон.
– Говорю же, отойдет. – Палач подергал себя за густую черную бороду и добавил. – Не сумлевайтесь, Степан Данилыч.
– Отойдет… еще и спросить не успел, а из него дух вон… – Дьяк недовольно пробормотал себе под нос, расправляя на столе лист бумаги и намереваясь записывать. Покусав в раздумье гусиное перо, обмакнул кончик в чернила и заскрипел, шепча вслух. – Так, Матвейка Кузьмин сын, из новгородцев, звонарь колокольни Большого Благовеста, сотворил падение колокола в чем доводится крамола и татьба на государя и великого князя…
Любил свое дело Степан Данилович. Иной раз и пытка не надобна была, одного взгляда хватало. Как зыркнет Осеев на раба Божьего, так у того и ноги подкашиваются, дрожь до костей пробирает. Иные без чувств валились. Злой глаз был у дьяка, пронзительный, нос крючком, коим буква «глаголь» завершалась, губы тоненькие в ниточку, голова лысая углом скошена к подбородку, бородка узкая, длинная до пояса. Изба черная казенная дом родной заменяла Степану. Хотя и имел хоромы добрые, двухярусные, с подклетью и повалушей на Константино-Еленовской улице, да не часто туда возвращался. Овдовев рано, женился вновь на молодухе. И зачем, сам не понимал. Прежняя жена с полуслова понимала дьяка, а эта, Василиса, смотрит испуганно, угодить норовит, да все невпопад. Может оттого, что глядел на нее Степан Данилович, как на подопечных своих. Ну и ладно. В страхе должна баба жить, оттого что скверна одна лишь от них. Все они богомерзки и блудливы. Иногда охаживал кулаком свою. Так, для острастки. Ничего за ней не примечалось, иначе дворня б доложила немедля. Упадет дура на пол, зальется слезами… тьфу ты, разжалобить что ль хочет… Да он этих слез в день по ведру… только в злость вводят. Плюнет на жену, да спать завалится. Поутру опять на двор казенный, дела вершить государевы.
С пола донесся скулеж, словно не человек там лежал, а щенок слепой, потерявший сучку кормящую. Дьяк прислушался.
– Господине, помилуй мя грешного, нет вины на мне…
– Ишь, выкормыш. – Ухмыльнулся дьяк в бороду и громко отдал приказ палачу. – Давай, кат, подними его, но медленно.
Тот кивнул, схватился за веревку, потянул. Несчастный звонарь задергался, завихлялся, но связанные руки неумолимо тащили за собой все тело. Застенок вновь наполнился жутким криком, срывающимся на визг.
Дьяк поморщился:
– Эк, пес, визжит, как… – подумав, завершил мысль, – как собака. – И сам усмехнулся собственной шутке. Палач тем временем поднял тело на нужную высоту – так чтобы ноги пола не касались. Закрепил веревку, отошел в сторону, скрестив руки на груди в ожидании дальнейших приказаний.
Внезапно наружная дверь распахнулась и в застенок ввалился князь Юрий Васильевич Глинский. Тяжелый запах шибанул с морозца в нос, боярин даже остановился, замер, прикрыл лицо лисьей опушкой рукава. Осеев выскочил из-за стола, склонился почтительно.
– Эк, у вас тут… воняет! Не продохнуть со свежего воздуха. Словно в выгребную яму свалился.
– Хуже, Юрий Васильевич, хуже. – Подтвердил дьяк, разогнувшись и пододвигая скамейку высокому гостю. – Целыми днями-ночами мясом горелым, потом нехорошим, кровью и калом смердячим дышим, ибо не с христианами дело имеем, а с ворами, да иными псами погаными. Почитай сами в том по горло сидим, провоняли насквозь.
– Ладно, плакаться, рассказывай, – князь уселся на скамью, по-прежнему в мех лицом уткнувшись, – что за умысел был у этого? – кивнул на одуревшего от боли, а потому замолчавшего звонаря.
– Токмо приступили. – Развел руками Осеев. – Сей Матвейка Кузьмин сын во время боя уронил колокол…
– Без тебя знаю! – Оборвал его князь. – Далее что? Крамола, умысел каков? Сколько их татей?
– Кваску не желаешь, Юрий Васильевич? – Дьяк потянулся было к кувшинчику, что завсегда стоял на дальнем конце стола. Любил Степан Данилович глотку смочить, покуда расспрашиваемый криком исходил от боли нестерпимой.
– Да иди ты… – Отмахнулся князь. – Тут и без кваса сблюешь от вони. Хоть проветриваете?
– Опосля работы каждый день.
– Дело давай, а не квас!
– Дело сейчас будет. Приступаем! – Осеев махнул рукой палачу, а сам вернулся за стол, взял в руки перо, изготовился записывать.
Кат, вооружившись кнутом, приблизился к висящему на дыбе человеку и снова замер. Матвейка задергался, пытался повернуть голову, разглядеть, что его ожидает. Зашептал:
– Господине, помилуй меня грешного…
– Матвейка Кузьмин сын, – громко начал свой вопрос Осеев, – почто удумал ты колокол уронить?
– Не удумывал, господине, – завыл звонарь, – сам он упал. Ухо обломилось от боя, меня чуток не зашибло. Я-то с языком по другую сторону очутился, а он вниз полетел.
Словно не слыша ответа, дьяк гнул свое:
– На кого татьбу умыслил, пес? На государя и великого князя? Аль, – скосил взгляд в сторону, на Глинского, – на боярина и царева дядю князя Юрия Васильевича?
Глинский встрепенулся, подался вперед, впился взором в искаженное мукой лицо звонаря.
– Господине, – скулил Матвейка, – не тать я…
– Сознавайся, собака! – Прикрикнул на него Осеев и подал знак палачу. Раздался щелчок, хлесткий удар, сорвавший лоскут кожи со спины обреченного, и кат смахнул с ремня первую кровь. Матвейка заорал, что есть мочи. Боль тетивой изогнула тело.
– Не тать я, звонарь… – Продолжал упорствовать, заходясь в крике. Дьяк кивнул палачу. На третьем ударе Матвейка сознался. Осеев удовлетворенно хмыкнул, обмакнул перышко в чернила, заскрипел по бумаге, внося добытые показания.
– На кого умышлял? – Спросил Глинский.
– Не ведомо мне… – Хрипел звонарь. Дьяк шевельнул перышком, и снова кнут обрушился на спину несчастного.
– А-а-а, на государя, на великого князя нашего… – Сознался Матвейка.
– С кем?
– Один был на колоколенке я…
– Не верю! Кто подговорил тебя татьбу учинить? Кто на Москве? Каких иных татей ведаешь? Пусть все выкладывает! – Грозно изрек Глинский.
– Сказывали, – слова со свистом вырывались из Матвейкиного рта, пузырились кровавой слюной на губах, кончик кнута, опоясывая спину, доставал до груди, оттого кровь струилась и по животу, – в рядах торговых, будто объявились воровские люди на Москве…
– Каким числом? Откуда пришли? Кто?
– С десятка два, может более, может менее, разное слышал, – словно в бреду бормотал звонарь, – говорят с Новгорода пришли.
– Ты ведь сам новгородский? Знаешь их?
– Новгородский! – Пытался голову поднять, она плохо слушалась. – Но их не ведаю…
– Продолжай, пес. Что еще слышал?
– Сказывают люди, что за вожака у них – Кудеяр, прозвище его. Будто сын он Соломонии, великого князя Василия первой жены… – Уронил Матвейка голову на грудь.
– Что? – Глинский на ноги вскочил, оглянулся на дьяка, встретился с его изумленным взглядом. Осеев тоже поднялся из-за стола.
– А ну, повтори, чей он сын?
– Соломонии Сабуровой, господине… – Выдавил из себя звонарь, головы не поднимая.
– Железом его! – Приказал князь, подошел вплотную к расспрашиваемому, чтобы ничего не пропустить. Степан Осеев придвинулся к боярину, кивнув заодно кату.
Тот пожал плечами, возразить попытался:
– Не рано? Не уверен, что сдюжит.
– Исполняй! – Нетерпеливо повторил приказ Глинский.
Палач отложил кнут, надел на правую руку толстую рукавицу, откинул крышку жаровни, вытянул оттуда накаленный докрасна прут и, прикрывая другой рукой себя, ткнул им в Матвейкин бок.
Послышалось шипенье, нечеловеческий крик пронзил уши и смолк через мгновенье, явственно запахло паленым человеческим мясом и калом. Тело звонаря обвисло на дыбе. Глинский с Осеевым невольно отступили назад. Палач обеспокоенно швырнул прут обратно в жаровню, левой рукой дотянулся до Матвейкиной шеи, пощупал, быстро отвязал веревку, отпустил – тело рухнуло на пол.
– Эй! – Мастер заплечных дел кликнул помощника. Тот мгновенно появился с ведром воды, выплеснул на Матвейку, оба присели на корточки, ощупали еще раз. Палач медленно распрямился, буркнул, глядя исподлобья:
– Кончился!
– Как? – Глинский обескуражено переводил взгляд с дьяка на ката и обратно. – Ты чего, пес, натворил?
– Чего сказывали, то и творил. – Невозмутимо отвечал палач, чуть отступил назад за Матвейкино тело и убрал руки под кожаный передник. – Сказывали железом, вот и не сдюжил звонарь.
– Да я тебя… – Глинский замахнулся было, но шагнуть поостерегся – между ним и катом лежало то, что еще час назад было человеком, а ныне представлялось куском мяса, измазанного кровью и испражнениями. Палач невозмутимо смотрел на боярина. Юрий Васильевич передумал, рубанул воздух кулаком с досады, вернулся к скамье, грузно плюхнулся.
– И что ныне? – Спросил сам у себя.
Потом посмотрел на Осеева. Дьяк развел руками в стороны:
– Надобно сыск учинить по Москве. – Произнес нерешительно. – Были слухи лет двадцать назад…
– Без тебя помню! – Глинский отвел глаза. – Государевы дьяки ездили тогда в Суздаль. Не было дитеныша у Соломонии, тьфу, сестры Софии. А этот? – Кивнул на мертвого Матвейку. – Сказывал, мол, объявился? Самозванец?
– Вестимо, самозванец. – Подхватил Осеев. – Откуда взяться, коль не было?
– А если сплоховали дьяки? Родила таки Соломония, тьфу, – снова поправился, – сестра София? А если то Василия сын… – Глинский вдруг замолчал, осознав всю бездну, что разверзлась перед ним вместе с вырвавшимися словами.
Осеев тоже молчал, испуганно смотря на боярина.
– Нет, самозванец это. – Повторил Глинский, словно убеждал себя.
– Да, Юрий Васильевич, вестимо, самозванец. – Поддакнул дьяк.
– Ты, вот, что, Степан Данилыч, – князь поднял тяжелый взор на Осеева, по имени-отчеству назвал, честь великую оказывая, – сыск на Москве учини полный. Про Сабурову и великого князя Василия ни полслова, – дьяк кивал согласно, – искать вора новгородского Кудеяра и иных татей с ним. Кудеяр… – повторил задумчиво.
– «Любимый богом» по-татарски – подсказал дьяк.
– А-а, – отмахнулся князь, скривившись, – «любимому» тому сыск учинить скорый и тайный, как и прочим татям. Неровен час народ московский прознает, беды не оберешься. Эх, не успели спросить, – Глинский глянул мельком на труп Матвейки, – где, в каких торговых рядах, сказки сказывали…
– По всем пройдемся, везде послушаем. – Отозвался Осеев.
– Людей бери сколь надо! Мало своих с казенного двора, от меня возьмешь. Не жалеть! Из-под земли сыскать, и в черные избы их, в железо. После расспрос учиним. Не так, как с этим. – Кивнул в сторону мертвого звонаря. – Ладно, пошел я. Племянник мой, прознав про колокол, сюда прискакал. – Кряхтя, поднялся со скамьи. – Плохую весть ему понесу, пока иду, обмыслю, что сказать.
На воздух вышел, отдышался перво-наперво. Шубу распахнул, потряс полами, дабы вонь застеночную выветрить. Даже шапку горлатую снял, покрутил в воздухе.
– Пострашнее сказку племяннику поведать следует. – Думал боярин. – Захарьины наверх ныне полезут. Сродственники новые по царице. Ан нет, мы – Глинские ближе стоим и будем стоять. Надобно Ваньке понимать, кто от татей его оберегает. Не должен племянник бабу свою слушать, тем паче родню ее.
Степан Данилович, оставшись с катам наедине, вернулся к столу, схватил кувшин, приложился жадно и долго. Бурая жидкость стекала двумя струйками по бороде. Напившись, рукавом утерся, обернулся к кату:
– Что столбом стоишь?
Палач молча поднял и опустил плечи.
– Работы чую у нас прибавится… – Задумчиво произнес дьяк.
– Нам не привыкать! – Отозвался кат.
– Изгадили вы все тут. – Осеев огляделся по сторонам. – Прибраться надобно.
Ранее Глинского в Грановитой палате оказался митрополит всея Руси Макарий.
Иоанн, примчавшийся из Воробьева, увидев старца, сошел с трона навстречу, заспешил под благословение. Осенив знамением, дав к руке и кресту приложиться, владыка обрушился на царя:
– Ты почто, государь, казну архиепископскую в Новгороде изъял?
Смолчал Иоанн, взглядом огрызнулся словно волчонок загнанный. Вернулся на трон, уселся и насупился. Митрополит продолжил, стоя перед ним во весь рост, посох в сторону отведя.
– Ведь о том тебя Господь спросит – печалился ли о земле русской, над которой Он тебя господином поставил и утвердил чрез помазание Божье моей святительской рукой и в Его храме, отцом над всеми чадами сделал, дабы укреплял ты их в вере, из бед вызволял, из полона басурманского, отводил от богохульства и ересей примером благочестивым и милосердным. Как Господь наказывает оставить мать и отца, к жене прилепиться, стать единой плотью, тако же и ты, государь, в царство вступил. А ты с чего начинаешь? С того, что казну архиепископскую, Божью казну из дома Божьего забрал! А ведомо ли тебе, государь, что с той самой казны я самолично архипастырем новгородским будучи, твоей матери великой княгине Елене Васильевне деньги отсылал, дабы полоняников наших из плена басурманского вызволить? Что скажешь, государь?
Ногти грыз в отчаянии Иоанн, оправдание себе придумывал. Буркнул в ответ первое, что в голову пришло:
– Хотел им слово милостивое сказать, а они в реку меня удумали столкнуть, да промахнулись. С Ванькой Мстиславским, что подле меня был, спутали.
– Э-эх, ты… спутали. – Недобро усмехнулся Макарий. – То-то за ним прыгнули сразу!
– Вот черт, и про это знает! – Подумал Иоанн, лихорадочно соображая, что еще сказать митрополиту.
– А псковичей почто побил давеча?
– А что я им? Ветошь? Чуть в грязь не втоптали!
– А не ты ли их в грязь-то нагими втаптывал, вином поливал, огнем волосья и бороды палил? Челом бить к тебе шли! На воровство наместника псковского, на князя Ивана Турунтая – Пронского! А ты их… Даже большой благовестник в тысячу пудов не выдержал, рухнул с колокольницы.
– Сказывают, тати ухо обломили, думали я под воскресный благовест из Грановитой палаты на двор выйду. – Буркнул Иоанн, но митрополит и бровью не повел. Продолжил обличать юного царя.
– Мало народ твой триста лет в ногах у татар ползал, в прахе валялся? Только-только вставать начал. И ты его топчешь? Собери сперва, услышь, да свой голос подай! Вот оно отныне единое царство русское, Божьей милостью во мне. Да пусть прокричат о том на всех торжищах, в церквах, во всех концах и весях, в колокола отзвонятся, пушками отгрохочут. Собери собор, объяви ему сам и прислушайся. Не ропот, а глас народный в ответ зазвучит, единый, как царь, один для всех. И вели вновь ударить в колокола, разверни пушки на поганых, возглавь рати московские, избавь землю русскую от всей нечисти, отгони ее от границ, заберись в логово магометанское, разори и в холопы обрати! Увидят, услышат тебя православные, отзовутся, за тобой на смерть пойдут, а после славить великого царя будут!
– Да, владыка! – Выдавил из себя. Стыдно стало. Вот ведь всегда так. Поговоришь с Макарием, все ясно, чисто, словно в воде святой искупался, слезами собственными умылся, а останешься, зажмуришься – одни мысли с другими грудь о грудь становятся, «На поле!» – кричат, поединка требуют. После бьются, аки ангелы белые с черными бесами, а кто из них кто не видно, бестелесные они, невидимые. Глаза откроешь, а пред тобой людишки крутятся, кто в кафтанах золотых, иные в сермяге. А что там внутри в душах, один Господь ведает. Убить ли норовят, аль помочь? Как распознать? Псы на них нужны преданные, как Тимерлих, дабы нюхом измену чуяли, воровство клыками рвали, крамолу метлами выскабливали, выметали прочь, а добрых слуг облизывали, да к царской руке подводили для ласки и милости. Самому глаз нужен острый, до самых потемок души пробирающий, что псы не учуяли, то сам узрел! Верно, все верно владыка говорит! Надо царем быть справедливым, добрым, но грозным, яко дед мой и тезка. Вся власть от Бога, знамо и слово царское доброе, грозное, но Божье!
Глинский возник внезапно за спиной Макария. Смутился князь. Хотел было выйти, да Иоанн остановил. Обрадовался – нашлась причина отвлечься от едких слов митрополичьих. Хоть и верно все, да краснеть надоело.
– Что тебе, Юрий Васильевич? – Поманил рукой ласково.
– После, государь. Не хочу тревожить. И так разговору с владыкой помешал. – Поклонился Глинский.
– Говори, не печалься. Рад тебе всегда, дядя. От владыки какие могут быть тайны, коль его рукой благословенье Божье дано. Где другой мой дядя, брат твой Михаил? Здоров ли?
– Слава Богу, государь. С бабушкой твоей, княгиней Анной во Ржеве. Приболела мать, вот навестить и отъехал.
– Кланяться вели от меня.
– Непременно, государь.
– А тебя, что за нужда привела, Юрий Васильевич?
Не хотел князь при митрополите, да пришлось. Стал свою сказку рассказывать.
– Прознали мы, государь, про тех татей, что колокол уронили.
– И сколько их? – Голос окреп, грудь распрямилась, брови сдвинулись, очи засверкали.
– Поболе десятка. А взяли одного лишь.
– Что ж вы так, бестолковые? – С досадой вскричал Иоанн. – А остальные? Ушли?
– Не серчай, государь. Помилуй нас, грешных. – Склонил голову дядя. – Крепки оказались тати. Ратным искусствам зело обучены. С десяток детей боярских, да своих холопов я потерял, а раненых и не счесть. Покуда помощь подоспела, разбежались воры, одного лишь взять удалось. – Гладко придумал Глинский. Чем страшнее, тем лучше. И племянника попугать, и себе цену набить. Впечатлило юного царя. Аж приподнялся на троне.