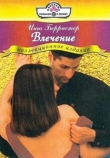Текст книги "Проклятие рода"
Автор книги: Алексей Шкваров
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 80 страниц)
– Подобные оскорбления смываются только кровью и страшными предсмертными муками виновных!
. Саму Тельницкую Бона Сфорца отравила сразу, как стала женой польского короля, затем постаралась избавиться и от детей. Первым должен был погибнуть сын Сигизмунда Ян, виленский епископ. Вспыльчивый пан Станислав Радзивилл, науськанный королевой, затеял драку во время сейма и, выхватив саблю, нанес страшный удар своей жертве. Но Ян выжил и благоразумно спрятался на время в своем имении Шавли , подаренном отцом. Настала очередь его сестры Регины и в ход снова пошел яд. Младшую Катаржину спасло лишь то, что вовремя вышла за француза Георга де Монтферо и укатила во Францию. Оттого боялся Сигизмунд Старый свою жену и предпочитал сидеть в Литве.
Только из Вильно терпящий поражения король никак не мог раскачать и заставить Польшу вмешаться, придти на помощь войскам литовским. Паны ясновельможные ворчали, неохоту свою не скрывали, ссылаясь на татарскую опасность. В Крыму междоусобица вышла. Ислам-Гирей восстал против Саадат-Гирея, сверг его, не признал присланного из Стамбула родного дядю Саип-Гирея , начал с ним войну. Гадали паны, куда теперь орда метнется – на Русь или на Польшу с Литвой? Ислам-Гирей с Москвой заигрывал, шертную грамоту прислал. Хитрил татарин, свою выгоду искал, с азиатским коварством предложил:
– Кто недруг великому князю, а мне друг, тот и ему друг… – намекал на поляков с литовцами, заодно пушек требовал в подарок и денег за союз. Пока выговаривали послам татарским, что негоже такое предлагать, полки из похода вернулись. На Себежском озере, на литовской земле, крепость возвели. Стены, хоть и деревянные, да место удачное – на мысу высоком, далеко в водную гладь вонзившимся. Оставили там 500 пищальников псковских с воеводой Иваном Бутурлиным.
Государыня Елена успокоилась. Войны на время прекратились, Иван в ее покоях расположился, ревность улеглась, иногда лишь покалывала, когда просился отъехать деток навестить, но не больно, так, назойливым комариком подозрений старых. Да и Ваня поменялся со временем. Стал больше в дела государственные вникать, на бояр покрикивать, ее не стесняясь, словно трон великокняжеский к себе примеривать. Челобитчиков сам принимал, а они охотно к нему шли, потом Елену уговаривал в их пользу рассудить. За ним и весь род Оболенских стеной вырос. Вроде б и безопасно, да холодком терема иногда отдает.
– Ну, да и пусть! – Махнула рукой. – И так голова кругом. Литва не отстает, с Крымом непонятно чья сила верх возьмет, из Казани недобрые вести приходят. – Иногда точил червь сомнения:
– Женскую ли ношу взвалила на себя? Может и прав был тогда деверь Юрий Дмитровский? – Но отгоняла от себя мысли дурные. Сыновья ведь растут. Не только ради себя, ради них сохранить надо державу от Василия доставшуюся. Им передать, а самой и правда отъехать куда-нибудь с Ваней любимым. В круговерти дел на сыновей времени не оставалось. Видела изредка на приемах, да и то только одного – Иоанна, (она любила именно так его называть, в честь великого деда), когда мальчика наряжали послов принять, рядом с ним сидела неподвижно, этикет соблюдая. А так хотелось прижать, поласкать, зацеловать в макушку пушистую. Изводилось сердце материнское, краем глаза наблюдала, как ерзал и скучал мальчонка на троне, как неудобно было ему сидеть, почти согнувшись под тяжестью одежд, расшитых жемчугами, каменьями да золотом, как смотрел глазенками широко раскрытыми, непонимающими – зачем все это? – на церемонии долгие и пышные. И с радостью убегал, отпущенный на свободу к мамкам, к Челядниной, а не к ней, провожавшей его грустным взглядом и возвращавшейся к другим заботам, числа которым не счесть. Помимо войн и крепостей новых, дела внутренние добавлялись – беднел народ из-за того, что деньги мельчали, купцы торговать боялись, цены росли, покупатели обман в том видели, а другие богатели корыстолюбиво – деньги обрезали, переливали, примеси подмешивали, сами чеканили, а вес уменьшали. Елена приказала:
– Всех обрезчиков и подельщиков казнить сурово – руки рубить, в глотку олово заливать. Деньги собрать и перечеканить заново.
Из одного фунта серебра без всякого примеса теперь должно выходить было 6 рублей. В рубле 100 денег. На монете по-прежнему «ездец» изображался, но вместо меча у него в руках теперь было копье, оттого монету прозвали «копейной» или «копейкой».
В это время тихо скончался в заточение родной брат покойного государя Василия князь Юрий Дмитровский. Поговаривали, что голодом его уморили. Младший Андрей Старицкий в ужасе в уделе своем спрятался, носа боялся показать, в Москву наотрез приезжать отказался – больным объявился. Лекаря к нему послала Елена, да вернулся немчин, развел руками – не допустили.
– Да черт с ним, путь сидит там! – Отмахнулся от Елены Иван Оболенский. – Они ж с братом спали и видели, как трон из-под тебя выдернуть! Одним меньше стало, другой, глядишь, сам от страха помрет. О Литве надобно думать, со Старицким потом разберемся. Крым волнуется, набегов можно ждать. Пусть сидит, войска бы у него токмо вытребовать, да присяги повторной. Пошли в Старицу Крутицкого епископа Досифея, к клятве церковной привести твоего деверя, чтоб не помышлял о злобном под страхом Божьим. Может, уговорит его архиерей…
Мучила Елену еще одна мысль тайная… Врут все, что сердце материнское знает точно, кто отец ее ребенка, когда с двумя мужчинами ночи делила. И так и этак вглядывалась она в старшего Иоанна, то Василия черты виделись, то любимого Овчины-Оболенского. Хранила тайну страшную в самой глубине сердца, сколько раз от страха замирала, когда Василий был жив, вдруг заподозрит неладное, вдруг донесут ему о том, кто проникает на его место, на перины пуховые ложится, пока великий князь московский на охоте развлекается. Отлегало от сердца, видя подлинную радость Василия от детей своих, но сомнения-то не покидали. А Ванюше и словом не обмолвилась. Инстинкт материнский останавливал, хоть в припадке ревности и жаждала бросить ему в лицо:
– К своим торопишься? А про другого и не вспоминаешь? – Но немели губы, рот на замок закрывался, ком вставал в горле, не позволяя ни единому звуку вырваться. Лишь взгляд бросала укоризненный, который князем Иваном по-своему понимался – ревностью женской.
Бремя забот государственных все тяжелело, цепями сковывало – не вырваться из них. До детей ли тут? Ночью, прижимаясь к Ивану, шептала иногда:
– Страшно мне, соколик мой…
– Чего боишься-то… – спрашивал сонно.
– Ты вот все в походах не бережешь себя, вперед всех скачешь, а я извожусь, плачу ночами, боюсь за тебя, молюсь, как бы чего не случилось… Одна ведь останусь с деточками малыми…
– Ничего… – обнимал рукой крепкой за нежные плечи, прижимал к себе до ломоты в костях, – мы, Оболенские, могучи. И сами убережемся, и тебя в обиду не дадим. – Всхлипывала Елена, засыпала на груди молодецкой, но тревожно было.
Сигизмунд не успокаивался. Грозные вести пришли с запада, донесли, что вновь к Смоленску литовские рати собираются. На это раз московское войско повел князь Василий Шуйский, а Ваня любимый, как всегда с передовым полком ускакал. Снова сердце женское тоской-тревогой сдавило.
Обманули литовцы, свернули неожиданно, вместо Смоленска стремительно подошли к Стародубу. Осаду начали. Пришлось новое войско собирать на подмогу. В Стародубе пока успешно защищался брат родной Ивана Телепнева – Федор. Гедеминович – последний из братьев Бельских Дмитрий, что поклялся служить верой и правдой и отрекся от родственников, да князь Федор Мстиславский пошли воеводами с ратью на выручку.
Но недаром говорят: «Пришла беда – отворяй ворота…», в Крыму междоусобица закончилась, Ислам-Гирея убил кто-то из ногайских ханов, и на Бахчисарайский престол уселся ярый враг Руси – Саип-Гирей, и сразу ударил с юга, на Рязань.
Широки и бескрайни степи Дикого поля, что примыкают к стороне рязанской. Только не пряностью трав пахла Степь, несло оттуда бедой страшной, смрадом и жутью смертельной, гарью пожарищ, зноем великим, ремнями рабскими сыромятными, кровью, слезами и потом пропитанными. Лишь в русских пределах безбрежность трав натыкалась на утесы лесов дубовых. Открытость границ, незащищенность природой, внезапность и стремительность нападения представляли страшную опасность. По душистым высоким травам пролегали страшные шляхи-сакмы – Муравский, Изюмский, Кальмиусский, извечные пути степных разбойников на Русь и обратно, залитые кровью и слезами несчастных полоняников, угоняемых в вечное рабство, на муки, смерть или позор. Сплошной оборонительной черты не было. Китай, защищая себя с севера, выстроил гигантскую Великую стену, на Руси такой защитой служили леса. Рубили на лесных дорогах деревья, стволом к Полю валили – засеки получались, расширяли овраги, ставили острожки отдельные по берегам рек и речушек, на переправах и бродах забивали мелкие колья вверх остриями. За Ельцом на Быстрой Сосне, за Рязанью на Оке и дальше с разрывами на Серпухов и Нижний Новгород. Сей рубеж оборонительный назывался «берегом». Сидели на нем засечные стражники с близлежащих деревень, по одному с 20 дворов отобранные. Вперед высылались лишь одинокие разъезды сторожей, зорко следивших за всем тем, что делалось в степи. Да разве охватишь это море бескрайнее! Сколько требовалось тонкого знания степной жизни от них, где малейший признак мог стать грозным предзнаменованием – примятая трава, крики птиц, да зверь испуганный. Иногда тревожные вести приходили с гонцом от донских казаков, обитавших неподалеку от турецкого Азова.
Каждый год ждали орду и почти каждый год она приходила. И зимой и летом. Историки подсчитали, что за первые 50 лет XVI века крымчаки 42 раза ходили на Русь. Исключением были бесснежные зимы, с сильной гололедицей. В такое время татары избегали нападать. Коней своих они ковали плохо, непрочно. Подковы делали из пиленого бычьего рога, привязывали их ремнями к копытам. Лошади скользили на льду, падали, татарская конница теряла главный свой козырь – стремительность и быстроту налета. Зато по снегу, по замерзшим рекам их было не удержать. Накрывало белую равнину темное облако, по горизонту плывущее. Сторожа сразу понимали – крымчаки вышли в налет, гибель и разорение приближается. Тысячи татар идут или десятки тысяч, кто их сосчитать сможет? Летописец и это отметил: «не так часты бывают деревья в лесу, как конница татарская в поле». Каждый татарин вел в поводу двух-трех лошадей, оттого численность орды всегда казалась вдвое втрое больше, чем на самом деле. Одно хорошо, зимой заметить расползающееся черное пятно орды можно было издалека. Летом – хуже. Высокая трава скрывала всадников почти с головой. Да и тактику татарская менялась, к хитрости они прибегали, ибо обширность степей позволяла.
Приближаясь к русским пределам, орда делилась на четыре части. Одна отходила назад и становилась кошем в ожидании других, ушедших на разбой. Излюбленным местом был юрт Акты-Яр, будущая Ахтырка, лежащий чуть в стороне от Изюмского шляха. Задача остававшихся – принять полон, обеспечить отход, ударить по преследовавшим свежими силами.
Три уменьшившихся орды разбегались прямо, влево и направо. Через некоторое время снова разделялись на трое, превращаясь, в конце концов, в партии по 5 человек. Примятая трава от столь малого числа лошадей быстро поднималась и скрывала все следы прохода. Даже если сторожам и удавалось наткнуться на татар в столь малом числе, о ней и давали знать, что часто вводило в заблуждение воевод. А татары, меж тем, проделав этот маневр на крупной рыси, сходились в условленном месте и нападали в гораздо большем числе, чем их предполагали встретить.
Выжигались целые деревни, жителей убивали и уводили в плен, сколько могли. Пленников ждала горькая судьба и цепи – «кайданы». Молодых девушек и женщин продавали в гаремы, остальных мужчин и женщин обращали в прислугу, клеймя лоб и щеки. Огромен мир мусульманский, от скал Крыма до знойных пустынь Африки, от берегов Атлантики до Индийского океана реет зеленое знамя ислама, и везде разбросаны невольничьи рынки, поглощающие сотни тысяч несчастных, обреченных на вечные муки, страдания, рабство, на которых зиждется мощь государств, объединявших безжалостных и кровожадных последователей пророка Мухаммеда. Самых сильных мужчин продавали на галеры, где они должны были, сидя прикованными к скамьям у весел, грести день и ночь. Их всегда держали полуобнаженными и нещадно хлестали прутьями по спине – «червонной таволгой». Одна надежда была у несчастных, что встретятся басурмане в море с казачьими чайкам и победа будет за православным «лыцарством».
Ворвались татары Саип-Гирея на рязанские земли, обагрилась кровью земля русская, заполыхало зарево пожаров, заревел угоняемый скот, заголосили несчастные женщины, по убитым мужьям и сыновьям, оплакивая и свою долю теперь уже навек рабскую.
В одночасье с татарами и другие разбойники пожаловали, даром, что православные – на северские земли налетели казаки заднепровские Естафием Дашкевичем, да жаждой наживы ведомые. По литовской указке действовали. Пограбили и ушли быстро.
Пришлось срочно поворачивать князю Дмитрию Бельскому с ратью, так и не дойдя до Стародуба, на татар. Крымчаки боя не приняли, отступили, осыпая стрелами и оставляя после себя лишь трупы и сожженные деревни. Весь полон, равно, как и угнанный скот, они уже успели отправить заблаговременно до появления русских ратников.
Между тем, пал оставленный без подмоги Стародуб. Литовский гетман Юрий Радзивилл собрал сильную армию, в которой было много европейских наемников – пушкарей и саперов . Они сделали подкоп, заложили мощные пороховые заряды, снесли взрывом часть крепостной стены и ворвались в город. «А того лукавства подкапывания не познали, что наперед того в наших странах не бывало подкапывания» – лаконично отметил летописец, не знакомый, как и оборонявшиеся русские, с европейскими способами преодоления фортификационных сооружений и противодействия им. Погибло 13 000 человек. В плен к литовцам попал сам Федор Телепнев-Оболенский, родной брат Ивана Овчины-Телепнева-Оболенского. Помимо Стародуба литовцы захватили еще и Гомель.
Горе обрушилось на русскую землю. Вокруг Москвы срочно каменную стену возводить начали, вдоль рва в прошлом году прорытого. С четырьмя башнями – Сретенской, Троицкой, Всесвятской и Козьмодемьянской. Сбор объявили «полонянный», выкупать угнанных в рабство, жертвовали кто сколько мог. Владыка новгородский Макарий лично прислал Елене 700 рублей, на словах добавив:
– Душа человеческая дороже золота!
В довершении всего Казань опять откинулась от Москвы. Не обошлось и здесь без происков крымского хана Саип-Гирея. Прежний правитель Джан-Али-хан, прозванный Еналеем, только что женился на красавице Сююмбике, дочери ногайского хана Юсуфа , и проводил все время в объятьях молодой жены, в наслаждении сладостями любовными, оставив и Казань и все дела на карачибека Булат Ширина. Но недолго. Подосланные убийцы зарезали беспечного Еналея, как отбившегося от стада барана. На освободившийся казанский трон прискакал племянник крымского хана Сафа-Гирей, посмотрел на прекрасную вдову Сююмбике, чадра прикрывала манящую спелость ее губ, но глаза красавицы блестели призывно и сладострастно, и новый повелитель откликнулся на зов плоти, тут же пожелав сделать ее своей женой.
Вот и представь теперь, читатель, в каком окружении была Русь во времена детства Ивана Грозного и матери его Елены Глинской. С востока Казань ополчилась, с юга Крым налетами разбойными мучил, с юго-запада Литва грозилась. Внутри грызня боярская, да измены продолжались. Оставалось еще Ливонии и Швеции вмешаться… Бабье ли дело войны вести?
Казанцев отбили с грехом пополам, да с потерями – сперва костромские волости сожжены были, затем муромские. Литовцы снова выступили – Себеж осадили, но воеводы Засекин и Тушин удачную вылазку предприняли, лед на Себежском озере не выдержал, многие из противников утонули, остальное войско разбежалось.
Вновь крымцы пронеслись смерчем по окраинным селам. Срочно посла к хану отправили. Выбор пал на князя Василия Мезецкого, второго воеводу из Путивля. Саип-Гирей обиделся – не по чину, посла унизил, обобрал, поселил в самой бедной сакле на окраине Бахчисарая. Стены навозом лошадиным обмазаны, кровля провалилась, одно окошко и дверь без полотна:
– Кого эта женщина ко мне шлет? Калгу последнего? Пусть живет, как свинья, пес неверный! – Плевался гневно хан.
В Москву приказал отписать, что готов принять богатые дары, требовал примирения с «его» Казанью, а также отправки к нему послами важнейших бояр или князя Василия Шуйского или конюшего Телепнева. – А не то, вступим в землю русскую, и все будет в ней прахом! – Угрожал, и угрозы эти были серьезны.
– Господи, да когда ж все это кончится? – Думала Елена, слушая ханское послание вместе с думой. Как прозвучали слова, что требует к себе Саип-Гирей любимого Ваню послом отправить, не удержалась, заплакала. Лицо рукой прикрыла, чтоб не видели бояре слезы бабские. Дьяк, письмо читавший, закончил и замер в ожидании ответа. Дума зашумела, обсуждать принялась, закачались высокие шапки боярские, лишь великая княгиня молчала, сидела по-прежнему, голову на грудь склонив. Мысли ее метались:
– Господи, да что ж за напасть такая? Со всех сторон навалились проклятущие… Ванечку не отдам им! Шуйских? Всегда они с хитрецой, то угодливые, чуть виновато смотрят, видно за братца двоюродного дел натворившего каются, а то, нагловато глаз не опускают, может и усмехаются в бороды, но на словах поддержат, да с такой уверенностью, что, мол, по-другому и никак. Господи, с кем останусь-то? Ведь боюсь я этих Шуйских, а без них…
Иван Шуйский шепнул брату:
– Эк, хан вывернул. Иль тебя иль полюбовника требует. Его-то Елена не выдаст, нечто тебя, брат, заставит к поганым ехать? Заодно за Андрюшку отмстит.
– Не пошлет! – Уверенно отвечал старший. – А Андрюшка, дурак он, но вышло все нам на пользу.
– Это в чем, польза-то?
– В том, что проверили одного братца Васильева. Тонка кишка оказалась. Как у всех у них. – Князь Василий кивнул в сторону трона. – Недаром их ветвь младше нашей. Один Иван Васильевич был крепок, отец их. Точно Грозный, а сыновья, племянники, так, поросль мелкая, хлипкая, взойти и заколоситься семенем ядреным не сможет.
– Так ведь Андрюшке и голову снести могут, иль голодом уморить… Не жаль родича?
– Нет! – Отрезал Василий. – Не жилец он. Прыти много, ума Бог не дал. Не сейчас, так потом, не в клети каменной, так на плахе. Горбатого еще подбивал… Хорошо, тот вовремя меня известил. Я и посоветовал ему выдать Андрюшку.
– Ты? – Младший брат в ужасе рот открыл. Перекрестился.
– Закрой хлебало-то! Надует! – Зло осадил его Василий. – Через Горбатого и мы с тобой чистыми остались. Да в чести, вблизи, а не в опале. Вона, где места наши – первыми сидим. – Скосил глаз на Елену. Княгиня находилась все в той же позе, с опущенной низко головой, словно происходящее ее не касалось. – Сидит, переживает за Ваньку своего…
– Ну и я про тоже! – Брат не унимался. – Как тебя пошлет?
– Не пошлет, сказал! – Василий повернулся к Ивану, сверкнул гневно глазами, в лицо задышал. – Ванька при кровати пуховой состоит, или полком передовым скачет командовать, когда пыл любовный передышки требует, а кто кроме меня державой русской управлять будет? Или с главной ратью выступить? Она что ль? – Мотнул головой назад, в сторону трона.
– А не заметил ли ты, как челобитчики все через него лезут? Как Ванька дела к себе прибрать хочет?
– Челобитчики… – Передразнил брата Василий. – Меня больше Бельский заботит! Гедеминовичи! Его надобно на нашу сторону. А эти… Оболенские… – махнул рукавом, сплюнул прямо на пол, сапогом сафьяновым растер, – обступили, стеной тебе кажутся… – головой покачал насмешливо. – А где они? Один челобитные на перине принимает, а остальные? В крепостях по украинам сидят, Федька в плену литовском, Щепин за сдачу Гомеля в клети каменной. Не стена это, а забор. Все на одной бабе держится, а выдерни ее и рассыпятся, как бревнышки, покатятся головушками из-под топора. А она – баба! Слезлива, гневлива, на расправу скора, да жестокосердия не хватает!
– А царевичи? Подрастают ведь…
– Второй, сам знаешь, блаженный, а первый… Оболенского вышвырнуть с Челядниной, своих приставить, пусть растет пока. Шейка у него тоненькая, в мать. Обломить всегда можно! Мы, Шуйские – старшая ветвь Рюриковичей, мы еще будем править на Руси! А пока, я сейчас бабе нашей слезы оботру! – И отвернулся разом от брата, неторопливо поднялся, на посох опираясь, шапку поправил, поклонился трону и молвил громко, весь шум думский перекрывая сильным голосом:
– Дозволь слово молвить, государыня!
Елена очнулась, словно ото сна, быстро, что никто не заметил (как же!) слезы вытерла, глаза непросохшие подняла на боярина:
– Говори, Василий Васильевич, слушаю тебя. – А голос дрожал еще предательски. Дума замолчала разом, не на великую княгиню, на Шуйского уставились. Князь Василий Васильевич редко выступал, чаще брату подскажет нужное, да подтолкнет локтем – говори, мол. С боярами тоже был немногословен – только по нужде да выгоде своей, а о прочих и поминать не стоит – презирал за худородность. В лучшем случае кивком головы удостоить мог, да и то не всех. Оттого Немым и прозвали.
– Думаю, что в Крым ответить следует, что про Казань пусть заглянут в летописи старые – кто, как не дед нашего великого князя завоевал ее, а они лишь коварством и обманом временное господство над ней учинили. – Начал степенно. – Пусть Сафа-Гирей сидит в Казани, но присягу нам даст, и мы останемся в мире и забудем вины его. Что до послов, Саип-Гиреем требуемых, отправим, но не Шуйского и не Телепнева, не хватало нам просьбы ханские выполнять и первых бояр к нему посылать. В том не за себя опасаюсь и не за князя Ивана Федоровича, храбрее которого на Руси не сыщешь, – подсластил влюбленным, – а за честь великокняжескую поберегусь, что не ровня поганой ханской. Подумаем, обсудим, подберем кого-нибудь. Не второго воеводу городского, как Васька Мезенцев, познатнее выберем. Нам ведь еще с Сигизмундом старым речи вести. Литовцы мира хотят, о послах договариваются, от них Ян Глебович, воевода полоцкий с четырьмя сотнями знатных дворян едет. Сама ведаешь, через князя Федора Телепнева, что в плену мается, весть прислали. Опять же король Сигизмунд хану не ровня. С ним надобно всерьез и вровень разговаривать. Кроме земель наших, самое святое дело – родного брата князя Ивана Овчины Телепнева из неволи выручать. – Не преминул боярин повторить, напомнить, что о близких Елениных печется. Государыня слушала внимательно. Кивала. – Что Казани касаемо, то войско надобно усилить, а для этого к деверю твоему, государыня, князю Андрею Старицкому повторно кого-то надобно посылать, владыка Досифей съездил, да без толку, дело родственное, спокойное, лучше князя Ивана Овчины Телепнева никто и не справиться. – Василий усмехнулся про себя. Чуял старик, о чем болит сердце женское. Подсказал Елене выход. И на войну с крымскими татарами или казанцами не надо отправлять Ивана, и с литовцами мир выходит, и в Бахчисарай ехать любовнику не по месту и чину. Со Старицким встретиться в самый раз. Остальные дела он, Шуйский, разрешит. Распрямилась Глинская, слезы высохли моментально, вздохнула глубоко, облегченно.
– Будь по-твоему, Василий Васильевич. Пусть дьяки так и отпишут от имени великого князя Иоанна. – Заметно повеселела Елена. Как все в миг образумилось! Молодец, боярин! И вслух:
– Тебе с воеводой литовским Глебовичем разговоры вести, а князь Иван Овчина Телепнев с дворецким Шигоной отправятся в Старицу.
– Куда ж он без хитроумной лисы Поджогина… Это тебе не саблей махать… Тонкость ума здесь нужна… – Думал про себя Шуйский, спину сгибая в поклоне. – Князь Старицкий откажется, в измену явную подастся, а Шигона все обдумает, да обстряпает… и чтоб деверя устранить, и чтоб комару носа не подточить, народ не волновать… родственник, как ни как, государев. Одного уже уморили, дело за другим. Вот и врагов у тебя прямых не будет, одни «друзья» останутся. – Заулыбался хитро в бороду.
На том и порешили. Дума работу закончила. Дело к обедне шло, о том колокола заблаговестили, бояре заторопились, по каменным ступеням резво на двор спускались, но местничество строго соблюдали – Шуйские первыми, за ними остальные прошли. Отведя брата чуть в сторону, Василий Шуйский шепнул:
– Ты не мешкая, отправь человека верного к Старицкому. На словах ему скажет: «Заманивать тебя, князь, будут – сам Овчина уговаривать поедет!» Пусть Андрею участь брата напомнит и надежду на Новгород даст, а Шуйские, мол, поддержат. Его холопы пускай грамоты сочинят и разбросают: «Великий князь – младенец, служите вы люди русские только боярам, идите ко мне, к князю Старицкому, и я вас жаловать буду». Коли такое письмо прелестное до Ивана Телепнева и Елены дойдет, считай, для князя Андрея дни последние сочтены будут. Мятеж и измена налицо, дорога ему одна – на тот свет за братом вдогонку.
– А как не дастся Андрей им в руки?
– Так не Овчина ж заманивать будет… Шигона! А он мастак на эти дела. Соломонию Сабурову кто от мужа оторвал и в монастырь упрятал? А баба ведь всегда сердце чует, когда ее что касается! Ан нет, поверила Шигоне, обманул хитрец, довез и постриг совершил. А князь Андрей – телок. Не ему с Поджогиным тягаться. Когда Старицкого в темнице уморят, тут мы один на один с Ванькой Оболенским останемся. Далее, по-нашему будет. Это я тебе говорю!
– А как Шигона прознает, что от нас человек ездил?
– Так я ему сам об этом скажу! – Усмехнулся старший брат. – Прямо сейчас. – И оставив Ивана, тут же подхватил под локоток Тверского дворецкого, оказавшегося неподалеку, что-то зашептал ему на ухо. Шигона насторожился, слушал внимательно. Переспросил раз-другой, получил ответы, коротко кивнул и отошел к своим холопам, что почтительно ожидали хозяина в сторонке, придерживая лошадь дворецкого за позолоченные кольца узды. Поджогин легко вскочил в седло, опершись на вовремя подставленные руки. Некоторые бояре также поднялись на коней, кто-то уселся в повозки, вперед проскочили скороходы с криками «Пади! Пади!», разгоняя люд московский в стороны, и процессия тронулась. Все, кто попадался на пути, скидывали шапки, до земли кланялись.
Глава 2. Русский солдат короля.
Овдовевший король Густав женился. Наконец-то, закончились свадебные торжества, из шума и суеты которых Гилберт запомнил лишь долговязую смущенную невесту, несчастное лицо неудавшегося жениха Сванте Стуре, у которого ее отобрал король, и как всегда громогласного и развязанного Густава, отпускавшего по любому поводу сальные шутки, сводя их всех к тому, что он ожидает от посещения супружеской спальни. Один раз его выходки попыталась оборвать мать невесты, Эбба Эриксдоттер – строгая женщина средних лет в черном монашеском одеянии, и даже бросила ему что-то резкое в лицо, отчего сидевшие неподалеку приближенные короля, поневоле все слышавшие, оторопели и замерли. Гильберт находился на значительном расстоянии от королевского стола и мог лишь наблюдать за происходящим. Видимо, было произнесено нечто такое, что никто и никогда не осмеливался сказать Густаву, а если и случалось, то это были бы последние слова такого смельчака, хотя сейчас богатый свадебный наряд короля не предусматривал наличие любимого боевого молотка. Все замолчали и замерли в ожидании ужасного. На столе было достаточно золотой и серебряной посуды, способной в мгновение ока превратиться в смертоносное оружие в могучих руках Густава. Английские солдаты, расставленные по периметру зала, (и Гилберт в их числе), заметили знак тревоги, поданный капитаном Уорвиком, насторожились и крепче сжали оружие в руках.
Но король лишь усмехнулся, наклонился к монашке, приходившейся ему троюродной сестрой, и что-то нашептал ей на ухо, отчего та вся напряглась, потом вспыхнула, опустила голову. За мать хотела вступиться младшая дочь – Марта, здоровенная девица, своей фигурой напоминавшая германского ландскнехта, но Эбба не позволила. Встрепенулась, взглянула на дочь словно пришпилила к креслу, и вновь опустила голову, так и оставшись сидеть до конца продолжившегося пиршества, уже не обращая внимания ни на что.
На рассвете, наконец, все закончилось. Молодые удалились в королевские покои – бывшая спальня покойной королевы Катарины теперь стала обителью маленького принца Эрика. Стража сменилась, и капитан Уорвик устало махнул рукой тем, кто отстоял свои часы:
– Расслабьтесь, ребята. Ваша очередь отдыхать. До завтрашнего утра все свободны.
Оставив щит и копье в оружейной, Гилберт тут же отправился домой. Он быстро вышел из ворот замка, где скучали два немецких ландскнехта, проводивших его недобрым взглядом, но он, не обращая на них никакого внимания, по привычке сначала свернул в другую сторону, к морю. Это был его ритуал – выйти на берег, снять шлем, подставить голову тугим и прохладным порывам ветра, вздохнуть полной грудью свежий воздух, наполненный солоноватой взвесью брызг, очистить себя от запахов замка, снять с плеч тяжесть каменных сводов, протереть глаза, уставшие от вечной копоти факелов, освещавших днем и ночью замковые коридоры. Это были минуты очищения и раздумий.
– Кто я? Русский? Англичанин? Недоучившийся монах, не принявший обета и ставший солдатом? Но и монахов больше нет! Католик? Лютеранин? Православный? Во что я верю? В кого? – Нет, вера осталась. Своя, родная, православная, спрятанная в глубине души, за теми крошечными иконами, что Любава бережно хранит в уголке их спальни – Пресвятая Богородица и Св. Николай Угодник. Она когда-то привезла их с собой из Новгорода, и Гилберт, ночуя дома, всегда видит, как истово молится любимая жена, слышит, как она благодарит Небесную заступницу и Мир Ликийского Чудотворца за все их благодеяния, за избавление и спасение ее и Бенгта от страшной участи, что грозила им в Море, за встречу с Гилбертом, за дочь, родившуюся в браке. Он тоже крестился и молился этим иконам, но почему-то ему нравилось бывать в Стуркюрка, в том самом соборе, куда привел его в первый день пребывания в Стокгольме отец Мартин, к Святому Георгию. Ведь именно здесь несколько лет назад решилась его судьба. Помимо дома и замка, было два места во всем Стокгольме, куда заглядывал Гилберт. К своему тезке и небесному покровителю – Святому Георгию и сюда, на берег.
Здесь ему виделась Русь далекая, неведомая, растаявшая в бездонной глубине северных небес, но манящая, всплывающая образами – вспышками памяти. Она выплывала откуда-то из утреннего тумана, серой океанской волной вздымая ладью души и сбрасывая в провалы водяных ухабов. Треск бортовой обшивки, от которого замирало сердце и екало в груди, вынуждал обернуться назад, на мачту, выстояла ли под напором ветра… Мозолистые руки отца, пахнувшие рыбой и дегтем, спокойный взгляд голубых глаз из-под мохнатых бровей, медный крест на потертом кожаном ремешке, бьющийся в грудь с каждым рывком натянутой снасти, да чуть заметная, упрямо пробивающаяся через густую бороду, улыбка… Он подмигнул ему на прощанье, уходя на казнь, когда мальчишку оторвали от пленных рыбаков… Моргнул одним единственным глазом, второй был залит кровью. Отец Мартин, усыновивший мальчишку, давший ему не только новое имя, но и свою родовую фамилию, монастырь, ставший на долгие годы его вторым домом, и вот теперь он здесь, в Стокгольме, он – англичанин и служит тем, кто убил его отца… Здесь его дом, здесь женщина, судьба которой, ничуть не легче, а может и горше его, забросила туда же, чтоб они вместе обрели покой и счастье вдвоем, вдали от ставшей призрачной русской земли. И лишь на берегу, под резкими порывами осеннего ветра, под крики чаек, срывающих вместе с пойманной рыбой, седую пену волны, чтобы рассыпать ее бисером брызг и бросить в лицо, вспоминалась Русь далекая и недоступная… Неисповедимы пути Твои, Господи… Сколько лет минуло?