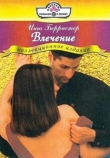Текст книги "Проклятие рода"
Автор книги: Алексей Шкваров
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 80 страниц)
Иоганн знал, что рано или поздно, но наступит день расставания. Он сам все делал для этого, не приближая и не отдаляя. Но неизбежное, все равно всегда неожиданно. Радость за сына, за то внимание, что оказано ему столь высокопоставленными лицами, слегка омрачалась щепоткой грусти предстоящей разлуки, хотя пастор старался не показать вида.
Андерс оторвался от своего занятия и очень внимательно посмотрел на отца. Его тихий ответ ошеломил пастора:
– Я не могу быть богословом и священником. Если продолжать учиться, то на юриста или врача.
– Почему? – Веттерман ничего не понимал. Но то, что он услышал дальше из уст сына, прогремело пушечным выстрелом, хотя голос Андерса был также тих и спокоен:
– Ты же знаешь, отец, сын блудницы не может войти в общество Господне, и десятое поколение его не может войти в общество Господне. Книга Пятая Моисеева. Второзаконие. Глава 23, стих второй.
– Что ты сказал? – Отец не верил своим ушам.
– Ты слышал отец и наизусть помнишь почти весь Ветхий Завет. И ты и я знаем, кем была моя мать. – В голосе Андерса звучала одновременно и твердость и неподдельная горесть. Он захлопнул раскрытую тетрадь, аккуратно закрыл Библию, водрузил локти на пульт, крепко сцепил пальцы в замок и со вздохом оперся на них головой.
Пастор вспыхнул, хотел накричать на сына, даже влепить пощечину: «Не смей так говорить о…!», но из него словно выпустили весь воздух, он наклонился к столу и закрыл лицо руками. Листок бумаги вспорхнул и, покружившись, безжизненно опустился на пол. В комнату тихо вошла служанка с кувшином вина и свинцовыми бокалами, встревожено посмотрела на обоих, выставила все принесенное на стол, и также беззвучно удалилась.
– Человеческая память… хранительница мыслей, которые не дают нам покоя… он все знал о своей матери… блудница… он ее так и назвал… значит, все это время он так о ней и думал… почему? Мы забываем зло нам причиненное, прощаем врагам нашим обиды, можем с легкостью позабыть о добре для нас сотворенном… Или она была ему плохой матерью? Я же ничего не знаю о жизни Андерса от его рождения до встречи со мной, кроме его достижений в учебе… Сообщив ему о смерти Илвы я ни разу не удосужился поговорить с ним на эту тему… поинтересоваться, что у него в душе… что их связывало или наоборот, что отталкивало друг от друга, мать от сына или сына от матери… я упивался собственным счастьем и забыл совершенно о ней… и при этом продолжал молиться за нее, совершенно упустив то, что мы трое связаны незримыми нитями, я упустил Андерса из этого треугольника мироздания, в центре которого и есть всевидящее Божие око. Ты не имеешь права ее судить! – Не понимая голову, пастор глухо выдавил из себя вслух последнюю фразу.
– А я и не сужу, отец. Я лишь называю все своими именами. Разве не об этом говорится почти в каждом псалме, для которых я составлял суммарии? Разве твой собственный пример тебя ничему не научил?
– Это был мой грех! – Иоганн резко вскинул голову и посмотрел на сына. Тот пребывал в прежней позе и рассуждал совершенно спокойно, словно перед ним был не пульт, а кафедра, с которой он монотонно читал лекцию отцу-студенту:
– Какой твой грех, отец? В том, что ты нарушил целибат? Так к этому шла наша нынешняя церковь. Ты полюбил блудницу и в этом твой грех? Но сердцу не прикажешь, ибо им руководит Господь, а пути его неисповедимы. Я бы мог предположить, что тобой тогда руководила похоть, но твоя любовь к женщине, которую ты сохранил всю жизнь, (я же слышу, как по ночам ты молишься о ней), была истинной и давно искупила все твои грехи, ибо стала почти святой, а не вожделенной. Все твои поступки это подтверждают. Я бы мог в чем-то усомниться, если б не встретил тебя, не разглядел за эти годы, что ты за человек. Я бы усомнился, если б ты не вернулся за ней в тот трактир, не забрал ее оттуда, не перевез к себе, не венчался с ней… грех для монаха, но святость уз брака и любви для мужчины и священника. И после ты не смог связать свою жизнь более ни с одной женщиной, это еще одно тому подтверждение. Я восхищаюсь и горжусь тобой, отец, ибо тебя вела любовь, которую нам завещал Господь, простивший и наставивший на путь истинный раскаявшуюся блудницу! Твой грех давно искуплен.
– Боже! Откуда он знает все эти подробности? Неужели от матери… – мысли метались и никак не могли сосредоточиться.
– А она работала обычной шлюхой… (Слово прозвучало для пастора так словно по душе прошлись наотмашь плетью, но больнее было другое – с каким равнодушием он произнесен его.) … ты был для нее всего лишь одним из многих посетителей этого трактира… хотя, думаю, необычным, ибо таких, как ты, отец, один на миллион. Ты полюбил ее, (а ей нужна была твоя любовь, не думал?), привез к себе, хотел спасти от блудной жизни, вспомнив Христа. Она отблагодарила «по-своему», по-другому они со своей старухой не умели – украла у тебя деньги, украла у церкви дарохранительницу и подсвечники, продала все и вернулась к матери, чтобы родить меня… вышла замуж, не думая ни о какой верности этому несчастному отчиму Олле, изменяла ему со многими… с последним долговязым они состряпали донос, по которому чуть было не казнили безвинных людей… список внушительный – итог закономерный. Ее смерть – расплата, воздаяние за грехи. Но положение вещей не меняется. Ты – мой отец, и я горд этим. Моя мать – блудница, и я стыжусь этого. Об остальном сказано здесь. – Андерс кивнул на Библию. – Я не могу идти по твоим стопам, как бы мне этого не хотелось. – Он замолчал и опустил голову.
– Откуда ты все это знаешь? – Вырвалось из груди.
– С малых лет, отец, я слушал их пьяные перепалки с Олле и со старухой. Один раз спросил, она ответила, что мне все показалось, и что я не так все понял. Я видел, что она лжет и больше не спрашивал. – Глухо ответил сын, не поднимая головы.
– Стыд… вот что его мучает… стыд, который зависит не от него… это ощущение не уходит, не стирается, не тускнеет, не меркнет и не превращается в прах. Оно жжет. Почему? Ведь для него она умерла. На его сердце все это время лежал камень, которого я не заметил. Камень отчуждения от своей матери и стыда за нее. Если с юных лет он знал все о ней и ее жизни, то она для него не была положительным по сути, но все-таки светлым пятном в жизни, ибо любой ребенок, пребывая в бессознательном возрасте, тянется к той, которая его родила и выкормила грудью, но сын взрослел, детская привязанность сменялась пониманием, и с годами ее образ мрачнел и приобретал все больше отрицательных черт, что привело Андерса к окончательному заключению, которое он сегодня озвучил. Я ему заменил мать и сравнение не в ее пользу, а наоборот. Его тянущаяся к познанию душа была словно ненасытная печка, в которую я радостно швырял все новые и новые поленья мудрости, но воистину, умножая познания, мы умножаем скорбь. Пылающий очаг раскалил камень на душе, и жар стыда стал невыносим. Как помочь сыну преодолеть этот стыд, избавиться от него? Ну же, Веттерман, где вся твоя хваленая ученость, где твои мудрые греки и римляне, что сейчас подскажут тебе дальнейшую логику рассуждений?
Отец и сын молчали. Наконец, Иоганн поднял голову и глухо сказал:
– Сынок! Сядь за стол. Хочу поговорить с тобой.
Их взгляды, полные слез у обоих, встретились. Андерса как-то передернуло – от тех слов, что он произнес, от сочувствия к отцу, от собственных страданий, от нежелания говорить на тему матери, он понимал, что речь сейчас пойдет о ней, и от того, что он не может отказать отцу в его просьбе. Сын оторвался от пульта, прихватив с собой Библию и тетрадь, подошел к столу, аккуратно положил все это перед собой, как бы отгораживаясь Священными текстами от Иоганна, и опустился на скамью напротив.
– Выслушай меня, сынок. Хотя бы из уважения ко мне. – Андерс кивнул как-то обреченно, что не укрылось от пытливого взора отца.
– Я хочу предложить посмотреть на все иначе, с другой стороны. Это твое дело прислушаться ко мне или нет. Но я хочу, чтобы ты понял – мы не можем знать всего, даже того, во что верим. Ты упомянул псалмы… тогда и я тебе напомню… 21-й… Она не просто тебя родила, это Он вывел тебя из чрева матери твоей, вложил в тебя упование у груди матери и на Нем ты утверждался, выходя из утробы. И мать тебе была выбрана не случайно, ибо Он испытал ее чрево, прежде чем она родила тебя на свет, гласит 7-й псалом Давида. Это к слову о твоем рождении. Теперь о ней… Ты говоришь блудница… Нет, я помню, ты уже ссылался на то, как Христос, наш Спаситель, обошелся с иерусалимской женой, я хочу поговорить с тобой о другом. Ты никогда не задумывался, как устроено общество? Есть короли, князья, светская власть, есть клирики, вроде меня или самого доктора Лютера, есть купцы, что живут сейчас рядом с нами, есть солдаты, которые воюют во имя чего-то, есть крестьяне, сеющие хлеб, пасущие скот, от которых мы имеем продукты и вино, что стоит сейчас перед нами, а есть люди, которых мы в большинстве своем сторонимся, обходим стороной, отвергаем – преступники, воры, блудницы, еретики, бродяги и нищие или больные, не излечимыми болезнями, проказой, например. Все наше общество – стадо, где есть свои пастыри, поводыри, сторожевые псы, обычные овцы и заблудшие овцы, которые вдруг становятся отверженными. Они родились такими? Изначально греховными? Они не устраивают общество, и поэтому оно их отвергает, изгоняет? А кто решает, кому состоять, а кому быть изгнанным? Кто вообще пастырь, а кто стадо? Что делать отверженным? Приспособиться и жить той жизнью, на которую их обрекли? Может ли общество впустить их назад? Зачем? На подобных примерах очень удобно учить, устрашать оставшихся. Если отверженных становится слишком много, то их можно казнить и сжигать на кострах. А ведь мы не знаем, что происходит внутри этих людей, даже если это самый отъявленный преступник, кровожадный убийца, что у него в душе, почему он совершал свои злодеяния, какие причины привели к грехопадению, для нас тайна, что он переживает, насколько раскаялся, изменился…, быть может, мы бы совершили нечто гораздо более страшное, оказавшись на его месте, пришли бы к худшему нравственному падению. Но не мы ли, не наше ли стадо, пастыри, псы или овцы, своим отвержением подтолкнули его к безвыходности совершения греха? А имели ли мы право изначально отвергнуть? Имели ли после право не заметить его раскаяния? Блаженный Августин, в чьем братстве я состоял, (как, между прочим, и доктор Лютер), учил нас, что все существующее есть Воля Всемогущего Творца. Упорство во зле и закономерная гибель произведение той же Божественной Воли, предопределяющей одних к добру и спасению, других к злу и погибели. Зло не некая сила, существующая сама по себе, а ослабленное добро, необходимая ступень к высшему пониманию добра. Мы видим несовершенство, но оно является частью общей гармонии мира и свидетельствует о принципиальной благости всего сущего. Бывает и так, что мучащее человека зло, в конце концов, оборачивается добром для него. Без зла, мы бы не знали добра. Всякая природа, которая может стать лучше – хороша! Сила, которая определяет спасение человека, есть Божия Благодать. Она имеет всеобщий характер и дается всем, но не все способны ее принять.
Сын прислушивался к словам отца. Его глаза немного прищурились, и в них пастору показалось промелькнул интерес к его словам. Это вдохновляло. Голос окреп, мысли уже выстраивались в четкий порядок.
– И ты думаешь, что на мою мать снизошла Благодать? – Последовал внезапный вопрос. Нет, Веттерман ошибался, приняв блеск в глазах за интерес. Это было упрямство, уверенность в собственной правоте! Отец невесело усмехнулся:
– Я не думаю, я вижу тебя, сидящего передо мной! В тебе воплотилась Божья Благодать, снизошедшая до утробы твоей матери. Он же вывел тебя из ее чрева, и Он испытал его! Душа женщины и ее чрево едины, ибо Творцом определена их роль продолжения рода людского. Это ли не Высшая Благодать? Я уже говорил о том, что имели ли мы право отвергать людей, но более того, имели ли право не принимать раскаяние. Ты знаешь 50 Апостольских правил, но ты не знаешь, что на самом деле их больше. Причина здесь проста. Перевод! Тот, кто переводил, имел под рукой неполный греческий оригинал. Так вот, 52 правило гласит: «Если кто обращающегося от греха не примет, да будет извержен, ибо он опечаливает Христа, сказавшего, что радость бывает на небесах об одном кающемся грешнике». Нет греха, побеждающего милосердие Божие. Прощение дается не по заслугам нашим, а по милости человеколюбивого Бога, всегда готового прощать, как только кто обратиться к Нему с раскаянием. Господь наш, обратившись к нам, сказал: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию, только покайтесь и получите равную честь со святыми и праведниками! Где место Петру, отвергнувшему меня и горько плакавшему, где место мытарю, разбойникам, блудницам в Царстве Моем? Там и вам место будет, поплачьте о грехах своих, припадите к ногам моим, покайтесь и спасетесь!» Можешь ли ты с уверенностью сказать, что Илва не раскаялась, принимая ту ужасную смерть, о которой мне поведали? Нет! Потому что ты сам живое свидетельство обратного – ее покаяния. И не важно, когда это свершилось. Давай снова вспомним о той грешной евангельской жене, что омыла слезами ноги Христа. Даже ревностный Святой Петр не решился отринуть от Источника чистоты ее прежний греховный смрад. Даже Святой Иоанн Богослов не изгнал блудницу с ее места, наоборот, уступил свое. Златоуст объясняет нам: «Прежде она была блудница, а теперь сестра Христова и невеста Его Божественного Слова». Святой Франциск Азисский провозгласил, что он венчается с Бедностью. Мне рассказывали, как это отображено на фресках в одной итальянской церкви, как живописец представил Бедность – красивой, исхудалой женщиной в плохой потрепанной одежде, на которую лают собаки и мальчишки бросают камни. Не замечаешь сходства с той самой грешной женой? С блудницей?
Сын отвел взгляд в сторону и тяжело вздохнул. Неужели слова отца все-таки упали на благодатную почву?
– Ты помнишь, о чем говорится в Книге Левита, главы 13 и 14? Правильно, Закон о проказе, о прокаженных. Ты их видел когда-нибудь? Подходил к ним? Нет? Разве есть на земле кто более отверженный, нежели эти несчастные? Святой Франциск жил с ними вместе. И он написал в своем завещании, что вид их был ему неприятен до тех пор, пока Господь не повел его к ним, и что было горьким, то стало сладким. Почему? Потому что столь тяжкой болезни, как и падению человека в грех, нужно сочувствовать. А что есть сочувствие – духовная помощь – утешать, поддерживать, вразумлять и молиться. Иоанн в своем послании сказал: «Если кто видит совершающего грех, то пусть молиться, и Бог даст ему жизнь» . Но проказа, о которой говорится в Священном писании, не только болезнь, это иносказание. Не могут вещи и камни болеть проказой, но Моисей говорит о том, что на них могут появиться язвы и их следует обмыть. Что имеет в виду пророк? Болезни общества! В чем омовение? В молитве! Что Господь говорит Иову после его покаяния, уже простив его самого? Чтобы помолился за своих друзей, дабы не отвергнуть их!
Ты ощущаешь стыд… и ты страдаешь от этого. Но Апостол Павел в послании к римлянам сказал: «Если страдаешь, как христианин, то не стыдись!» И еще. Твой стыд означает, что ты не знаешь собственного покаяния. Ты думаешь о себе – я хороший, а кто-то, значит, хуже. Это гордыня, сынок! Каждый из нас должен думать о собственной душе, о собственных грехах, не обращая внимания на поступки других и не ставя кому-то клеймо грешника, преступника или блудницы. Каяться нужно в собственных прегрешениях, и молить Господа о себе и других, желая им добра, испытывая к ним лишь чувство любви. Если ты будешь молиться о душе своей матери, как это делаю я уже много лет, то твой стыд уйдет вместе с молитвами, ибо милосердия двери всегда открыты, освобождая нас от любой муки!
Я напомню тебе еще одно место из Священного Писания, «Книга Судей Израилевых». Ты помнишь Иеффая, сына блудницы, который стал судьей?
– И за свою победу над аммонитянами он дал обет Господу принести в жертву собственную дочь и сжег ее на костре? Хороший пример, отец! – Нет! Он упрям по-прежнему.
– Вся беда опять в переводе древнееврейской письменности. Соединительный суффикс «вау», который в «Книге судей», что лежит перед нами, – пастор дотронулся до Библии, – переведен, как «и»: «…по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот моего дома на встречу мне, будет Господу, и вознесу сие на всесожжение». А знатоки древнего языка иудеев трактуют его, если есть перечисление – другое предложение, взаимоисключающее первое, как разделительный союз «или», что полностью меняет смысл, ибо человеческая жертва противоречит замыслу Господню. Иеффай предложил или обет Господу или, если Его это не устроит – жертву. Далее сказано, что «он совершил над ней обет свой, который дал, и она не познала мужа…» , но нет ни слова о жертвоприношении. И хоть сказано, что дочери Израилевы ходили ее оплакивать, но это же слово в других местах переведено, как «воспеть хвалу» и «разговаривать». Дочь Иеффая, внучка блудницы, стала монахиней, и к ней ходили помолиться вместе и поговорить. Напомню также, что судьями Израильскими были первосвященники Илий и Самуил, и это ставит Иеффая на одну ступень с ними. – Веттерман ощущал невероятную усталость. Его аргументы иссякали. В этом диспуте упорство оппонента основывалось не на знании теологии и богословских источников, а на непостижимой для пастора внутренней убежденности сына в собственной правоте. Те доводы, ссылки на Библию, что Андерс привел в начале этой тяжелейшего для отца разговора, были лишь игрушечным щитом, приманкой, на которую клюнул опытный богослов, в пылу своей виртуозно выстроенной полемической атаки, увлекся, разбил, казалось, неумелую и непрочную оборону оппонента, и не заметил, как под легкой защитой оказалась непробиваемая броня, и вся сила ударов давно была ею погашена.
– Отец! – Андерс поднялся. Его взгляд, родных, до боли знакомых материнских глаз, встретился с взглядом отца. Веттерман понял, что проиграл, быть может, самый важный диспут в своей жизни. По крайней мере, сейчас ему казалось именно так. – Я согласен со всеми твоими доводами и аргументами. Тем более, я согласен с учением нашей церкви, Священным Писанием и трудами величайших богословов. Но я человек, и как человек, я грешен. Мой грех состоит в том, что я не могу простить другого человека, совершившего столь… – сын замялся на мгновение, подыскивая подходящее слово, помягче, видя растерянность и огорчение отца – … явную несправедливость по отношению к церкви, но более по отношению к тебе. Я не сужу ее, я просто подвожу итог свершившемуся. Для меня она умерла, и это я считаю лучшим исходом для всех. Обещаю тебе, что отныне буду молиться и просить Господа снисхождения и прощения ее грешной души, а также придания сил и мне для покаяния в этом грехе. Я выполню и твою просьбу, несмотря на то, что не согласен с правомочностью выбора того поприща, которое ты от чистого сердца желаешь мне. Я это сделаю из любви и глубочайшего уважения к тебе.
Входная дверь хлопнула, и в дом вошел пожилой стражник из охраны ворот. Споткнувшись о порог и загрохотав доспехами, он тихо чертыхнулся, успел поймать, чудом не слетевший с головы шлем, который был ему явно великоват, смутился, толи от ругани, толи от собственной неуклюжести, глухо пробормотал:
– Какой-то русский монах передал письмо для господина пастору от новгородского архиепископа. – Сунул измученному Веттерману свиток грамоты и быстро удалился, старательно смотря под ноги и придерживая шлем освободившейся рукой.
Нежданный гость, прервавший их разговор, был на руку Андерсу.
– Не смею мешать тебе, отец. Дозволь удалиться. – Не дожидаясь ответа, сын молниеносно покинул комнату и ушел к себе.
Обессиленный пастор развернул бумагу. Новгородский архиепископ Макарий приглашал его к себе завтра на беседу. К пяти часам дня. Это был абсолютно неожиданным. Православные священники, а тем более, архиереи никогда не встречались ни с католиками, ни с лютеранами, оставляя подобную, как они считали, скверну светским властям. Веттерман даже не мог сейчас сосредоточиться и предположить причину столь внезапного приглашения. Его занимала лишь одна мысль, которую он повторял раз за разом:
– Господи, вразуми моего сына… – Но память упорно возвращалась в прошлое…
Он погрузился в воспоминания.
Глава 5. Что хранит память человеческая…
Конечно, испуганный трактирщик поведал пастору Веттерману, все что знал об ужасной судьбе матери Андерса, растерзанной ландскнехтами. Ведь расправа чинилась в его присутствии. За исключением одной малости – все слышал, да не видел. Объятый жутким страхом, он рухнул почти без чувств за прилавок, и уткнувшись носом в грязные половицы, все время экзекуции лежал мелко вздрагивая, как кролик, почувствовавший приближение собственной смерти. Старик слышал крики женщины, ругань солдат, удары по человеческой плоти, грохот разбитых кувшинов, посыпавшихся на пол, треск разрываемой одежды, хохот, сальные шутки насильников, тонкое пение извлекаемого из ножен оружия, и в ожидании страшного конца он заткнул себе уши, почти перестал дышать, явственно представляя то, что сейчас произойдет. Лишь грубый окрик чернобородого ландскнехта, командовавшего отрядом убийц, заставил его вздрогнуть еще раз всей шкурой, собрать остатки силы воли в кулак и постараться приподняться на четвереньки. Немец перегнулся через стойку, помог ему, ухватив железной рукой за шиворот и сильно дернул наверх. Таким образом, голова кабатчика оперлась подбородком с выпяченной бородой на залитый вином прилавок и его взору открылась картина, описание которой весьма смутно, вперемежку с кровавым туманом, отложилось в его перепуганном, а оттого оцепеневшем мозгу.
Он помнил нечто бесформенное, распластавшееся на столе, отчетливо белеющее своей обнаженностью в полумраке помещения. Перепутавшиеся от страха извилины серого вещества трактирщика определили это нечто, как зверски убитую пьяную шлюху. Белизна тела местами скрывалась под ошметками одежды и везде кровь, кровь, кровь… Окрик-приказ:
– Убери здесь всё! – Звон монет, одна из которых докатилась до лица трактирщика, метила в нос, но ткнулась в торчащую над прилавком бороду, чуть поюлила и успокоилась. Хватка ослабла, рука солдата выпустила ворот, сила тяжести потянула старика обратно вниз, он чуть было замешкался, уцепившись подбородком за край прилавка, но смог таки оторваться, сползти и вновь вжаться всем телом в спасительную грязь половиц.
Услышав грохот удаляющихся кованых сапог, трактирщик вдруг почувствовал неудержимые позывы к рвоте. Он почти до крови закусил руку, чтоб перетерпеть, и не ткнуться после лицом в то, что собирался исторгнуть его желудок. Боль прогнала ненадолго желудочные колики и спазмы, старик осторожно поднял голову, повертел ей по сторонам, посмотрел наверх. На него безмолвно взирали с высоты прилавка кувшины и миски. Стояла гробовая тишина. Но вместе с тем, всем своим нутром он ощутил перемешанный с винными парами пронизывающий ледяным ужасом запах смерти, который проникал мурашками кожи под одежду и вызывал неудержимую дрожь. Что-то капало сверху. Скорее всего, вино из треснувшего кувшина. Но впоследствии, трактирщик с полной уверенностью божился, что это была кровь. Тишина придала силы, да и желудок опомнился и вновь потребовал опорожнения. Один локоть выдвинулся вперед, за ним другой, рывок за рывком, старик вытягивал свое грузное тело прочь, гонимый страхом и запахами, жгутом стягивавшими внутренности. Не оглядываясь по сторонам, он быстрее и быстрее полз по полу, провожаемый безмолвным взглядом своих кувшинов. Добравшись до порога, трактирщик боднул головой дверь, которая к счастью легко поддалась, вывалился наружу, жадно хватая посиневшими губами свежий воздух и уже из последних сил сдерживая рвоту.
Оказавшись на улице, он смог уцепится за стену, которая, как показалось, сама нагнулась к нему, поднялся, царапая ногтями потемневшее от времени дерево, и не разогнувшись до конца, на сведенных в коленях ногах, сделал несколько шагов. Содержимое желудка выплеснулось на косматые бревна.
Облегчившись и отдышавшись, но не избавившись от дрожи, которая теперь сконцентрировалась в коленях, по– прежнему шатаясь, как пьяный, трактирщик сделал еще несколько шагов до спасительного угла дома, завернул за него, и прильнув к стене, почувствовал себя в безопасности. Грубо отесанные бревна подставляли свою шероховатую поверхность то под одно, то под другое плечо старика, то притягивали к себе его вспотевший лоб, впитывая проеденными жучками дырочками мелкие бисеринки влаги. Дрожь прекратилась, но икры окаменели, будто сведенные судорогой.
Внезапно страх опять овладел им и уже нечеловеческими усилиями, едва переставляя ноги, старик заставил себя двинуться дальше, к следующему углу, добрел, свалился за него, старательно подтянув запнувшиеся ступни – чтоб ничто не выглядывало, ни один кусок его тела, включая даже подошвы башмаков.
Сколько он там пролежал, предоставленный сам себе – одному Богу известно. Посетителей не ожидалось, да и ему было наплевать на них. Впрочем, кому могла сейчас прийти в голову мысль отправиться в трактир, когда вся Мора спасалась от озверевших солдат Густава.
Трактирщик был одинок. Его старуха отдала Богу душу еще задолго до того, как этот Густав из рода Ваза, (будь он не ладен!), посетил их несчастный городок, спасаясь от гнавшихся за ним датчан. К слову сказать, старик никогда не отличался щедростью, экономил на всем, включая прислугу, что явилось едва ли не главной причиной того, что жена сошла в могилу. Оставшись один, трактирщик не изменил своим привычкам, считая, что посетителям глубоко наплевать, в чистоте ли, в грязи, нахлебаться своего пойла. Главное побольше и побыстрее. Свалившись на пол и потускневшим взором созерцая закопченный потолок, местные пьяницы не обращали внимания на удобства и чистоту своего ложа. Все что мог себе позволить трактирщик, непременно ворча об убытках, так это раз в неделю вызвать какую-нибудь местную замарашку подмести полы и сполоснуть в дождевой бочке посуду.
Окаменелость ног прошла, оставив лишь тупую боль, сердце билось не так трепетно, старик приподнялся и уселся на землю, уперевшись спиной в бревна. Страх улетучился, в уме уже просчитывались возможные убытки от недавнего погрома и кровавой расправы. Ему было абсолютно не жаль растерзанную шлюху. Трактирщик хорошо знал эту семейку, готовую пропить все до последнего эре и его отношение к подобным посетителям было более чем презрительное. Однако, нужно было думать о предстоящей уборке помещения. Осознавая, что в охваченной вакханалией грабежей и разбоев Море, сложно будет найти кого-нибудь в помощь для уборки, а тем более вывоза трупа, трактирщик кряхтя поднялся и двинулся в обратный путь. Он осторожно выглянул из-за угла, но на дворе и улице было пустынно. Где-то в городе что-то приглушенно хлопало, раздавались крики – мужские, более гортанные и свирепые, вперемешку с тонкими, жалобными, срывающимися на визг – женскими. Иногда доносилось мычание скота, прогремело несколько выстрелов.
Трактирщик перевел взгляд на дверь – она была распахнута. От дома до ворот по примятой траве тянулась странная бурая полоса. Нахмурившись, все еще боязливо, но без дрожи и судорог, он приблизился к зияющей темноте проема и сперва заглянул внутрь – нет ли кого, послушал тишину. Затем решительно переступил через порог и даже сразу широко шагнул к прилавку, правда при этом зажмурился и затаил дыхание. Переведя дух, мысленно перекрестясь, (руки онемели и вытянулись по швам), он открыл глаза и осмотрелся. Его поразил ни общий разгром, царивший в помещении, перевернутые столы, разбросанные табуреты и скамьи, черепки битой посуды, он изумленно обнаружил, что на том самом столе, где как он предполагал и происходила расправа, никого не было. Тело Илвы исчезло. Остались какие-то ошметки тряпок, видимо клочья ее одежды, и красные подтеки.
– Кровь? Вино? Нет! Это могла быть только кровь! – решил трактирщикик. Но тела не было!
– Они забрали ее с собой! – Вдруг мелькнула догадка, принесшая хозяину заведения огромное облегчение. И вся картина чрезвычайно целостно и детализовано возникла у него в голове.
– Здесь на столе, – он еще раз скользнул взглядом по забрызганной кровью столешнице, – они ее насиловали, убивали, затем взяв за ноги, уволокли с собой.
Он повернулся, посмотрел вслед уходившим призракам в латах, и ясно представил, как они волокут за ноги женское тело, как ее голова, едва державшаяся на перерезанной шее, (он даже не сомневался, что они так и поступили, утолив свою похоть, заодно истыкав и порубив плоть мечами), стучала по половицам, подпрыгнула на пороге, оставляя за собой широкий кровавый след. Бурая полоса свидетельствовала об этом.
Трактирщик окончательно успокоился и даже обрадовался. Одной, (да и какой еще!), морокой меньше – избавляться от мертвой шлюхи.
– Поделом ей! – Мелькнуло в голове. – Поганая была семейка! – Про сгоревшую вместе с остальными домочадцами Илвы усадьбу он знал. Недаром шлюха пьянствовала второй день у него в трактире, оплакивая свою мамашу.
Хозяин так развеселился, что решил никого не искать сегодня для уборки, а сам ретиво принялся расставлять разбросанную мебель. Схватив метелку, также быстро и ловко, несмотря на значительное брюшко, в другое время мешавшее движениям, сгреб в несколько кучек черепки, собрал в совок и выкинул на улицу. Той же метлой тщательно размазал по полу пятна неизвестного происхождения. Про кровь старался не думать, иначе мысль материализовалась в «ароматы» скотобойни, приторно щекотала ноздри, подозрительно бурчала в желудке, а слюна превращалась в горьчайшую желчь, колом застревавшую в горле.
Позднее, страшную историю, разыгравшуюся в трактире, как он утверждал прямо на его глазах, с удовольствием пересказывал всем интересующимся, с каждым разом, на ходу приукрашивая ее новыми ужасающими подробностями, от которых у вопрошавших волосы вставали дыбом и глаза вылезали из орбит. А трактирщик лишь крестился и завершал свое повествование неизменной фразой:
– Как сам спасся, до сих пор не ведаю! Святая Дева Мария – заступница уберегла.
Столь же живописно о тех кровавых событиях поведал кабатчик и заглянувшему в его заведение незнакомому приезжему пастору. Священник выглядел очень солидно, его на вид скромная черная сутана была сшита из отменного материала, это подчеркивало высокий ранг гостя, оттого визит удивил старика, посчитавшего странным появление подобного служителя Господа в столь неподобающей обстановке. Еще более странным показался кабатчику неподдельный интерес священника к самой убиенной и растерзанной шлюхе Илве. Однако, хитрец тут же сообразил, что появление пастора не иначе, как связано с тем самым процессом ведьм, предшествовавшим приходу диких немецких ландскнехтов, и судом, который закончился весьма странно – одну ведьму освободили, зато арестовали преподобного Хемминга, а его помощника вздернули вместе с тремя проходимцами, обвиненными в святотатстве и надругательстве над трупом, кстати родного дяди той самой шлюхи, что завершила свой блудный жизненный путь у него в трактире. Не иначе приезжий пастор будет что-то расследовать дальше, как инквизиторы из Стокгольма. Не иначе он из одной с ними компании, хотя те выглядели настоящими католическими монахами, а этот явный последователь Лютера. Погруженный в свои сложные умозаключения служитель Бахуса даже не обратил внимания, как сжались в отчаянии пальцы приезжего священника, какая смертельная бледность залила его лицо, когда он дослушал до конца ужасный рассказ.