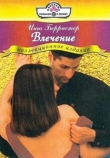Текст книги "Проклятие рода"
Автор книги: Алексей Шкваров
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 57 (всего у книги 80 страниц)
– Это так. – Кивком головы поддержал его епископ Або. – Мы мало, что знаем об их обычаях. И не знаем еще того, что может нам встретиться на дальнейшем пути.
– О каком пути мы сейчас говорим? – Подал, наконец, голос брат покойной королевы. – Этот наместник дал ясно понять, что наша миссия может завершиться прямо здесь. Возможно, на этом самом дворе, нам могут устроить кровавую баню. – Стен Эрикссон показал пальцем на заиндевевшее окно, где толпились стражники.
– Мы должны найти способ выполнить приказ нашего короля. – Спокойно ответил Петри. – Что думают остальные? – Архиепископ внимательно посмотрел по очереди на каждого из собравшихся в комнате – рыцарь Лиллье и фогт Гюльта опустили головы, секретарь Ларссон тяжело вздохнул, пожав плечами и отвел взгляд, посмотрев туда же, куда по-прежнему указывал перст королевского шурина. Переводчик Еранссон развел руками в стороны, а Кнут Юханссон удрученно покачал головой, наморщив лоб, стараясь припомнить что-то из увиденного им в Москве, что могло бы сейчас им выпутаться из крайне сложного и опасного положения. Агриколе вспомнился все тот же сон – вот она та самая стена, которая рушится на него. Выходит, это была Московия? Или все-таки королевская воля, которой он так упорно сопротивлялся, но которая отправила его именно сюда, дабы он здесь и остался погребен?
Веттерман кашлянул. Лаврентиус перевел взгляд на молодого юриста.
– У тебя есть какие-то соображения? Если так, говори!
Покачав головой, Андерс решился:
– Я детство провел здесь, в Новгороде, вместе с моим отцом, который был священником на Немецком дворе. Я часто слышал от новгородцев, что московиты отличаются от них тем, что все – от князя до последнего крестьянина называют себя рабами великого князя. Наместник Глинский – московит и дядя их государя, ergo, он мыслит также. Великий князь считается властителем надо всеми и во всем, в том числе в жизни и смерти…
– Все верно говорит Веттерман! Именно так: их «rex» – владыка жизни и смерти! А все прочие его рабы. – Неожиданно бордо воскликнул Юханссон, даже прихлопнув себя ладонью по лбу. – И как я мог забыть об этом!
– Постойте-ка! – Прервал обоих архиепископ. Глаза у прелата загорелись идеей. – Я, кажется, понял ваши мысли. О том же говорилось и в «Rerum moscoviticarum commentarii», что дал мне прочесть кронпринц Эрик. Только их великий князь – властитель над душами и телами своих подданных! Мы должны именно это внушить Глинскому. Предложим править суд над виновным самому великому князю Иоанну. Ведь это он дал нам охранную грамоту, значит, только он вправе ее нарушить – или в отношении всех нас или в отношении одного несчастного пьяницы! Оставим его здесь в тюрьме, а сами потребуем исполнения воли властителя Московии. Идем со мной, Веттерман, немедленно к наместнику. Ты знаешь их язык и будешь переводить, дабы не вкралось какой-либо ошибки или двусмысленности нашего предложения.
– Я с вами. – Агрикола поднялся с места.
– Может и мне? – Заикнулся королевский шурин.
Лавретниус покачал головой:
– Не стоит. Со священниками Глинский будет вести себя по-иному. По крайней мере, я на это надеюсь. Не будем дразнить его. Ведь это ваш, господин наместник, человек виновен в том, что они называют святотатством.
Двух архиереев допустили к наместнику. Глинский внимательно выслушал их доводы, что ему перевел Веттерман, криво усмехнулся и надолго задумался, рассматривая кончик посоха, которым он расковыривал пол. После, откашлявшись, как следует, в кулак, погладил густую посеребренную сединой бороду, и неторопливо начал отвечать, глядя прямо в глаза архиепископу Упсальскому. Веттерман быстро переводил:
– Ты прав, архибискуп. Наш властитель, великий государь Иоанн Васильевич – един владыка, а мы все рабы его. И лишь он решает, кого казнить, кого миловать, ибо есмь помазанник Божий на земле… – Боярин снова замолчал. Еще несколько раз откашлялся и продолжил. – Ваш человек останется здесь на казенном дворе, сидя в железе, да ожидая воли государевой. Всех прочих я отправлю завтра в Москву. А теперь идите с глаз моих.
Лаврентиус и Агрикола не удержались, переглянулись, и, не скрывая радости, поспешили покинуть покои новгородского наместника.
Глава 4. Последняя миссия.
8 февраля 1557 года посольство выехало из Новгорода. Холод был жуткий. Никоновская летопись свидетельствует: «. . . зима та была студена, великие морозы во всю зиму, и не един день с оттеплием не бывал, и снеги пришли паче меры, многие деревни занесло, и люди померли по деревням, и на путях также много народа скончашася».
Несмотря на погоду, посольство спешило. Всего на дорогу ушло чуть меньше двух недель, 21-го февраля шведский обоз уже подъезжал к Москве, лавируя сквозь окружавшие ее многочисленные состоящие сплошь из деревянных невзрачных домишек деревни, села, слободы, разделенные то белоснежными полями, то черной щетиной лесов. Кое-где проглядывали невысокие серые стены монастырей с торчащими из-за них главками. Окованная льдами река обозначалась с одной стороны пологими, с другой высокими, но одинаково извилистыми берегами. Несмотря на холода, чем ближе подъезжали к столице, тем больше попадалось встречного люда, пока им не пришлось пробираться через настоящую толпу, совсем не по-доброму смотревшую на гостей.
Поверх голов зевак в морозном воздухе стояло облако пара из сотен глоток, смешиваясь с черным печным дымом. Его серые с проплешинами лохмотья зависли над разноцветными тулупами, овчинными шапками, над женскими киками или платками, вместе с толпой заполнили кривобокие улицы, сопровождая проезжавших непонятными им словами, лишь по интонации которых можно было догадаться, что это или ругательства или насмешки, или и то и другое вместе взятые. А вдогонку летел свист, да такой, что душа со страху обмирала.
– Смотрите-ка, басурман, аль жидов везут!
– Да, не… то немчины.
– Говорю тебе, свеи!
– Все едино басурмане! – Доносились выкрики.
Толпа напоминала мифического Цербера, стерегущего вход в преисподнюю, только голов у него было не три, а бесчисленное множество. Вездесущие мальчишки норовили швырнуть в послов добрым увесистым снежком, сопровождая меткий бросок громким смехом.
Члены посольства кутались в шубы, заползали глубже под медвежьи пологи, что покрывали сани сверху, стараясь уберечься от неприятного удара комка снега, испуганно озираясь и перешептываясь:
– Какие дрянные люди!
– Почему стражники их не отгонят прочь?
– Дикари, одним словом!
– Язычники!
Стражники, не торопясь, прокладывали путь себе и посольскому обозу, не обращая внимания на толпу. Если кто и попытался из тех же мальчишек бросить в них снегом, то копье, мерно колыхавшееся острием кверху, тут же опускалось наперевес и смертоносным наконечником выискивало обидчика. А того и след простыл. Со стражниками связываться – себе дороже. Толи дело возки с басурманами. Это слово чаще всего было на слуху у шведов.
Агрикола, еще только отъехали от Новгорода, почувствовал странное недомогание, словно эта неведомая, дикая страна, с ее беспредельными снегами и лесами, таинственная своей непредсказуемостью и суровостью нравов, готовая щедро принимать, но тут же морить голодом или требовать взамен за поврежденную доску, пусть и с ликом почитаемого московитами святого, нечто несоразмерно более ценное – человеческую жизнь, вытягивала из Микаэля силы. Внутренне епископ настраивал себя по-иному, относил все немощи к сильным морозам, от которых не спасал ни медвежий полог, ни шуба, винил во всем монотонную унылость зимнего пейзажа, обстановку враждебности, что сопровождала посольство от Новгорода, а может и от самой границы, проявлявшуюся по-разному – в молчаливости охраны или, напротив, в оскорбительных криках московской толпы.
Вскоре показались каменные стены Кремля и приставы от великого князя встречавшие гостей. Толпа отхлынула назад. Для нее становилось уже слишком опасно. Если стражники, охранявшие обоз, лишь могли погрозить, то приставы мешкать бы не стали – или на месте порешили, или уволокли с собой – все едино на казнь. Посольский обоз развернули, направили на Литовский двор, где им надлежало ждать дальнейших указаний.
Агрикола оглянулся и в свете дня увидел те самые стены, их зубцы, откромсанные ножницами пьяного портного, что являлись ему во снах. Только сейчас они выглядели иначе – каменщик, сложивший их, был на удивление трезв, в противном случае ему бы никогда не удалось вывести столь идеальную кладку, напоминавшую ласточкин хвост с чуть заметными в основаниях зубцов щелевидными бойницами. Но даже отсюда, еще не приблизившись к стенам, епископ ощутил их мощь, холод, нешуточную угрозу, а все эти птичьи хвосты, вдруг обернулись зубьями дракона, закрывавшего телом-стеной небесный свод, с которым ему предстояло сразиться. Подумалось – когда на землю опуститься ночная мгла, я увижу весь свой сон воочию. Может, это и будет концом всего…
Литовский двор, куда доставили посольство, представлял собой обнесенное высоким забором нагромождение изб. Их называли «клетьми», это слово Агрикола уже запомнил, но прочие различия в предназначении помещений лишь угадывал, в зависимости от тех предметов, что там находились – кровати в «постельных», столы, лавки, кресла, кухонная утварь – в «столовой». Приставы распахивали двери, показывали и называли помещения, переводчики старались кратко и доходчиво объяснить это самым важным членам посольства. Стен Эрикссон, заметив иконы в красных углах горниц, а также «божницу» – домовую церковь, тут же пообещал всем шведским слугам лично отрубить руки, а после и голову, тому, кто хоть пальцем прикоснется к «расписным доскам». Подведя послов к последней двери, приставы заявили, что здесь находятся съестные припасы, предназначенные для кормления, после чего удалились, оставив снаружи по всему периметру забора караулы. Любопытный рыцарь Лиллье сунулся было в клеть с едой, но быстро выскочил обратно, удивленный:
– Они нас голодом решили уморить? И это на всех! Ветчины, солонины, рыбы – кот наплакал, мы ж съедим это все за пару дней.
– У московитов пост скоро начнется. – Пояснил выборгский переводчик Еранссон.
– Строгий пост. Теперь долго мяса не увидим. До самой пасхи. – Добавил Кнут Юханссон.
– Не о хлебе насущном думать надо, об ином! – Резко осадил пыл рыцаря архиепископ Упсалы.
Три дня посольство никто не беспокоил. Но и выход в город был запрещен. Наконец, 24 февраля, их ждала встреча с самыми важными чиновниками великого князя.
Первый вошедший в столовую горницу, был ростом высок, широк в кости. На плечах богатая шуба на лисьем меху, опоясанная серебряным ремнем, на голове высокая горлатная шапка, которую он тут же скинул, поклонился то ли иконам, судя по крестным знамениям, то ли послам. Лицо чисто, взгляд светел, но тяжел – ум за милю видно. Волосы русые кудрявятся, борода недлинная, сединой не тронутая.
– То Алексей Адашев, канцлер, правая рука великого князя. – Тихо, так чтоб слышали лишь Лейонхувуд, Петри и Агрикола, произнес побывавший уже в Москве Юханссон.
За Адашевым вошел второй – одет не хуже, по виду ровесник, может чуть старше, только ростом поменьше, да худоватее. Лицо постное, бесцветное, глаз почти не видно, прикрыты словно сонные, но уж глянет, ухватит все и вся, словно коршун, да утащит под панцирь своего внешнего безразличия. Борода узкая, длинная, к поясу клином устремляется. Тоже шапку скинул, явив сплошную лысину, поклонился, опять же не ясно – иконам, иль послам. Перекрестился.
– Иван Висковатов. – Снова зашептал Юханссон. – Глава посольской канцелярии и хранитель царской печати.
– А, архимандрит… – Узнал Кнута Адашев. – Помню. Встречались. Сызнова здесь? Ну, с добром словом тебя. Подскажешь своим, коль надобно будет. Ты – человек уже бывалый, о наших порядках ведаешь, дабы глупостей сродни новгородским не творили боле. – Голос царского окольничего приятным басом наполнил горницу.
Послы переглянулись. В том, что наместник Глинский все уже доложил в Москву, сомнений у них не было, но теплилась маленькая надежда, что как-то все само собой забудется, коль они доехали до города – резиденции великого князя. Нет, напомнили сходу! Если б знали послы творение Данте Алигьере, то повторили бы вслед за великим итальянцем: «Оставьте всякую надежду, входящие сюда!».
– О том после толковать будете. С самим государем, Иоанном Васильевичем. – «Успокоил» их Адашев, усмехнувшись в усы.
Как толковать эту усмешку? Как предупреждение, угрозу или, напротив, знак того, что столь знатного вельможу особо не волновало случившееся в Новгороде? Стараясь отвлечься от мрачных мыслей, Лаврентиус Петри с помощью переводчика представил всех членов посольства, а Стен Эрикссон сделал несколько шагов вперед и передал Адашеву, почтительно склоняясь, личное послание короля Густава, а также верительную грамоту. Окольничий ответил кивком головы, небрежно глянул на целостность печатей и, не разворачивая, тут же передал бумаги Висковатову.
– Ответ дадим после зачтения сих грамот великому государю Иоанну Васильевичу. По его разумению и воле. – Отозвался думный дьяк, даже не приоткрыв глаз.
– Почнем обсуждать дела наши грешные. – Уверенно начал Адашев, сев и небрежно развалившись на седалише, жестом приглашая остальных сделать тоже самое. Расселись. С одной стороны длинного стола два царских вельможи – окольничий и думный дьяк, слева – справа от них по толмачу, что незаметно вошли в горницу вслед за ними, с другого края разместились шведы – во главе стола архиепископ Упсальский и королевский шурин Стен Эрикссон Лейонхувуд, со стороны Лаврентиуса Петри сели лица духовного звания – Микаэль Агрикола и Кнут Юханссон, со стороны наместника Смоланда – светские: фогт Эльвсборга Бенедикт Гюльта, рыцарь Кнут Кнутссон Лиллье и секретарь Олаф Ларссон. Веттерман, как знавший язык, примостился позади главы шведской церкви, чуть вклинившись между ним и Агриколой, Еранссон ближе к Стену Эрикссону.
– Когда мы последний мир со свеями подписали? – Адашев чуть наклонил ухо к Висковатому.
– В лето 7045 года, в январе. – Негромко ответил Иван Михайлович.
– И где это случилось?
– В Новгороде.
– Кто от свеев подписывал, кто от нас? – Продолжался неторопливый разговор окольничего с главой Посольского приказа, словно никого более в горнице не было.
– Со свейской стороны Кнут Андерссон, да Бернядин Классон, от наших – наместник новгородский князь Борис Горбатый с бояриным Бутурлиным.
– О чем писалось-то?
– Да мир на шесть десятков лет от лета 7018 до лета 7078-го поклялись соблюдать. Межу подтвердили, что в Юргиной грамоте значится две сотни с лишком лет. Ту грамотку новогородский наместник князь Юрий с свейским королем Магнусом подписали и крест целовали в лето 6831-е.
– То бишь до лета 7078-го клялись в мире?
– Именно так.
– А ныне у нас лето 7065-е?
– Твоя правда, Алексей Федорович. – Смиренно отвечал Висковатов.
– Значит, в Новгороде два десятка лет назад крест на мир целовали?
– Вестимо.
Адашев, насмешливо головой покачивая, спросил, в упор, посмотрев на шведов:
– И кто ж тогда мир сей порушил, не обождав сорока обещанных и скрепленных клятвою на кресте лет?
– Наш король, – за всех отвечал Лаврентиус Петри, – считает, что причиной бедствия стали распри пограничного населения.
Выслушав перевод, Адашев переглянулся с думным дьяком. Оба засмеялись. Первый громко, даже ладонями пару раз хлопнул по столешнице, второй тихонечко, пыхнул в бороду.
– Значит, ваш король считает, что весь свейский флот осадивший, да невзявший Орешек, одни лишь распри? Оттого, что не разгрызли поди? А селенья пожженные в земле Лапландской, монастырь – дом Божий в Печенге, то ж распри ? – Окольничий откровенно насмехался. – Вот вы, два бискупа, и ты, архимандрит, – Адашев смотрел теперь на лютеранских священников, – тоже мыслите, что не с ведома короля вашего ратные люди, сплошь из деревень порубежных, собрались в кучу, корабли сами снарядили, да на нашу крепостцу поплыли?
Деваться было некуда. Шведы понимали, что вина лежит на Густаве. Хоть и не полностью, но все же…
– Аль вера ваша лютерова позволяет лгать своим служителям в бискупском обличии? Аль облачение ваше ложно, будто скоморошье? – Андерс еле успевал переводить, но слова Адашева и так жалили, словно осы, стыд заставлял глаза опускаться к долу. Повисла нехорошая пауза.
Наконец, архиепископ Упсальский решился на отчаянный шаг, хотя это звучало, как признание поражения. Нахмурив брови, Лаврентиус глухо, но твердо ответил на упреки окольничего:
– Мы не можем вернуться обратно с обвинением нашего короля в нарушении условий прежнего договора.
– Не просто договора, – добил шведов Висковатов, внезапно глаза его открылись, глянул дьяк по-ястребиному, словно клюнул, да потащил за собой архиепископа и все посольство, – целование святого креста предал ваш король.
Опять наступила тишина в горнице, лишь пальцы Адашева выбивали дробь по столу.
– Пусть государь тот вопрос решит! – Подал, наконец, голос окольничий. – Глядишь, владыка митрополит, да Земской собор вашу сторону примет… Наш царь Иоанн Васильевич милостив, к гласу Божьему и народному чуток.
Шведы оживились. Они понимали, что сейчас проиграли безнадежно, но последние слова Адашева дарили какую-то призрачную надежду.
– Обсудим иной вопрос. – Как ни в чем не бывало, продолжил окольничий. – Вы, как виновные… – Адашев замолчал, словно в ожидании возражений, которых не последовало, и завершил фразу, – обязаны без выкупа отпустить уведенных наших людей – купцов, крестьян, воинов, а мы, как правые, дозволим вам выкупить своих. У кого найдете. И если они нашей веры не приняли. Так нашими обычаями заведено, и старины мы крепко держаться будем.
Это был еще один тяжелейший удар. Московиты взяли множество пленных, и большинство из них продали в рабство, даже в далекие южные страны – Оттоманскую Порту и Крым. Когда Кнут Юханссон ездил летом в Москву, настоятелю удалось мельком кое с кем из этих несчастных повидаться, перекинуться парой фраз. От них и узнал, что продавали порой за бесценок – человека за гривну, девку – по пять алтын. Где их теперь отыскать? У турок с татарами? Знали об этом и остальные послы.
– Где ж нам их искать, чтоб выкупить? – Высказал общую мысль архиепископ Упсальский, медленно подняв глаза на Адашева.
Окольничий, по-прежнему усмехаясь, развел руками. Смолчал.
– У турок с татарами?
– У кого найдете. – Повторил Адашев. – Кое-кто еще и здесь в Москве содержится за казенный счет. Искать надобно.
– А когда мы сможем увидеть…, – внезапно подал голос королевский шурин Стен Эрикссон, но тут же запнулся, не зная, как правильно назвать властителя Московии.
– Rex et dominus. Царь и господин. – Тихо подсказал ему Агрикола, вспомнив давешний разговор с Лаврентиусом Петри.
– Да, да, – Смоландский наместник поспешно повторил титул за епископом Або, – царя и господина вашего. И вручить ему дары от нашего короля Густава.
– Пост у нас великий на ближайшей седмице… – пожал плечами Адашев. – Ждать надобно. Царь, Иоанн Васильевич, в молитвах пребывать будет. Найдет ли время для вас… – Окольничий сощурился, что-то обдумывая, потом продолжил. – две…, три седмицы. Но мыслю, что до Страстной сие свершится. Сперва, ответ на грамоту вашего короля ожидайте. – Окольничий поднялся, встал и Висковатый, за ними поднялись все. Было понятно, что первая встреча завершена. И не пользу шведов.
– Как бы разузнать, что в их столице твориться, что народ толкует, может слухи какие бродят о нас… – Задумчиво произнес Стен Эрикссон, когда посольство осталось в одиночестве.
– Охраняют строго. Не выбраться. Обложили со всех сторон. – Вздохнул рыцарь Лилье. – Да и куда мы в наших нарядах. Сразу увидят, пальцем показывать будут, стража сбежится. Не миновать тогда беды…
– Ну, это не проблема. – Усмехнулся Андерс и достал из-под лавки мешок. – Я с собой прихватил кой-какую одежонку. Глядишь, сойду за местного. Я такие штуки часто проделывал, когда с отцом в Новгороде, на Немецком дворе жил.
– Не чересчур рискованно это будет? – Обеспокоенно спросил его Агрикола.
– Не впервой! – Махнул рукой Веттерман.
– Тогда, с Богом. Постарайся разузнать по больше. И возвращайся скорей. А мы пока письмом займемся. – Благословил его архиепископ Упсальский.
Андерс моментально исчез, вернулся под вечер, да так, что и не узнал его никто сперва. Скрипнула дверь, кто-то вошел в горницу. Посольские пристально вглядывались поначалу в чужака, гадая, кто из московитов заявился в столь неурочный час и с какими вестями, и лишь, когда Андерс скинул шапку и негромко засмеялся, все облегченно вздохнули.
– Тьфу ты, черт, – шумно ругнулся Стен Эрикссон, – я мы-то уж подумали… Давай, садись, рассказывай.
– Особо рассказывать нечего. – Андерсу освободили место в центре стола, он перешагнул лавку, опустился на нее. – Говорят, что приезжих свейских немцев ждет прием у царя Иоанна.
– Это мы и так знаем! – Раздраженно отмахнулся Эрикссон. – Что иного выведал?
– Слыхал то, что прям перед нами в Москву приехало ливонское посольство.
– И? – Смоландский наместник был нетерпелив. – Что нам-то с того?
– Может и ничего. – Пожал плечами Веттерман. – Как посмотреть…
– А сейчас, где ливонцы? Принял их Иоанн или ожидают также, как и мы? – Своим обычным спокойным тоном задал вопрос архиепископ Упсалы.
– В том-то и дело, что на другой день по приезду их развернули обратно. Напрочь Иоанн разговаривать с ними отказался. Как говорят московиты «не солоно хлебавши» убрались к себе. Царь, дескать, денег от них ждал, дани, а они с пустыми руками приехали. Уговаривать собирались или отсрочки просить. А он наотрез. Все говорят – война скоро. Пойдут московиты на Ливонию. Оскорбление царской чести кровью смывать.
– Нам-то что с того? – Повторил недовольный скудостью добытых сведений королевский шурин. – Про наши-то дела, Веттерман, узнал что-либо?
– Да, подождите вы, наместник! – Довольно резко сказал ему Лаврентиус Петри. – Раз царь им отказал, раз в народе говорят о предстоящей войне с Ливонией, как о деле решенном, а нам прием обещан, ergo, он настроен на мир со Швецией. Вот что нам с этого!
– А-а-а, – протянул Эрикссон, даже не обратив внимание на сделанное ему архиепископом внушение. – Тогда, это должно нас обнадежить.
– Будем надеяться. – Тихо отозвался епископ Або.
В понедельник в кладь с припасами вошли приставы, все скоромное вынесли, занесли иное. Рыцарь Лилье сунулся за ними, как ошпаренный выскочил, крикнул им вслед:
– Куда все дели? Одна морковь, лук, да капуста. Бочки с чем-то еще. Пшена малость. С голода помрем!
Дьяк, сопровождавший приставов, молча посмотрел на него, вытащил из рукава грамотку, на стол положил, ладонью расправил, читайте мол, и удалился.
Ерансон взял в руки, зачитал, переводя на шведский:
– Понедельник, среда, пятница – вкушать сырую пищу без масла, один раз в день. Вторник, четверг – горячую пищу без масла, один раз в день. Суббота, воскресенье – горячая пища с маслом и вино, дважды в день.
– Да это медленная смерть! – Кипел рыцарь Лилье.
– Хватит! – Повысил голос на него архиепископ. – Сколько можно повторять – не обжираться сюда приехали. Потерпим, лишь бы волю королевскую исполнить.
Почти на две недели шведов оставили в покое. Изредка появлялся Висковатов. Условия мира не обсуждались, думный дьяк просто прикрыл глаза и замолчал. После принялся объяснять чужеземцам обычаи московского двора, встречи, поклоны, когда вставать, когда садиться, как вести разговор. Судя по всему, вопрос их приема царем был предопределен. На просьбу о выходе в город, Висковатов ответил категорическим отказом:
– Для вашего же блага и нашего спокойствия. – Пояснил кратко. – Обычаи вам наши не ведомы, а ныне Великий пост, не дай, Господи, чего сотворите. – Прозвучал явный намек на новгородское происшествие. – Сидите, ждите, да поститесь с Богом. Молитвы, да в пост – самое для душ спасение.
Пожалуй, ожидание для шведов сейчас стало наихудшим испытанием, притуплявшим даже чувство голода, что испытывали посланники, непривычные к столь скудной и малопитательной пище. Андерс еще несколько раз тайно уходил в город, но ничего важного разузнать ему не удалось.
– В церквах службы идут непрерывно, на торжищах народу поубавилось. И потолковать не с кем. Стражников много бродит, следят, чтоб скоромной пищей не торговали.
Царский ответ принесли те же Адашев и Висковатов к десятому марта. С неизменной улыбкой окольничий вручил грамоту архиепископу и добавил:
– Просьбы ваши рассмотрены, воля и слово царские объявлены. Через два дня на третий ожидайте приема у великого государя Иоанна Васильевича. Сразу после литургии Василию Великому. Честь вам великая оказана! За сим откланиваемся. – И вышли вон.
В письме все повторялось. И про виновность шведской стороны, и про выкуп пленных, и про нежелание царя иметь дело с Густавом напрямую. «Не бесчестие, а честь королю иметь дело с новгородскими наместниками. – Сообщал им Иоанн Васильевич. – Знаете ли, кто они? Дети или внучата государей Литовских, Казанских или Русских. Нынешний наместник, князь Глинский, есть племянник Михаила Львовича Глинского, столь знаменитого и славного в землях Немецких. Скажем вам также не в укор, но единственно в рассуд – кто государь ваш? Венценосец, правда. Но давно ль волами торговал? И в самом великом монархе смирение лучше надменности. Король ваш сгрубил нам, оттого мы побили людей, взяли города, сожгли селения».
– Смирение лучше надменности… – Повторил Стен Эрикссон вслед за прочитавшим царскую грамоту переводчиком. – И вы думаете, мы можем такое показать нашему Густаву?
Все молчали.
Агрикола подал голос:
– Нужно заготовить новое письмо властителю Московии. Зачитать его прямо на приеме. Адашев говорил, вроде бы там будет много людей. Их митрополит, духовенство, собрание сословий, что московиты называют…, называют…, – епископ запнулся, вспоминая название.
– Земский собор. – Подсказал Андерс.
– Верно. Собор. Канцлер говорил, что Иоанн прислушивается к гласу народа. Нужно, как следует подготовиться. Вновь обратиться к Святому Писанию, в нем зачерпнуть мудрости Божьей, что поможет нам выстоять в этом диспуте, что битве сродни духовной. Доказать при всех, что король Густав достоин быть равным их царю Иоанну. – Агрикола быстро выдыхался, пот выступил на бледном челе.
– Ты как себя чувствуешь, брат мой? – Обеспокоенно спросил его архиепископ.
– Ничего. Это слабость, просто слабость. – Микаэль рукавом вытер пот со лба. – Не привыкли мы поститься, преосвященство. Видно, за грехи наши, Господь силы забирает, но Он испытывает нас тем самым. И Он же другие силы придаст взамен, не телесные, но умственные, ибо мы все веруем. За дело, братья, времени у нас мало, а нужно такие слова подобрать, чтоб они тронули самое жесткое сердце, ибо на милость великого князя московского уповать не стоит, на одного лишь Господа нашего.
Прелаты приказали подать им бумагу и письменные принадлежности, сами сели за стол. Приступили к сочинению. Многое нужно было указать. О том, какие страдания вынес простой народ Финляндии в тяжелое время войны, сколько разрушено домов в Остроботнии, в Карелии, сколько потеряно королевской казной налогов, сколько людей угнано. Каждый добавлял от себя, что знал.
Начисто переписывал Олаф Ларссон, а Еранссон готовил русский перевод посмольской грамоты. Закончили далеко за полночь.
– «Просим со смирением у всемогущего царя Руси, чтоб никаких нападений не было на подданных, проживающих на пограничных землях нашего королевского величества, так этого всего было слишком много. Мы надеемся, что люди, живущие рядом с границей, могут, как и раньше, пахать свои поля, ловить рыбу на своих водоемах, которые находятся на шведской стороне границы».
Настал долгожданный день. Вывели посольство с Литовского двора. Впереди несколько детей боярских верхами с возгласами: «Пади! Пади!» разгоняли народ московский, жадный до зрелищ. Насмешливо-оскорбительных криков и свиста слышно не было. Волной перекатывалось:
– Едут! Едут!
Толпа словно осознала всю важность, торжественность момента. Царь принимает послов! От самого Иоанна Васильевича честь им. Тут уж не до свиста позорящего, не до выкриков озорных, не дай Бог, не на тот счет отнесут…
За детьми боярскими десяток воинов конных, все в шлемах, кольчугах, со щитами, мечами, да копьями. Затем сани с дьяками, да боярами в дорогих шубах. Вот и первый возок с послами. Королевский шурин Стен Эрикссон с фогтом Гюльта возглавляли посольство, на одном берет малиновый с синими перьями, на другом черный с белыми, шубы крыты бархатом в те же цвета, у смоландского наместника с золотыми галунами, у его спутника серебром расшита. Под мехами доспехи легкие одеты, но без оружия – нельзя с ним к царю, строго настрого предупредили и осмотрели рыцарей приставы. За ним ехали оба прелата в полном епископском облачении и с митрами на головах. Позади прочие – рыцари, советники, переводчики, свита. В хвосте процессии еще несколько саней с дьяками и вновь конные воины.
Въехали в Кремль через Красную площадь. Здесь стены крепостные достигали наивысшей высоты. Вновь смотрел на них пристально Агрикола. Давили они душу своей тяжестью, резали острыми изогнутыми зубцами, а дальше храмы, храмы, храмы, золото куполов так и блестит, искрится на морозном солнце. Меж двух соборов на высоком цоколе квадратное здание с широким крыльцом под четырехскатной золоченой кровлей. Все стены облицованы белокаменными блоками, каждый отесан на четыре грани. Ко входу вели три лестницы. Главная, она же Красная, была заперта на решетку, ибо только для царя предназначена. Гостей заводили или со Средней или с Благовещенской. Здесь же, наверху, возле входа – широкая площадка, где толпились бояре и дьяки, поджидавшие гостей и с высоты поглядывавшие на них, тихо переговариваясь, словно пчелы жужжали над головами прибывших. По знаку специально снаряженного для этих целей окольничего, посольство остановили, и гостям было предложено выгружаться из саней.
– По Средней лестнице подниматься будем. – Успел шепнуть Агриколе Кнут Юханссон.
– Что это значит? – Вопрос настоятелю Абосского собора оба прелата задали почти одновременно.
Юханссон нахмурился:
– Не считают христианами нас. Иначе бы к Благовещенской подвели.
– Ладно, идем, как ведут. – Упсальский архиепископ решительно направился первым к каменным ступеням, за ним поспешил наместник Стен Эрикссон, затем епископ Або, и прочие в соответствии с рангом посольства. Посредине лестницы их встречал другой боярин, который сопроводил их до самой двери, где и передал уже знакомому им дьяку Висковатову. Вместе с ним посольство вошло в первое помещение Грановитой палаты – Святые сени, все стены которых были расписаны искуснейшим образом различными сюжетами из Священного писания. Висковатов намеренно остановился, дабы гости смогли насладиться фресками и проникнуться благоговейностью того, что ожидает их далее. Наконец, следующая дверь распахнулась, показался канцлер Адашев со своей вечной насмешливой улыбкой и знаком пригласил следовать за ним в зал для приемов.