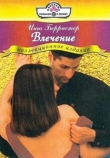Текст книги "Проклятие рода"
Автор книги: Алексей Шкваров
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 58 (всего у книги 80 страниц)
Посольство вошло в огромное квадратное помещение с четырьмя крестовыми сводами, опирающимися на центральный столб. Все стены были также расписаны фресками. Свет проникал внутрь с трех сторон через восемнадцать окон, исполненных в виде спаренных стрельчатых арочек, разделенных колонкой-импостом. С потолка, высотой в четыре или пять человеческих ростов, свисали огромные паникадила, со множеством свечей, которые зажигались в вечернее время. По периметру, за исключением противоположной от вошедших стороны, в две линии были расставлены столы, а вокруг центрального столба устроены особые полки, оббитые яркими шелковыми тканями – поставцы, все сплошь заставленные золотыми и серебряными диковинными предметами – часами, разнообразными сосудами, чашами, кубками, братинами, чарочками, переливающимися эмалью и камнями.
В конце зала, под богатым балдахином на резных столбиках, возвышаясь тремя ступенями над полом палаты, стоял на престоле трон, изготовленный из слоновой кости, на котором сидел человек в длинном бархатном кафтане пурпурного цвета, искусно вынизанном крупным жемчугом и драгоценными камнями. Над ним горела золотом и самоцветами икона, под ней расправлял свои крылья могучий двуглавый орел. Черные волосы выпадали из-под меховой шапки, усыпанной жемчугами с драгоценным крестом наверху. В одной руке он держал длинный чеканенный посох, другой поглаживал узкую длинную рыжеватую бороду. На груди сияла золотая цепь с большим кипарисовым крестом. Взор быстрый, огненный, завораживающий. Вдоль стены, слева, справа от трона застыли, словно высеченные из мрамора, воины в белых одеждах с посеребренными топорами на плечах. Рядом с царем стоял московитский первосвященник преклонного возраста в парадном облачении, опираясь на серебряный посох.
– Великий князь Иоанн! – догадались послы. Их медленно подвели ближе к царскому престолу. Потихоньку, беззвучно в залу просочились бояре, что ожидали до этого снаружи, выстроились в два ряда вдоль столов и застыли, словно снопы. Шествовавший впереди посольства Адашев, показал знаком всем остановиться, не доходя с десяток шагов до царского места, сам подошел ближе, сперва низко поклонился, затем обратился прямо к повелителю.
– Господине, великий царь и государь Всея Руси, архибискуп свейский Лаврентий, великий посол, князь Стен, главный посол, и иные малые послы с челядью бьют тебе челом. Дозволь поклон им передать от свейского короля, ихнего государя.
Иоанн кивнул головой, и окольничий передал послам дозволение.
Рыцари преломили колено, священники ограничились поклоном, не столь глубоким, сколь почтительным. Все прочие опустились на оба колена и коснулись лбом пола. Все шло по тем обрядам, что объяснили шведам заранее. Адашев показал знаком, что можно подняться и продолжил:
– Господине, великий царь, государь Всея Руси, послы свейские бьют тебе челом с дарами от своего государя.
Иоанн снова кивнул согласно головой, и отряженные для этой надобности слуги быстро вынесли и поставили рядом с Адашевым несколько золотых, серебряных чаш и изумительные часы немецкой работы. Было видно, что подарки заинтересовали царя, он с любопытством их рассматривал, не вставая с трона.
Наконец, шведы услышали самого Иоанна:
– Дары и грамоту от короля свейского мы приняли с любовью. – Речь царя была плавная, размеренная, голос приятный, не высокий, не низкий, чуть рокотал в тишине зала, эхом отзываясь от стен. – Наш ответ, мне ведомо, вами получен. – Он чуть повернул голову, краем глаза скользнул по фигуре появившегося вовремя слева от трона думного дьяка Ивана Висковатова, тут же склонившегося в низком поклоне. – Зрю, что новые грамотки вы мне приготовили. – От зорких глаз царя не укрылись бумаги, что держал в руках архиепископ Упсальский. – Что ж, прими и чти, Адашев. Пущай все послушают, владыка, – царь показал рукой на митрополита Макария, – бояре, собор Земской и прочие, – обвел рукой зал. Все низко поклонились. – Токмо суть чти, Алексей, все не надобно.
Окольничий поклонился еще раз, повернулся к Лаврентиусу Петри, принял от него вымученное бессонными ночами письмо – последнюю надежду посольства, развернул, первый лист, что на немецком был писан, тут же за пояс себе заткнул, всмотрелся в русский текст, быстро пробежал глазами, усмехнулся, обернулся к царю и изрек:
– Толкуют о прежнем. Дабы считать тебе, великий царь и государь, братом свейского короля, от того челом бьют, мол не в Новгороде мир подписывать, а в Москве и Стекольне. Дескать, тридцать шесть лет правит свейский король и среди многих государей сходит за равного. В остальном сетуют об убытках, войной вызванных.
– Эк, упрямцы! – Подобие улыбки скользнуло по лицу Иоанна. Судя по всему, настроен он был благодушно, но не маска ли это? Есть ли хоть один повелитель, который будет искренен в добрых словах, эмоциях, гримасах, отражающих мнимую благосклонность к просящему, усыпляющих собеседника, допущенного к столь высокой персоне? Не последует ли за этим нечто совсем противоположное и ужасное, когда ходатай в мгновение ока превратится в жертву? Не есть ли улыбка и ласковый голос царя тот самый нож, коим сейчас безжалостно зарежут беспечную овцу? Благосклонность завораживает, ибо жертва, а все шведы, стоящие сейчас перед царем Московии, по сути были жертвами – иное движение одной бровью, кончиками пальцев унизанных перстнями, иной тайный знак понятный лишь тем, кому он будет предназначен, тому же Адашеву или воинам, застывшим, как каменные истуканы и… последующего предугадать невозможно.
– Зачти им, Алексей, сызнова, по памяти, что мы им отвечали. – Приказал царь Адашеву.
Вновь последовал подробный рассказ о том, кто были предки властелина Руси вплоть до Пруса сродника римского кесаря Августа. От Рюриковичей к Глинским перешел, про Мамая и Чингиз-хана напомнил. Грозный сидел молча, иногда головой покачивая в знак одобрения. Московские толмачи помалкивали, зато Еранссон с Веттерманом трудились вовсю. Первый королевскому шурину Стену Эрикссону переводил, второй – первосвященникам.
Адашев закончил и посмотрел на царя в ожидании новых приказов. Иоанн погладил длинную бороду, сверкнув перстнями, изрек задумчиво, почти ласково, будто уговаривал детей неразумных:
– Что ж неймется свейскому королю? Как может он быть мне братом, коль в родне, да предках своих не имеет ни капли царственной крови? Отец его, то доподлинно известно, скотом торговал… То не честь нам будет, а бесчестье. С дядей – иное дело. По чести. Так мыслю. Власть наша от Бога-Отца дадена, Господом нашим Исусом Христом благословлена, Святым Духом озарена. – Царь широко и троекратно перекрестился. За ним перекрестились все московиты.
– Власть наша от Бога-Отца дадена… власть наша от Бога-Отца дадена… – Крутилась мысль в голове Агриколы, билась в виски, словно колокол. – Ветхий завет! – Вдруг озарило епископа. – Цари ветхозаветные!
Микаэль тихо шепнул на ухо Лаврентиусу:
– Преосвященство, дай возможность мне возразить их канцлеру и царю.
– Сможешь? – Настороженно посмотрел на него архиепископ.
– Сделаю, что смогу! – Ответил Агрикола, спешно собираясь с мыслями.
– Давай, брат мой! – Согласился Лаврентиус и кивнул Веттерману, чтобы перевел просьбу.
Адашев выслушал шведского толмача, пожал плечами, повернулся к царю:
– Великий царь и государь, бискуп Абовский бьет челом и просит слово молвить.
Иоанн махнул рукой, развалился на троне, приготовившись слушать возражения. В его глазах уже давно светились превосходство и торжество победителя.
Агрикола собрался с духом, откашлялся, сделал короткий шаг вперед, обратился, как положено:
– Rex et dominus! – Поклонился и продолжил. – Власть государева Богом-отцом дадена… Истинно так! Позволь мне, великий государь и ты первосвященник московский, – Микаэль поклонился Макарию, – напомнить о Книге Первой Царств. Как жил народ Израиля без царя, как обратился к Господу чрез пророка Самуила о поставлении царя над ними. И ответил Господь: «послушай голоса их, только представь и объяви им права царя, который будет царствовать над ними», а после того изрек: «Поставь им царя!» . На кого же пал выбор Господень? На Саула из колена Вениаминова, отправившегося по воле отца своего искать сбежавшую скотину. – Агрикола не стал уточнять, что речь в Ветхом Завете шла об ослицах, ведь царь о скоте толковал, упоминая отца короля Густава. – И изрек Господь Самуилу: «Вот человек, о котором Я говорил тебе. Он будет управлять народом Моим». И был Саул молод и красив, «от плеч своих был выше всего народа», совсем, как вы великий царь и государь! – Лесть попала в точку. Иоанн заулыбался и слушал епископа с явным удовольствием. Как хорошо, что Веттерман отлично знает не только язык московитов, но и прекрасно знаком с текстами Священного писания, здесь важно каждое слова – подумалось Микаэлю, и он продолжил. – И весь народ выступил, как один человек и изрек: «Да живет царь!». И взял Самуил сосуд с елеем, вылил его на голову Саулу, поцеловал и сказал: «Вот, Господь помазывает тебя в правители наследия Своего». Но когда Саул преступил Слово Господне и был отвергнут Богом-Отцом, на кого пал Его выбор? На Давида, младшего сына Иессея из Вифлеема, овец пасшего. Не проста судьба была его. Сперва лишь мужи Иудины помазали его на царство, а прочие восстали. Но он был Его избранником, и Господь помог преодолеть всех противников, пока не пришли все колена Израиля и не «сказали: вот, мы – кости твои и плоть твоя!» .
– Разве преемником Давида не стал его сын Соломон? – Иоанн прервал вопросом рассуждения епископа. Был заметен его явный интерес к тому, что рассказывал сейчас Агрикола. Рассуждения богослова захватили царя.
– Стал, великий царь и государь. Склоняю голову пред твоими мудростью и познаниями Священного писания. – Микаэль поклонился. – Но не по праву первородства, седьмым сыном он приходился великому Давиду, что родила ему Вирсавия. Знаешь ты, великий государь и продолжение истории народа и царей Израилевых после премудрого Соломона. Кто без воли Бога брал власть, не был угоден людям, а ведь сам Бог-Отец назвал народ своим наследием, того постигла печальная участь. Господь выбирал царя, угодного народу, а первосвященник или люди, как мужи Иудеи в случае с Давидом, помазывали избранника на царство. – Агрикола замолчал обессилено. В глазах потемнело, весь мир сузился до двух светлых пятнышек, сквозь которые он смотрел на царя. Только бы не упасть, только бы выдержать до конца. Он осторожно набрал воздуха в легкие и также медленно выдохнул, почувствовав, как холодный пот заливает все тело под одеждой.
– Что скажешь, владыка? – Иоанн повернулся к митрополиту Московскому и Всея Руси. Старец стоял, чуть согнувшись и опершись на посох и также внимательно слушал речь епископа абовского. Ответил густым басом:
– Умен сей муж, государь. Истину глаголил. Видать, большой знаток о жизни царей израильских, нами почитаемых.
Иоанн задумался. Молчал уставившись в пол и водрузив обе руки на посох. В огромной зале стояла гробовая тишина. Стен Эрикссон неловко пошевелился, ибо затекло все тело, пока слушал Агриколу, звякнул доспехами. Звук, усиленный эхом, раздался такой, словно ударили в малый, но звонкий медный колокол. Главный посол обомлел от страха и весь покрылся испариной.
Царь встрепенулся, его густые брови сдвинулись к переносице, лоб нахмурился. Но гроза миновала. Царское чело разгладилось.
– Запишем в миротворческую книгу: война начата из-за пограничных распрей, перемирную грамоту написать здесь в Москве, а новгородским наместникам скрепить печатями. Свейских полоняников, что в Москве содержат, милостиво дарю посольству.
Висковатов старательно записывал за царем.
– И еще! Отпишите князю Михайле Глинскому, что человека свейского, под стражей сидящего на казенном дворе и с пьяну образ святой, – царь запнулся на этих словах, задумался, потом усмехнулся и продолжил, – что образ святой с пьяну свечой попортившего, оттого в вину великую впавшего, мы милостью жалуем. Как придет князь Стен в Новгород того человека ему отдайте! От нас, вслед за свейским посольством, своего посланника отрядить в Стекольну, дабы видел он, как король свейский крест поцелует. В ином порядок старый, нами не нарушаемый.
Иоанн встал во весь свой огромный рост. Раскинутые над ним крылья орла дополняли картину, будто апокалиптическая тень самого Бога легла сейчас на всех. Ведь это Он дал жене крылья, дабы спасти «младенца мужеского рода, которому надлежит пасти все народы, ибо восхищен он был к Богу и престолу Его» . Незаметно для всех слуги зажгли свечи паникадил, и образы на стенах палаты ожили, заиграли красками, задвигались, словно все святые присоединились к присутствующим.
Бояре и дворня – все склонились в глубоком поясном поклоне. Одни лишь рынды – телохранители царские остались неподвижными истуканами. Рыцари вновь преклонили колени, шведские священники ограничились прежним поклоном.
– День к закату клонится. Не пора ли трапезничать, владыка? – Обратился Иоанн к Макарию. Это означало завершение аудиенции.
Шведы в душе радовались – плохой ли, хороший ли, но компромисс был достигнут во многом.
Столы в мгновение ока заполнились тарелками со снедью и кувшинами с вином. Послам отвели особый стол, дабы не смешивались они с православными христианами. Посуда была сплошь из золота с серебром, но пища по-прежнему постная. Никто пока не садился. Вперед вышел митрополит и, осенив троекратно все столы, произнес молитву:
– Oтче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. – Перекрестился, все повторили за владыкой. – Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даеши им пищу во благовремении, отверзаеши Ты щедрую руку Твою и исполняеши всякое животно благоволения.
– После молитвы, сто сорок четвертый псалом зачитал. – Прошептал Веттерман.
– Господи, Иисусе Христе, Боже наш, благослови нам пищу и питие молитвами Пречистыя Твоея Матере и всех святых Твоих, яко благословен во веки веков. Аминь. – Закончил молебен Макарий и вновь осенил столы и пищу крестным знамением. Однако, никто не садился. Митрополит повернулся лицом к царю:
– О, великий молитвенниче и кормчий Святыя Руси, отрасль благодатная богоизбранного корня, христолюбивый боговенчанный Благоверный Царю Иоанне! Ты, Дом Пресвятой Богородицы и Веру православную сохранивший и укрепивший; Русь Святую объединивший; ересь жидовствующих поразивший; бесов во плоти, сиречь жидов поганых, изгнавший; измену искоренивший; агарян, папежников и язычников победивший; народ русский просветивший и ко спасению наставивший; грады, веси, Святые обители, храмы созидавший; духовную рать и православное воинство вокруг себя собравший и на сопротивныя подвигнувший. Возстани на помощь нам, призри на Русь и народ твой, услыши грешных рабов, молящихся тебе, и умоли Христа Бога и Пречистую Богородицу, явившую тебе Свой Святый образ, явить Царя нашего, аки же ты есмь, Иоанне. – Макарий низко поклонился царю, все присутствующие повторили за ним. Иоанн Васильевич сам поклонился собравшимся и жестом пригласил садиться.
– Куда же он нас причислил? – Усмехнулся Лаврентиус, выслушав перевод Веттермана. – К папистам, язычникам или магометанам?
– Ах, оставьте, ваше преосвященство, – отмахнулся от архиепископа Эрикссон, – не все ли теперь равно. Я должен высказать вам, магистр Агрикола, – королевский шурин нагнулся за столом, чтобы видеть епископа Або, – нашу общую признательность за вашу блестящую речь, смелость и находчивость. Именно ваши слова, почерпнутые из Священного Писания, тронули сердце московита. Я обязательно сообщу об этом королю!
Микаэлю хватило сил лишь изобразить подобие благодарной улыбки. Ему не хватало воздуха. Он посмотрел наверх. Огонь сотен свечей отражался в сводах потолка, рисуя и тут же стирая неведомые письмена, которые ему никогда не прочитать. Нужно было во чтобы то ни стало продержаться до конца приема. Это было непросто. От царя следовали чаши – первая архиепископу Упсальскому, Лаврентиус встал, поклонился, осушил; вторая – главному послу; третья предназначалась ему – Агриколе. Чуть слышно он шепнул сидящему рядом с ним Юханссону:
– Помоги мне, брат, подняться.
Обеспокоенный Кнут сперва бережно поддержал под руку епископу, после подставил плечо, чтобы он мог одной рукой держаться за друга.
Вино было прохладным и вкусным. Микаэлю даже немного полегчало. Голова прояснилась, словно ему удалось отогнать навязчивое наваждение, преследующее его из снов.
Вернувшись на Литовский двор Агрикола вновь почувствовал крайнюю слабость во всем теле, лег и больше не поднимался до самого отъезда из Москвы.
Через неделю прием повторился. Иоанн Васильевич было вознамерился устроить состязание – диспут богословский и чтоб непременно на греческом. Но Агрикола на нем присутствовать не смог. Царь удивился, велел отправить к нему лекаря, а диспут отменил, ограничившись веселой трапезой.
Литвинянин Матюшко – он же врач, он же аптекарь осмотрел больного и изрек:
– Язык влажен, чист, в конце сух. Лицо бледное, испарина повсюду, но тело чистое. В урине бело-розовый осадок.
– Что с ним, лекарь? – Обеспокоенно спросил его архиепископ. Ответа ждали все послы.
– Думаю, огненный недуг, горячка нервная. – Пожав плечами, произнес врач. – Немудрено заболеть, пообщавшись с нашим государем. От него порой замертво людей выносят. От одного взгляда царского удар хватает. Я оставлю вам кору ясеня и вяза, корень плауна и слезы кукушкины. Смешаете все с мукой из овса. Разболтаете в воде с молоком. Воду, чтоб прокипятили! Хорошо бы раков, да на том же молоке, токмо где ж их зимой взять.
– Он ничего не ест. – Подсказал Веттерман.
Врач покивал головой:
– Вестимо. Куру надобно отварить и на ней кашу давать понемногу.
– Где ж взять-то молоко, да куру? Пост ведь. – Нахмурился архиепископ.
– Не переживайте, ваше преосвященство, я распоряжусь царским именем, приставы все добудут и принесут вам. – Успокоил его врач. – Болящим есть послабление в пост.
24-го марта посольство покидало Москву. За 6 дней, не ночуя нигде под крышей, они домчались до Новгорода. Грамота была написана на русском языке, и это удручало послов. Ее перевод на немецкий был практически невозможен, все знали нрав Густава. Как смягчить текст договора, над этим бились и Ерансон и Веттерман. «Мы вынуждены были принять его таковым!» – говорится во многих шведских дипломатических описаниях этой поездки. Но, главного, они добились. Мир был заключен.
В минуты забытья похожего на сон, над Агриколой больше не нависала черная каменная громада. Открыв глаза, он смотрел на яркие звезды, мерцавшие в бездонной ледяной глубине. Епископ видел хрустальную прозрачную ясность небесной синевы. Щипки мороза лишь вызывали внутреннюю усмешку, ибо помертвевшие губы не повиновались ему. Сердце перестало биться уже за границей, на шведской территории.
Смерть в холодный зимний день, накануне Вербного воскресенья, была знаком судьбы об окончании его миссии на Земле. Епископ и вправду довел ее до конца во всех отношениях, даже больше чем это можно было требовать от человека. Он перевел Священное писание на финский язык и сделал это талантливее других, он создал письменный язык своего народа, он твердо стоял на позициях Реформации, он приложил все, последние в прямом смысле этого слова усилия, чтобы достичь мира между двумя воюющими государствами. Умер, не оставив завещания. Но разве не завещание те книги и те дела, память о которых осталась в народе? Что он сотворил такого? Просто из разнородных букв создал проповедь «незамутненного Слова», многих Слов, и они разлились в его душе дивным хором, голоса которого должны были найти и нашли отклик в сердцах и душах соплеменников. Много это или мало?
Обрушился ли него тот каменный монстр, что так часто он видел во сне, стоя у его подножия? И что это было? Он строил иной храм, используя эти камни, превращавшиеся в тома его книг. Что убило его? Борьба? Труды? Победы? Все вместе? Просто он жил в изумительное время поисков всего и вся. Одни гении тратили жизнь на поиск философского камня и нашли его в бесчисленных открытиях медицины, фармацевтики, химия, дабы оставить потомкам. Другие переплыли океаны, перенеслись на другие континенты и открыли их для жителей Европы. Третьи изобретали порох, книгопечатание, бумагу. Четвертые сеяли разрушение, но создавали регулярные армии, пятые открывали людям красоту живописи, скульптуры и становились гениальными изобретателями. Шел век Возрождения. Вместе с ним шагал и век преобразований, не только в технике, но и в душах, созрев сначала в умах гуманистов, таких как Эразм Роттердамский, а затем превратившись в логическую цепочку идей доктора Лютера. И Европа вспыхнула – огнем разрушения и огнем созидания одновременно. В этом пламени горели тысячи людей, для того, чтобы светить другим. Агрикола был лишь одним из них. Пламенная мечтательность, скрытая под внешней суровостью скандинавского характера, жгла его изнутри.
Летом 1557 года из Москвы в Стокгольм был отправлен Иван Замыцкий, сын известного нам уже Шарапа. При нем и в присутствии риксдага король Густав целовал крест и клятвой на Библии подтвердил договор о мире. 28 декабря Иван Замыцкий челом бил царю Иоанну, что был тому свидетелем. Жребий был брошен. Московские войска вторглись в Ливонию. Пора было получать дань и мстить за обиды и обман.
Глава 5. Польская красавица.
– Ясновельможная моя королевишна, проснись, твоя милость… – Служанка коснулась обнаженного плеча Катаржины, но красавица лишь шевельнула пушистыми ресницами, не желая открывать глаза. – Проснись, твоя милость, пожалуйста. – Повторила служанка, чуть не плача.
Ах, как хорошо спалось после вчерашнего бала! Как приятно туманилась голова, сладкая нега обволакивала тело… Что нужно этой глупой девчонке? Разве она не понимает, что навлечет гнев своей госпожи? Глаза слипались, и вновь в вихре танца кружились меха кунтушей горделивых шляхтичей и разноцветные бархаты и атласы дамских платьев. Ах, эта гальярда! Четыре шага и прыжок, четыре шага и прыжок… Еще прыжок, еще… Крепкие мужские руки уверенно держат даму за талию, они не позволят поскользнутся изящному башмачку, взгляд шляхтича призывно манит, ловит ответ-разгадку тайны женских глаз – восхищение или согласие в них, скользит ниже, норовит заглянуть за корсаж и вновь обращается с тем же вопросом. Гальярда заканчивается, паны выстраиваются в ряд, готовясь исполнить свой собственный воинственный танец, подкручивают усы, красуются друг перед другом, искоса посматривают на своих избранниц. Только вместо бравурного краковяка тихо, нежно, и страстно запела одна лишь скрипка незгакомого виртуоза музыканта, чудом или скорее причудой какого-то итальянского герцога занесенного на вчерашний бал в Краков и представленного принцессе Катаржине. Скрипач так и сказал:
– Играю для вас одной, моя госпожа и повелительница!
Ах, как же он играл… Как пела и плакала скрипка, но то были слезы не страданий, а любви и счастья, заставляющие трепетать и сердца и плоть.
– Твоя королевская милость, проснись, умоляю, и ты, ясновельможный пан, проснись… – не унималась глупая Малгожата.
– Это еще кого она будит? – Удивилась принцесса, чарующие звуки музыки затихли, сон потихоньку стал отступать…
– Да проснитесь же вы! Сюда идет его милость король! – Вскричала, не выдержав, служанка.
Катаржина мигом села на кровати, машинально подтягивая к груди тончайшую простынь, дабы прикрыть наготу, и тут же посмотрела направо, где с ужасом обнаружила, что она не одна в постели, а с обнаженным молодым человеком. В другое время она бы еще разок оценила всю привлекательность и мужественность его натуры, иначе и быть не могло, иначе его здесь просто не было бы никогда, но не сейчас. Хотя, редко кто-то задерживался в ее спальне. Обычно, получив требуемое, принцесса немедленно выпроваживала незадачливого любовника. Но сейчас на ее несчастную головку, задурманенную сном с танцами, музыкой и выпитым накануне токайским, выплеснули ушат холодной воды, а вместе с ним исчезли напрочь все воспоминания о вчерашнем вечере и очередном любовном приключении.
– Пан, ты кто такой? Что ты тут делаешь? – Катаржина резко спросила случайного любовника. Искать заветный перстень Сфорца, который она использовала в подобных ситуациях, было некогда, да она и не вспомнила сейчас о нем.
– Я, я, – от неожиданности юный шляхтич стал заикаться, – я – пан…
Не дав даже договорить и представиться тому, с кем предавалась любви и делила ночью ложе, принцесса грубо перебила его:
– Пошел вон отсюда! – Как его звали, Катаржину интересовало меньше всего.
– Но, ясновельможная панна…
Этот идиот не понимает! Принцесса взорвалась:
– Ты пытался изнасиловать меня, и жить тебе осталось ровно столько времени, сколько хватит довести тебя до плахи! Исчезни и никогда не вспоминай мою милость!
Испуганный шляхтич скатился с кровати, подхватил в охапку одежду и, как был нагим так и выскочил в указанную верной Малгожатой потайную дверь, скрытую за портьерой. Другая служанка Агнешка уже помогала госпоже одеть ночную рубашку. Катаржина быстро пересела за туалетный столик перед огромным венецианским зеркалом. Выпроводившая мимолетного любовника и успевшая вернуться Малгожата накинула на плечи принцессы голубую накидку из тончайшего шелка, отороченную драгоценными соболями, и взялась было за гребень, чтобы причесать госпожу, когда за спиной прозвучало:
– Его королевская милость, Сигизмунд Август!
Принцесса поспешно встала и повернулась к дверям. Служанки спрятались за ней.
– Твоя королевская милость… – Катаржина присела в реверансе и, склонив головку, почтительно приветствовала появившегося в дверях короля. Сигизмунд выглядел ужасно, обрюзгло и даже неряшливо. Нет, это не была вина камердинера или портного. Король словно нарочно сутулился, и великолепный дорогой наряд, исключительно подогнанный по фигуре, просто повис мешком. Осунувшееся лицо, тяжелые, с синевой мешки под глазами, потухший взгляд, заострившийся нос, плотно сжатые пересохшие губы свидетельствовали или о болезни или… длительном запое монарха.
Король с трудом переступил порог покоев принцессы, пошатнулся, но был тут же услужливо поддержан за локоть сопровождавшим его камердинером. Другой слуга успел подставить кресло, Сигизмунд тяжело опустился на сидение, разбросав длинные тощие руки по подлокотникам, и едва заметно махнул кистью на приветствие Катаржины.
– Сестра… – Он тяжело вздохнул, осмотрелся по сторонам, будто выискивая кого-то или чего-то в глубине покоев.
– Вина? – Догадалась Катаржина.
– Да! – Шевельнул головой король и нетерпеливо протянул руку.
Принцесса остановила строгим взглядом Агнешку, кинувшуюся было к столику, где виднелись серебряные бокалы и изящный высокий сосуд, подошла, налила вина, сама поднесла королю.
Сигизмунд жадно выхватил бокал из рук сестры и тут же опрокинул содержимое в рот. Вино пролилось рубиновыми струйками по усам, бороде, каплями сорвалось на золотистый камзол. Один из королевских слуг тотчас промокнул испачканную ткань батистовой салфеткой и бесшумно отступил назад.
– Боже, как он сдал. – Подумала принцесса, с жалостью рассматривая брата. – Так и не может оправиться после смерти Барбары.
Король показал жестом, чтобы ему налили еще. Катаржина нахмурилась, но, обернувшись к служанке, согласно качнула головой. Агнешка подхватила со столика сосуд, осторожно приблизилась к Сигизмунду и, стараясь не пролить ни капли, попыталась наполнить дрожавший в руке короля бокал. Катаржина, прикусив губу, наблюдала, как ее брат жадно смотрит на переливающуюся в его кубок темную жидкость. Не дождавшись, Сигизмунд торопливо поднес бокал ко рту, отчего вино пролилось на белоснежный турский ковер, и служанка испуганно посмотрела на госпожу, но Катаржина лишь повела бровью – убирайся! Уже успевший выпить и эту порцию вина Сигизмунд с сожалением проводил глазами исчезающую девушку, заодно уносящую интересующую его сейчас больше всего на свете живительную влагу, а после перевел умоляющий взгляд на сестру. Но Катаржина была непреклонна. Принцесса уселась на кровать, запахнула плотнее накидку и была готова слушать короля:
– Чем могу служить твоей королевской милости? – Она спросила, как можно ласковей. Сигизмунд вздохнул, повертел в руках пустую посудину – куда бы деть, коль больше не нальют, и отвел взгляд в сторону.
– Позвольте, ваше величество. – Вновь неслышно возник камердинер, ловко подставил ладонь, пальцы короля безвольно разжались, выпуская бокал.
– Ты выглядишь усталым, брат мой. – Снова подала голос Катаржина, подбадривая короля начать разговор. Пауза с вином затягивалась, а молчание Сигизмунда настораживало. Король последнее время почти не общался с сестрами. С Анной по понятной причине – она проживала в уединении от всего двора в Вильно, а не в Кракове. Не общался он и с Катаржиной. Сигизмунд ушел в себя, отрешился от света, хотя и принимал участие в каких-то церемониях и в рассмотрении наиболее важных государственных дел, но старался поскорее их завершить и удалится в свои покои. Он не участвовал в балах и празднествах, которыми теперь заправляла Катаржина, а потому и не упрекал сестру за многочисленных любовников. Его не интересовала ни собственная жена Екатерина Австрийская, на которой он женился по настоянию матери, (дались ей эти Габсбурги!) и это было последнее, чего сумела добиться Бона Сфорца, перед тем, как сын, переломив себя и не простив матери смерти своей возлюбленной Барбары Радзивилл, отправил шестидесятилетнюю женщину в изгнание. Впрочем, она и сама давно стремилась уехать, но Сигизмунд поставил условие – передать польской короне ее несметные богатства и земельные владения с замками, в противном случае он грозился разводом с навязанной ему женой и даже обратился в Рим, сославшись на то, что королева Екатерина его обманула со своей беременностью. Хоть папа и отказал Сигизмунду, но определенный компромисс с матерью был достигнут, и Бона Сфорца отправилась в Италию, в замок Бари, правда, прихватив с собой значительное количество богатств, да еще и ссудив испанского короля Филиппа II четырьмя сотнями тысяч золотых дукатов. Катаржине не нравилась нынешняя королева Екатерина и в этом она была согласна с братом. Неуклюжесть в танцах, безвкусные наряды, чрезмерная или показная, по мнению Катаржины, набожность, да еще и тяжелая массивная челюсть, свойственная всем этим Габсбургам, превращали королеву в явную дурнушку и вызывали насмешки принцессы. Сигизмунд был когда-то женат на старшей сестре Екатерины – Елизавете. Та выглядела получше, но зато страдала эпилепсией и скончалась в девятнадцать лет. После нее была Барбара Радзивилл, о которой так долго и безутешно тоскует братец. А мать ему снова навязала тоже семейство.