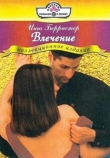Текст книги "Проклятие рода"
Автор книги: Алексей Шкваров
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 80 страниц)
Выздоровление сопровождалось поразительными внешними метаморфозами, происшедшими с ней. Казалось, серая морщинистая кожа, в которую превратилась ее плоть во время болезни, усугубленная нечеловеческими терзаниями души, должна была остаться с ней и превратить женщину в дряхлую старуху. Но, нет! Ее оболочка, озаренная внутренним светом надежды, любви и веры, под воздействием этих исцеляющих лучей вдруг разгладилась, приняла их на себя, не упругостью незрелого плода, а цветением женственности. Кожа стала мягкой и шелковистой, слегка потемневшей от солнца и воздуха, без малейшего прыщика, что когда-то портили ее, но и эта естественная смуглость оживлялась голубыми жилками, бившимися в такт исстрадавшемуся сердцу. Даже ее небольшая грудь вдруг наполнилась молочной спелостью, словно женщина вынашивала плод, и соски стали ощущать грубость прикасавшейся к ним материи.
Лишь тяжелые увечья, ее искривленная шея, ее движения при ходьбе, выдавали калеку. Всегда припухшие покрасневшие глаза говорили о вечном страдании. Но тело жило! И если б кто-то присмотрелся бы повнимательней, когда она останавливалась и застывала на месте, то обнаружил бы привлекательную совсем не старую женщину, слегка наклонившую голову в сторону, чтобы с любопытством, свойственным прекрасной половине человечества, взглянуть на заинтересовавший ее предмет или человека.
На пепелище, оставшееся от бывшей усадьбы Илвы, и ставшее, по сути, братской могилой ее матери, отчима и мужа, она зашла лишь однажды. Постояла, стараясь припомнить что-то хорошее, но не смогла. Чувств никаких не было. Одна пустота и горечь в душе.
Регулярное хождение в церковь приносило некоторое облегчение, но вид пастора, каждый раз виновато разводившего руками, вызывал недовольство собой. Все чаще и чаще Илва плакала от бессилия, присев на дальнюю скамью в глубине нефа. Нужно было что-то предпринимать, а что именно она не знала. Ее мысли постоянно вращались вокруг образа сына. Она даже представить себе не могла, как он выглядел сейчас. В ее памяти сын навсегда остался вихрастым двенадцатилетним мальчишкой, а ведь пройдет еще совсем немного времени и он вступит в тот же возраст, что и его отец, когда они познакомились с Иоганном. Господи, как давно это было… В ее ушах нежной музыкой журчали слова и лились слезы:
– О, как ты прекрасна, возлюбленная моя, как ты прекрасна… – Она вспоминала Иоганна часто, но даже в мыслях не могла представить возможность возвращения к нему. Это он оставался прекрасным и недосягаемым, а не она! Она никогда не была достойна его и не может быть прощена им… – Я знаю, он жив, но я умерла для него.
Здесь, в церкви, спрятавшись от посторонних глаз, можно было плакать, вспоминать всю свою прошлую беспутную жизнь и каяться, каяться, каяться…
– Может ли смерть матери быть искуплением за мои грехи? Нет! Свои грехи предстоит искупать мне самой, ибо Господь воздает каждому по делам его, но сохранив мне жизнь, Он назначил мне другое испытание, которое я должна пройти, ибо мои грехи превыше грехов моей матери. Что мать? Ее смерть лишь наказание мне за то, что предала того, кто истинно любил меня. А она? Любила меня? А я? Да, я любила ее и делала все, что она требовала, ибо сказано почитай мать свою… Она? Не мне судить! Она уже предстала и ей отвечать пред Высшим Судом…
Она вспомнила Барбро. В ее манере разговора, поведении, фигуре, в глазах, было нечто такое, что подавляло близких или тех, кто беднее, ниже, (хотя куда уж беднее их), заставляло подчиняться и исполнять ее волю. Она всегда и всех ругала – брата, третьего или четвертого по счету мужа Калле, Олле, ее… будто не было хороших людей ни в семье, ни в их Море, ни на всем белом свете.
– Но почему мать не пыталась выдать меня замуж? Почему вышвырнула, отправила на позорную дорогу? Ведь знала куда и к кому! Мешал лишний рот? Или она просто мешала матери? Или она могла бы меня оставить, чтоб я занималась здесь тем же ремеслом, но знала, что в маленькой Море незамужней девушке за это грозила высылка, битье плетьми и ношение позорного камня на шее? А в портовом Кальмаре… – Она вспомнила напутствия матери:
– В Кальмар поедешь! Устроишься служанкой у хорошей хозяйки. От кавалеров прохода не будет. Денег заработаешь, и мать прокормишь к старости.
– Хорошей хозяйки… – Она вспомнила мясистую, высоченную чистопородную немку Иоланту с лошадиной челюстью и крупными крепкими зубами, способными не то, что шею, бревно перекусить, встречавшую ее с хищной, плотоядной, оценивающей и одновременно презрительной усмешкой:
– Ну, ну… худа больно! – Были ее первые слова. – Придется постараться покрутить задом.
Сесиль, уже работавшая у нее и ставшая единственной подружкой Илвы, с хищными мелкими, как у хорька зубками, взгляд в сторону, лишь иногда, когда ей надо, то прямо в глаза, быстро все объяснила, что к чему и с кем, по какой цене и сколько нужно будет отдавать хозяйке. Она же и уговорила тогда обокрасть Иоганна и сбежать, пригрозила расправой, каким-то обвинением. Смеялась над ее слабыми возражениями:
– Это честная женщина может подняться после падения, мы же шлюхи с тобой, дорогая, падаем слишком низко.
– Но ты же сама… с морячком собралась…
– Как и ты с пастором! – Обрезала тогда Сесиль.
Мать деньгам обрадовалась, а как узнала, что дочь беременная, (Илва это обнаружила, только вернувшись), ругалась почем свет стоит, первым делом вытравить плод хотела… Андерса… Господи, спасибо тебе, что уберег от этого! За все грехи мои страшные Ты позволил выносить и родить сыночка! Тут холостой Олле подвернулся. Замуж пристроила.
– А если б у меня родилась дочь? – Вдруг пронзило. Смогла ли она толкнуть ее на тот же путь, что прошла сама? Нет! Хотя… кто знает… если б мать была жива, то вряд ли смогла противиться ее воле…
Она вспомнила про колдовство, о котором рассказывала Иоганну. Это тоже выдумка Барбро. Мать ей так и заявила, продумывая, как отправить дочку подальше:
– Сглаз на тебе! Точно знаю! Оттого и женихов не видать и замуж здесь не выйти! Надо уезжать тебе!
Илва поверила. Только слово «сглаз» ей не нравилось, вот и придумала красивую сказку про заколдованную девушку, которую спасет тот, кто ее полюбит. А тут Иоганн с его любовью… А она его? Любила? Тогда все воспринималось по-другому… Любовь это было лишь то, за чем приходили к девушкам в трактир, за что платили деньги… Деньги! Вот, о чем она думала тогда. О любви это он твердил постоянно. Ей же все то, что с ними происходило, представлялось… безумием. Любовь? Она произносила это слово, не задумываясь об истинном смысле. А сейчас? А сейчас об этом нечего думать… Кому она нужна? Иоганну? Предавшая его бывшая воровка и шлюха, превратившаяся в калеку? Преступившая все, что только можно преступить человеку в этой жизни? Еще неизвестно в чем ее обвинили там, в Кальмаре… может, ищут до сих пор, что отправить на виселицу или костер… такой конец был бы воздаянием по ее заслугам… Но пути Твои Господи неисповедимы, и Ты оставил ей жизнь… пока оставил… и еще что-то неведомое доселе, но волнующее поселилось в ее груди – желание думать, мечтать о Иоганне, приносить ему тысячу жертв, обожать его, не видя в глаза, но помня и храня его образ, отдавать каплю за каплей, поступиться чем угодно, забыть о самолюбии и следовать за ним мысленно, без его позволения и ведома. Теперь она боялась произнести это слово «любовь» даже в мыслях, ибо говоря ему: «Я люблю тебя…», она подразумевала совсем другое… ведь ничего подобного с ней тогда не происходило. Вспоминалось снова какое-то сказочное веселье, упоенье, наслаждение плоти, но сквозь время все казалась наполненным горечью предательства, неестественным и призрачным, растаявшим вместе со свечами в его храме, который она покинула, сбежав к матери. Сейчас все ощущалось по иному, отчего ее бросало в дрожь испуга и признаться самой себе в этом неведомом, осознать его, поверить в истинность собственных чувств не хватало сил, но и сопротивляться она тоже не могла. Опять эта проклятая Сесиль:
– Мы, шлюхи, падаем так низко, что уже не подняться!
– Вот я и упала, и смерть казалась мне желанной, но Бог дал сил, чтобы встать лишь для того, чтоб найти сына и поклониться в ноги Иоганну. О, с какой нежностью я бы сделала это…
Шла пятая осень, как Илва жила у аптекарской четы. Стоял ветряный в этом году мокрый сентябрь. Домочадцы пообедали, и аптекарь прочел короткую застольную молитву, означавшую, что все могут подниматься из-за стола. Илва начала было собирать посуду, но старик жестом попросил ее опуститься на стул.
– Ты снова начала много плакать, Агнес. – Тихо заговорил аптекарь. – Пока нам не удалось ничего узнать о судьбе твоего сына. – Она кособоко наклонилась, скрывая брызнувшие сразу слезы. – Но я припомнил последнюю ниточку… – На него с надеждой смотрело ее заплаканное лицо. – Англичане. – Старик покивал головой, погладил бороду. – С ними были англичане. Тот монах-доминиканец приезжал сюда под охраной нескольких английских солдат из личной гвардии короля Густава. Тебе нужно отправляться в Стокгольм и попытаться поговорить с кем-нибудь из них. Может кто-нибудь вспомнит… – Аптекарь выложил на стол небольшую кожаную мошну. – Здесь немного денег, при умеренной экономии тебе должно хватить их приблизительно на год. Не спорь! – Он грозно сдвинул брови, заметив, как она отчаянно пытается мотать головой. – Бери и поезжай! И пусть тебе поможет Бог! Он не может остаться безучастным…
Агнес медленно опустилась на пол, уткнулась лицом в колени старика и зарыдала. С другой стороны стола тихо плакала жена аптекаря.
Она проснулась. В некотором замешательстве и недоумении осмотрела помещение. Странным образом, оно напоминала ту самую комнату в доме аптекаря, только кровать была намного шире. Боже, она в доме у тех самых людей, которым она причинила столько горя, но их доброта и Божия милость помогли превозмочь справедливое отвращение, что они испытывали к ней. Ее впустили и приняли под кров, и обещали помочь. Господи, как она благодарна им и Ему! Это добрый знак, знак того, что она не зря осталась жить, знак того, что она на верном пути, что она обретет своего сына, чего бы это ей не стоило, …а может и не только сына…
Свернувшись клубочком на самом краешке кровати, она окинула взглядом ее необъятность, протянула из-под одеяла руку и погладила свежую несмятую простынь. Вдруг очень захотелось, затаив дыхание, словно боясь разбудить, осторожно коснуться теплого плеча… Сына? Или Иоганна? Не важно! Лишь бы своей любовью помогать им засыпать и пробуждаться!
Глава 4. Отец и сын.
Они ни разу не заговорили о матери с того самого дня, когда Провидение соединило Андерса с отцом в стокгольмской церкви. Известие о смерти матери потрясло мальчика, но радость обретения отца, о котором он грезил в мыслях и сновидениях, помогла превозмочь боль утраты. Отец! Он таким его и представлял – высоким, стройным, красивым, умным (в этом Андерс даже не сомневался). Теперь они не расставались ни на минуту. Иоганна, истосковавшегося в нерастраченной любви к некогда таинственно исчезнувшей из его жизни Илвы, всколыхнуло новое чувство. Сидя на палубе судна, переносившего их с Андерсом через Балтийское море, к Ливонскому берегу, к Московии, пастор обнимал его за худенькие плечи, укрывая от прохладной свежести ветра, и размышлял:
– Как хлеб и вино причастия пресуществляются в плоть и кровь Христову, (Боже прости меня, если сейчас я кощунствую), так и мои мечтания, молитвы, пожелания благ любимой женщины превратились в осязаемое живое существо – сына, плоть от плоти моей и ее.
Кто измерит чувство отцовской любви к сыну от той, которую он любил всей душой эти долгие годы, пройдя тернистый путь собственных страданий и бесконечных молитв к Творцу о прощении их грехов?
– Господь дал мне встретить ее на пути, Господь и взял ее от меня! Но Всемогущий милостив и преобразил мою любовь к женщине в сына, Своей Волей выведя его из утробы матери и тем самым пощадив всех. Даже если он и отнял жизнь Илвы, то он оставил ее нам с сыном, излив свой божественный свет любви, который открывает путь человеку по жизни!
Иоганн чувствовал свое родство с сыном не только по крови, но, и (это радовало его безмерно), по духу, по тяге к знаниям, к совершенствованию. Уже дома, в Новгороде, просмотрев привезенные Андерсом школьные тетрадки, отец с восторгом обнаружил, что сын не только прекрасно писал, (а значит, и читал) по-немецки, по-шведски, но знал основы латыни и арифметики. Поговорив с ним, Веттерман пришел еще в большее изумление. Андерс бы знаком со всем Катехизисом, Афанасьевским символом веры , прочел наизусть несколько басен Эзопа, умел спрягать и склонять по-латыни глаголы, знал степени сравнения.
– Половина латинской школы у тебя уже за плечами! Теперь дело за мной. Считай, что мы сразу с тобой окажемся в секунде или в приме и приступим к полному курсу тривиума, а от него уже шагнем к квадривиуму и все septem artes liberals нам покоряться, что откроет нам путь… Куда?
– Куда? – Восхищенно сверкали глазенки.
– В любой университет Европы, который поможет тебе стать богословом, врачом или юристом! Но ты будешь не просто учиться, ты будешь помогать мне!
– Помогать тебе? В чем? А что такое тривиум? А что мы еще будем изучать? Что такое семь искусств? – Тут же посыпались вопросы.
– Давай, по порядку. Тривиум это грамматика, диалектика и риторика. Смысл грамматики тебе объяснять не нужно, диалектика – это искусство логики, которое просто необходимо в любой дискуссии, риторика – искусство красноречия, ибо без этого не произнести ни одной речи в суде и не прочитать ни одной проповеди, так чтобы она словом Божьим достигла сердца и души человека. В отношении квадривиума – высшей ступени семи наук то назначение арифметики тебе понятно, геометрия нам необходима чтобы иметь представление о фигурах, из которых строятся здания христианских церквей, астрономия… о, астрономия… это взгляд в космос, во вселенную, бесконечность которой демонстрирует нам всю ничтожность человека перед волей и могуществом Творца, но она нам нужна в первую очередь для правильного исчисления всех праздников и пасхалий. Ну и, наконец, музыка, без которой наша церковная жизнь была бы намного скучнее. Мы усовершенствуем и отшлифуем твою латынь, перейдем к древнееврейскому и греческим языкам. Вместе будем изучать и славянский русский язык, раз уж нас занесла судьба в этот окраинный, но столь значимый город Московии, что его называют не иначе, как Господин Великий Новгород. Я уж начал его учить, но ты быстро меня нагонишь. Кстати, – Отец хитро подмигнул, – ты мне поможешь со шведским, я не так хорошо им владею, в отличие от тебя, сынок! – Андерс смущенно зарделся, но его любопытство было еще не удовлетворено:
– А еще какие науки? А в чем еще я смогу тебе помогать?
– Еще? – Веттерман наморщил лоб и принял серьезный вид. – А еще, сынок, я самостоятельно составляю требник, который содержит в себе все необходимые мне тексты богослужений. Это своего рода подсказка, потому что память человеческая не безгранична. Там есть напоминания о порядке крещения, благословения на брак, венчании и отпевании. Помимо этого, я записываю наиболее яркие подходящие фразы из библейских текстов для ободрения больных, умирающих, скорбящих, чтобы утешить их самыми лучшими словами нашего Господа, Святых Апостолов и пророков. Но кладезь богословских книг огромен и неиссякаем. Многое мы имеем уже на немецком и шведском языках, несоизмеримо больше на латыни, но абсолютно необъятно то, что написано на греческом, древнееврейском и арабском языках. Чем точнее мы сверимся с первоисточником, к примеру с древнееврейскими текстами, именно этим языком изъяснялись пророки, чем ближе подойдем к ним, правильно переведем, а потом передадим людям, тем быстрее до них снизойдет Слово Божье. Мудрость великих мыслителей древности позволит нам прикоснуться к самым заветным тайнам мироздания, созданного Творцом. Кроме познания скрытого, мы научимся у древних логике их мышления в соединении с библейской мудростью.
И они пошли вместе по сложнейшему, но интереснейшему пути познания. Лето сменялось осенью, наступала зима с неизбежной весной, а отец с сыном, не замечая этого, двигались вперед – от басен Эзопа к Цицерону, Плавту, Теренцию, Горацию, Ливию и Вергилию. Наряду с латынью шли греческий и древнееврейский языки. Не забывали о немецком и его диалектах – южном и северном. Аристотелевская этика, космография и церковная история, арифметика и геометрия, музыка и каллиграфия… Высунув язык от сосредоточенности, юноша старательно выводил готические буквы на темно-серой доске, что специально изготовил по просьбе пастора местный немецкий плотник, зато потом, в тетради, они получались красивее напечатанных.
Казалось, время текло монотонно и состояло лишь из учебы, церковных служб, да общения помимо отца с Эльзой, подслеповатой престарелой кухаркой из ливонских крестьян, что уже много лет хозяйствовала в пасторском доме. Сверстников Андерса почти не было на Немецком дворе. Дети рождались, но по достижению определенного возраста их родители предпочитали переправлять своих сыновей и дочерей на родину, поручая заботам родственников. Мальчику было тесно за высоким тыном Немецкой слободы, между церковью, купеческими жилыми домами, амбарами, пивоварней и мельницей. Пылкость и любознательность юности брала свое и манила шумом и людским гомоном улиц, отделенных забором. Отец иногда брал его с собой в город, показать внешнее благолепие новгородских храмов, (заходить внутрь им строжайше было запрещено), объяснял отличия в архитектуре, в исповедании веры. Они подолгу стояли задрав головы к небу, любуясь золотом куполов Св. Софии и наслаждаясь малиновым перезвоном. Они гуляли по мощеным досками улицам, заглядывали в ряды, лавки, приценивались к товарам, иногда что-то покупали, хотя все продукты пастор брал у своих немецких или шведских прихожан, но разве устоишь перед соблазном попробовать что-то выпеченное, вкусно пахнущее и такое аппетитное на вид, да когда еще так расхваливают и предлагают, как умеют это делать только ловкие новгородские лоточники. Андерс моментально перегнал отца в знании русского и совершенно свободно щебетал на этом певучем языке, беззастенчиво торгуясь за товар, если видел, что отец соблазнился тоже и готов его купить. Правда, Веттерман строго настрого запретил с самого начала уходить мальчику в город самостоятельно. Но, разве усмотришь за озорной юностью… Перемахнув через забор, мальчишка оказывался на Пробойной-Плотенской улице у церкви Иоанна Крестителя, моментально сливался с пестрой новгородской толпой, сворачивал на Ильину улицу – рукой подать до Волхова, и устремлялся туда, куда его влекло нескончаемое любопытство. При этом, хитрец, умудрялся где-то раздобыть шапку, полушубок или русский кафтан в зависимости от времени года, накинуть поверх своей одежды, становясь совершенно неотличимым от местных жителей – вылитый сынок купеческий.
– И что на это раз? – Строго спрашивал Веттерман по возвращению блудного сына. Тот сразу становился скуп на слова и выдавливал из себя, опустив глаза к долу:
– Кулачный бой на мосту смотрел…
– Ну и как? Кто там дрался? Кто победил на этот раз? – Голос отца уже звучал насмешливо. Глаза поднимались, блестели голубизной и опять утыкались в землю. Под нос себе бурчал:
– Людин с Плотницким . Я недолго. «Сам на сам» посмотрел, потом глянул, как стенки сошлись и назад. Далеко было, кто победил – не знаю.
– Андерс, – голос отца опять делался строгим, – ты сколько раз мне обещал… – Голова, с торчащие во все стороны волосами цвета спелой пшеницы удрученно опускалась ниже. – Я тебя когда-нибудь накажу! – А про себя думалось:
– Ну как я накажу этого любознательного и умного мальчишку с Божьей искрой в глазах и в голове? Ведь я так его люблю! – И вслух. – Андерс, обещай мне… – кивание и… снова:
– Что на это раз нас привлекло в городе? – Сопение. Потом ответ:
– Казнь была…
– Очень познавательное зрелище! – Отец разворачивался и уходил, давая понять, что разговаривать более не хочет и захочет ли в дальнейшем, по крайней мере, до вечера или даже до утра, не известно. Это было наказанием и означало, что Иоганн серьезно рассердился. Андерсу ничего не оставалось, как плестись за отцом и долго ходить за ним след в след, как собачонка, до тех пор, пока пастор не сменит гнев на милость. К счастью, обычно это происходило довольно быстро. Ну не мог, Иоганн долго на него сердиться!
Сколько лет прожил пастор в Новгороде, но постичь до конца суть народа, населявшего эти земли, ему не удавалось. Неведомое всегда настораживает, оттого и волновался каждый раз за сына. Веттерман интуитивно чувствовал немыслимую глубину и широту души этих русских, этой удивительной страны. Их противоречивость, тоску по чему-то несбыточному, с одновременными плачем и смехом, молитвами и руганью, благочестием и кулачными боями, радушием купцов и неприязнью православных священников к иноземцам, как к еретикам, неважно католикам или лютеранам, при собственной глубочайшей христианской религиозностью с одновременным почитанием языческих культов и обрядов. Искреннее преклонение перед нищими затворниками – уединившимися в тиши своих келий и пещер блаженными старцами, постигшими глубины человеческой души, охватившими сознанием все пространство жизни и смерти, увидевшими свой собственный внутренний божественный озаряющий мир человеческий свет и тем самым обретшие покой и свободу – к ним шли за советом, наставлением, духовным и телесным исцелением, или, наоборот, юродивыми, протискивающимися сквозь бурлящую, но неизменно расступающуюся перед ними толпу, полуголыми, покрытыми язвами и обвешанными тяжелыми проржавевшими веригами, с безумным взглядом полусумасшедших – полушутов, что-то бормочущих себе под нос, и каждое слово, произнесенное их беззубыми, похожими на кровоточащую рану, ртами, тут же подхватывалось, разносилось по улицам и площадям, многократно повторялось, заставляло людей оборачиваться к позолоченным крестам храмов, креститься и бить поклоны до земли. И все мгновенно забывалось, и весь народ уже глазел на совсем другое представление, откуда доносились похабные выкрики скоморохов, изображавших каких-то существ доселе неведомых пастору, но понятных и знакомых всем остальным. Здесь все было иносказательно, все было «тем, не знаю чем», но выражалось прибаутками с богомерзкой руганью, бесстыдно задранным подолом длинной рубахи, выставленными напоказ болтающимися мужскими достоинствами или оттопыренной голой задницей. Это вызывало всеобщее безумное веселье и смех толпы, напрочь забывавшей о святости. Никакого смущения никто не испытывал, хотя здесь было полно женщин, девиц и даже детей, напротив, толкали друг друга в бок, громко хохоча, обсуждали срамные части человеческого тела, показывали на них пальцами, которыми только что творили крестные знамения белокаменным церквам. В эти мгновения пастору казалось, что сами храмы куда-то исчезают, вытесняемые природой, в которой человек соседствует со странными существами, которых русские называли домовыми, кикиморами, лешими, но Веттерману они представлялись сродни мифологическим фавнам, сатирам, менадам, наполнявшим воздух своим дыханием, топотом, криками, визгами, сладострастными стонами, создавая ощущение полнокровного животного мира, находящегося в постоянном движении, мечущегося, но осмысленного и разделенного на добро и зло, не знающего стыда, призывающего к всеобщему совокуплению во имя продолжения рода. Все это создавало странное впечатление, с одной стороны глубокое и проникновенное, с другой поверхностное шутовское, балаганное, в целом противоречивое, взывающее одновременно к душе и к телу, к святой жизни и к пороку, к служению Богу и Мамоне , к стремлению на небеса и одновременному пожеланию жить сытно, вольно, богато.
Веттерман не видел перед собой города, в понимании Аристотеля, как лабиринта цивилизации. Новгород не представлялся ему городом и в христианском смысле, как, например, Вавилон, который должен рухнуть или небесный Иерусалим, который должен возникнуть. Христианство – религия, требующая книг, библиотек, богословских трудов, споров, диссертаций, шедевров искусства, культуры, а это все может быть сосредоточено лишь в городах, в университетах, в монастырях. Он ничего не слышал о витиеватых схоластических измышлениях русских богословов, на которые были так щедры отцы западной, да и восточной церкви до падения Византии. Казалось, Константинополь передал русским только свою веру и исчез, а они сохранили ее в первозданном, наивном, незамутненном, порой косноязычном виде, воплощенном лишь в молчаливой строгой архитектуре церквей, поставленных не для праздника души, а для раздумий и молитв. И даже почти поголовная грамотность новгородцев, письменность, обрекающая на осмысление близкого присутствия божественного мира, еще не разбудила в этих людях интеллектуального порыва, свойственного Риму, Византии или последователям Реформации. Даже она не в состоянии еще противиться духу природы, живущему этих людях.
При этом пастор понимал, что он стоит на краю Московии. Интуитивно он чувствовал, что там, вдали, за крепостными стенами Новгорода и до самой Москвы и дальше на восток, север, юг, лежит огромная и пустынная отрешенность полей и лесов, в которой и заключается бездонная русская душа. Она манила желанием познать и одновременно пугала своей бесконечностью. Отсюда и происходило его беспокойство за сына, окунающегося с головой в эту бездну непознанного.
Так и жили. Год за годом. Учеба совмещалась с регулярными службами в церкви Св. Петра, а свободными вечерами они уже вовсю бились в диспутах. Отец, обычно занимал место за столом, а его юный оппонент возвышался над пультом, и начинался словесный поединок, где громкие восклицания его участников иногда заставляли вздрагивать пожилую служанку, в вечернем полумраке кухни потихоньку копошившуюся со своими кастрюлями и горшками:
– Primum,…, secundum,…, tertium,… – Звучал звонкий, как выпады меча, голос.
– М-м-м, – слышалось глуховатое и недовольное, – в твоем силлогизме средний термин не является общим… – или, наоборот, одобрительное, – отлично выстроена композиция, сынок. Мне понравилось, как ты от contra перешел к pro ...
– А что ты скажешь на это? – звенел меч.
– То, что ты ловкий болтун, сынок! – Отбивался щитом и наносился ответный удар. – И подсовываешь мне софизм! Сравни вот это выражение: «Что ты не терял, то имеешь. Рога ты не терял. Значит, у тебя есть рога!», с тем, что ты пытался мне сейчас навязать! Ха-ха-ха…
Меч опускался, жалобно звякая, опускалась и голова:
– Сдаюсь, ты припер меня к стенке, отец…
– Просто я расставил тебе западню, сынок, а ты в нее попался. Но я и сам нарушил regula диспута, ergo , ничья! – Слышался примиряющий голос отца. – Как тебе этот силлогизм ?
Время пролетело незаметно. Пять лет, как Иоганн жил с сыном. Андерс вырос, вытянулся вровень с отцом, возмужал. Мягкий золотистый пушок укрыл щеки и подбородок. Лишь волосы, хоть и подстриженные аккуратно, под отца, по-прежнему топорщились неугомонными вихрами. Голос из звонкого мальчишечьего переломился в юношеский басок. В город он шастал по-прежнему, несмотря на отцовский запрет. Правда, теперь, сперва высказав свое недовольство сыном, пастор интересовался последними новостями. Время было неспокойное, хоть Москва и собиралась подтвердить все свои прежние договоренности со Швецией, но уверенности в незыблемости власти великой княгини Елены Глинской и малолетнего государя Ивана не было. Со дня день из Стокгольма ожидали прибытия посольства во главе с рыцарем Кнутом Андерссоном, направлявшееся в Москву продлить старую грамоту, договориться о межевании границ, торговле и прочем. А тут слухи разнеслись, что деверь правительницы Елены князь Андрей Старицкий против нее пошел, да к Новгороду поворачивал, прелестные письма вперед засылал, возмущал народ. За ним кинулся в погоню князь Иван Овчина-Телепнев, другой князь Оболенский – Никита к Новгороду вышел наперерез.
– Что слышно-то ныне? – Закончив сердиться, спрашивал отец. – Где князь Андрей?
– Сдался, говорят. – Махнул рукой Андерс. – А его детей боярских по новгородской дороге повесили за измену.
– Да-а-а, – задумчиво произнес пастор, – во всех странах одно и тоже… Нет на земле спокойствия. Московиты то с Литвой воюют, то с татарами. Хорошо у нас с ними мир. Но кто знает, как все может измениться, пошатнись власть в Москве.
– Новгородцы сторону Шуйских держат, – сын перешел на шепот, – наместник здешний, князь Борис Горбатов, в родстве с ними, за Андрея Старицкого им не с руки выступать было, обожглись на другом брате покойного царя Василия . Говорят, они и сами не прочь трон занят, дескать, не худороднее нынешних правителей.
– Все как в Швеции, сынок… сколько лет распря длилась… короли, регенты менялись… Слава Пресвятой Деве, что наш король Густав уже второй десяток лет правит, и здоровье у него отменное. Если б не мятежи, как в твоей родной Далекарлии…, – но осекся, продолжать дальше не стал, тема могла напомнить о смерти матери, а этого пастор не хотел. Берег сына.
Ни разу за эти годы в своих разговорах они не вспоминали мать. Иоганн по-прежнему в глубине души не мог примириться с известием о ее смерти и продолжал молиться о ней, как о живой. Вслух ее имя не произносилось. Но этот день приближался и, наконец, наступил и совпал с совершенно иным событием. В канун нового 1537 года из Москвы вернулось шведское посольство, которому было указано, что всеми делами русской державы на севере и западе ведают новгородские наместники, отчего грамоты следует подписывать с ними. Одновременно с посольством прибыла свежая почта из Стокгольма.
Андерс, стоя у пульта, завершал полугодовалый труд – по поручению он отца он составлял суммарий каждого псалма, пастор, удобно расположившись за столом, был занят чтением только что принесенного письма. Веттерман быстро пробежал глазами послание и торжествующе посмотрел на сына:
– Я могу тебя поздравить!
– С чем, отец?
Иоганн помахал бумагой и положил ее на стол, радостно разглаживая рукой:
– Ответ от магистра Олауса Петри из Стокгольма. Он сообщает о том, что его брат высокопреосвященный Лаврентиус, архиепископ Упсальский, зачисляет тебя в славный университет города Упсалы и сразу на богословский факультет. Конечно, это произойдет после экзаменов, которые ты, надеюсь и, могу сказать, я даже уверен, пройдешь без всякого труда. Господин Петри пишет, что ты можешь отправиться отсюда немедленно, вместе с королевской делегацией, по завершению их дел здесь в Новгороде. Я думаю, что это произойдет не раньше весны, когда вскроется море. Ты прекрасно подготовлен, чтобы в Упсале стать магистром и двинуться далее к докторской ступени знаний богословия. Я горжусь тобой, сынок! Эльза, – он крикнул служанке, отозвавшейся бренчанием посуды, – принеси нам вина. Отметим радостное известие!