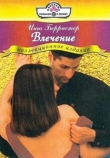Текст книги "Проклятие рода"
Автор книги: Алексей Шкваров
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 51 (всего у книги 80 страниц)
– Басурманин? С каких земель к нам прополз гадюкой? Ведь по мою душу пришли!
– Хуже, государь. Под пыткой вызнали – свои это. Православные.
– Нечто православный будет колокол благовестный рушить с колокольни, да еще на своего царя? Еретики токмо! Откуда ж взялись? С Твери, со Пскова, с Новгорода, с Рязани, аль с Москвы?
– Тот, что взят был и пытан – новгородский. Звонарем он служил н колоколенке.
– А-а-а! – Торжествующе вскричал Иоанн, скосил глаз на митрополита. Макарий стоял молча, опершись на посох. Ждал, что дальше поведает Глинский. – Остальные тоже с Новгорода?
– Вроде. – Сокрушенно покачал головой князь Юрий Васильевич. – Да немного, пес, успел сказать. Умер.
– Эх, вы, растяпы! – Лицо юного царя исказила гримаса досады. – С умом пытать надобно. Дознать – не дознали, почитай, казнили просто. И окромя себя, так таки не сказал? Кто главный вор и смутьян? Кто зачинщик? Сколь всего их было?
– Сказал. – Глинский тяжело вздохнул, шумно выдохнул, словно не решил – говорить еще или нет.
– Так говори! Что ты, дядя, как пес впустую брешешь? – Зло бросил ему Иоанн.
Зыркнул было Глинский на обиду племянничью, да стерпел, лишь подумал про себя: «Норов-то, Ванька крутой кажет. В сестру что ль? То ли еще будет…». Попутно вспомнил, как отдалила их, Глинских, от двора своего Елена Васильевна. Вслух иное сказал:
– Слышал ли, Иоанн Васильевич, о первой жене отца твоего, великого государя наша покойного Василия Ивановича, что была до матушки твоей? Соломония ее звали. Из Сабуровых рода. В монашестве – сестра София.
– Что с того? И где она ныне?
– Представилась в Суздальском Покровском монастыре, почитай лет пять назад.
– Не тяни, боярин! Какое мне дело о представившейся монашке?
Глинский не обратил внимания на горячность Иоанна, продолжал также неторопливо:
– Как постриглась она в канун свадьбы отца твоего, великого князя Всея Руси Василия Ивановича, с матушкой твоей, а моей сестрой покойной, царствие им небесное обоим, – перекрестился на иконы, – великой княгиней Еленой Васильевной, так слух прошел, что на следующий год родила Соломония – София мальчонку.
– Так! – Иоанн тетивой вытянулся, впился в подлокотники, вперед весь подался. Голос охрип мигом.
– После сообщили, что помер, дескать, младенец. Государь дьяков своих посылал, Федора Рака и Григория Путятина. Они ездили, расспросы учиняли, даже грех на душу приняли – вскрыли могилу… Токмо не было там никого! Посчитали, что умом тронулась София. Выдумала все, дабы великого князя разжалобить.
– Ну?
– Взятый тать показал, что не погиб тот мальчонка, а выкраден был из монастыря. Дьявол, прости Господи, видно ему способствовал, а ныне на Москве объявился. Кудеяром его кличут.
– Кудеяром? – Переспросил побледневший Иоанн.
– Да, по-татарски «богом любимый». Только брешут, поганые, не Богом, а чертом, прости Господи. – Юрий Васильевич вновь к иконам обернулся, перекрестился трижды, да молитву краткую прочел.
Воцарилось молчание. Иоанн погрузился в тяжкие думы. Остальные тоже не шевелились.
– Если правда все, что опальная княгиня родила, младенец спасся, выкрали, то кто отец-то его? А если чревата была от моего отца, то… – Страшная догадка пронзила юного царя. Иоанн даже вздрогнул весь, на мгновение представив глубокий колодец, что вел на Поганое болота и поджидающих там бесов. Ведь только здесь, на троне он царь, великий князь Всея Руси, а там, чем он лучше иных людишек, только хуже. Нет! Не может этого быть!
– Что скажешь, владыка? – Охрипшим голосом, почти с мольбой, спросил он Макария.
Митрополит пожал плечами:
– Один тать донес под пыткой… На огне не о том еще споешь. Да и тать ли то был? Звонаря Матвейку я давно знаю. Новгородец, что с того? Сразу в тати писать? – И язвительно Глинскому. – Ты бы, князь Юрий Васильевич, еще бы бабьи пересуды принес в палаты царские. Токмо из них и горшка каши не сваришь. Может ты сам, аль дьяки твои, вопросы нужные задавали, а звонарь головой на них кивал?
Глинский вспыхнул, хотел было ответить, но Макарий рта открыть не позволил:
– Ты бы остальных татей изловил сперва, допросил осторожненько, бережно пытая, не до смерти – казнить всегда успеешь. Народец бы московский поспрашивал, кто видел, что слышал, о чем разговоры ведут на торжищах, а уж опосля предстал бы пред светлые очи государевы. А то, – смешок послышался, – один тать под пыткой сказку рассказал, как в тридевятом царстве, на острове Буяне, родила монашка то ли дитя, то ли котенка, то ли ину зверушку, то ли жив, то ли мертв, то ли вовсе не было, но на Москве объявился самозванец тайный, никому не ведомый. Тьфу! Прости, Господи, раба твоего неразумного. – Перекрестился на иконы. – Ты себя сам-то слышал, князь, когда слово государю молвил?
Глинский кипел внутри, но в ответ сказать Макарию было нечего, вкруг выходило – прав владыка. На помощь дяде пришел племянник.
– Благовест-то тати уронили!
– Тати? Или тать, что умер в избе судебной? Ты, государь, Большой Благовест видел? Тысяча пудов в нем, не меньше. Сей колокол немчин один отлил при отце твоем. Уши у колокола видывал какие? Обломи попробуй! Может изъян был литейщика, а не звонаря мертвого? Ведь во время звона рухнул колокол, и ухо обломлено у него. А виновных сыскать и сказки рассказать – мы горазды!
– А с кем бились дети боярские? – Не отставал юный царь.
– Мало ли с кем и кто бьется на Москве. На Соборной площади боя не было. Иначе бы все попы видели. Как Благовест упал, толпа сбежалась поглазеть, а Матвейку – звонаря на Казенный двор поволокли.
– Твои попы, владыка, далее своего носа не видят. – Стал оправдываться Глинский. – Тати отбить его хотели в толпе, да не вышло. Короткая схватка была, после разбежались все. Или попы в той толпе то ж были, заместо службы воскресной? – Задал коварный вопрос, но Макарий отвернулся от него и промолчал.
Иоанн успокоился от рассудительных речей митрополита, хотя горечь сомнений поселилась в душе:
– Оставим толпу. Владыка прав, Юрий Васильевич. Давай, розыск учини полный и скорый. Людей не жалей! Бери сколько надобно и больше того. Изловить злодеев, если таковые имеются, и допросить. Но с пытками не переусердствуй!
– Да уже! – Глинский поднял и опустил плечи. – Всю Москву верх дном переворачиваем, наизнанку вытряхаем.
– Ищите! – Коротко бросил Иоанн. Подумав, добавил. – И грамоты вели принести мне. От тех дьяков, что по повелению моего отца в Суздаль ездили. Все речи расспросные. Самолично хочу прочесть!
– Будет сделано, великий государь! – Низко поклонился Глинский.
– Ступай тогда!
Дождавшись, когда за дядей затворят двери, Иоанн поднялся с трона, подошел к митрополиту.
– Прости, владыка, что забыл сесть предложить. Суматошно все. Давай посидим рядком. – Указал на скамейку возле окна, покрытую богато расшитым полавочником. Сам отошел к столу, взял черпальницу, налил стопу янтарного меда из серебряной ендовы, сам поднес ее владыке. Огоньки свечей отражались в драгоценной инкрустации посуды.
– Дивная работа! – Залюбовался митрополит стопой.
– Фряжская. – Иоанн уселся рядом с Макарием.
– За здоровье твое, великий государь! – Митрополит осушил стопу, вернул Иоанну. – А сам?
– Не хочу. – Мотнул головой юный царь.
– И то дело! – Макарий сложил руки на посохе, закрыл их бородой, пушистой, белой, как снег, от меда выпитого румянец проступил белизной подчеркнутый. – Царством править, государь, не забава. Женился – дело сделал великое, ныне – за наследниками черед, и жена твоя Анастасия, голубица чистая, красавица, горячими слезами просит Божью матерь за тебя, за род ваш царский. Господь не оставит молитвы. Одарит щедро. Люба жена тебе?
– Люба, владыка. Мы пешком с ней в Троице-Сергиеву лавру ходили, всю первую неделю поста там отмолились.
– А после? Вновь в дом свой, к жене своей, скоморохов, плясунов, сквернословцев приводил, погубляя всех домашних пуще древнего потопа? Не оные глумотворцы и плясцы, твое всё. Если б ты не хотел, оные не стали бы в доме твоем творить глумы! Сам бы не потешался над людьми. Красоту небесную не ищешь!
Молчал Иоанн.
– Что горьки упреки? Наше дело напоминать, пусть и словами кусательными, ваше дело – послушать. Не гневайся, что дерзнул говорить уста в уста. Все для твоего же спасения. Ну да помогу я тебе, соберу мастеров знатных, распишу заново все палаты царские, дабы лики святые отовсюду глядели, наставляли. Как тебе поп Сильвестр, протопоп Благовещенский, приглянулся?
– Добр. – Кивнул головой.
– То-то! Хорош поп. Жаль ожениться захотел, а то бы славный архипастырь из него бы вышел.
– Спаси Бог, тебя владыка! А скажи, что там было в Суздале? Ведаешь ведь?
– Это тебя ныне гложет? Пустое! – Усмехнулся Макарий. – Сколь лет минуло? Два десятка почитай. Власть Божья тоже ведь под искушением. Оттого людишки несут в помрачении скверну разную. Самозванцами себя творят.
– Так родила та самая монашка, аль нет?
– Тебе дядя твой грамоты принесет, прочтешь, сам осознаешь, что ничего не было!
– А не могли государевы дьяки обманом прельститься?
– Шило что ль утаить в мешке? В монастыре жила Соломония, люди вокруг. Умом тронулась бесплодная монашка, оттого привиделся младенец ей. Походила с поленом на руках, а после объявила, что помер. А может, люди надоумили, мол, хватит, хоронить пора. Подсказали – мертвый он. Дьяки могилу вскрывали, на святотатство шли, а ты, говоришь, обманом прельстились. За такой обман не токмо своей головой ответишь, всем родом своим, до десятого колена. Кто ж осмелиться! Розыск твой дядя проведет, сам узнаешь, откель слух взялся. Может не люди, а бояре распускают. О своем благочестии и любомудрии пекись, государь. Колокол упавший отольем заново, а казну новгородскую вернуть надобно!
– Да, владыка! Токмо к походу на Казань деньги надобны.
– То дело святое супротив агарян идти, дабы вся вселенная наполнилась Православием. Землицу подрайскую к рукам заодно прибрать. Для походов, государь, казна имеется. Пусть дума боярская думает, как наполнить ее. Заставь бояр! Через тебя Бог хочет все преступления закона исправить. Церковь Божия поможет, не сомневайся, токмо не с нее начинать надобно.
– Про дядьев моих, что скажешь, владыка? – Неожиданно спросил Иоанн.
– Про дядьев… – Повторил за ним митрополит. Бороду пригладил, усмехнулся. – Помнится, у матери твоей, царствие ей небесное, тоже дядя имелся… Михаилом, свет Васильевичем, как и твоего звали… Муж славный, воин отменный! Токмо в речах и мыслях не сдержанный. Посчитал, что править сам может, коль племянница юна, да вдова – дело после смерти батюшки твоего было. В острог отправился… далее мыслить о делах ныне скорбных и грешных.
– Мыслишь и моим туда дорога? – Быстро вставил Иоанн.
– Так уж и в острог… – Опять усмехнулся Макарий, но посерьезнел. – Воли им не давай, государь. Пусть о пользе радеют, а не о власти и мошне своей. Сказывал я тебе, повторю ныне, надо и еще с тыщу раз – не в знатности дело, не в родстве с тобой, в служении! Сколь раз бывало выходит войско, а главой его не тот, кто умнее, а тот, кто знатнее. Коль голова знатна, да дурна, беда лишь одна!
– Вот и Настюшка говорит: «Боюсь Глинских, боюсь бабушку твою Анну!».
– Ты, государь, жену люби свою, да уши лестью сладострастной не затыкай! За Анастасией твоей Захарьины стоят. За них, небось, хлопочет?
Царь кивнул головой.
– То-то. Род неплохой. Дядя ее покойный в великой чести был у отца твоего. Братья Настасьины кишкой потоньше будут, но забраться повыше Глинских мыслят. Оттого чрез жену твою к тебе стремятся. Отпихивать не надобно, но корысть свою государеву блюди. Помни, прежде чем ты брат, племянник, дядя иль шурин, ты государь всея Руси. Пусть Захарьины грызутся с Глинскими, то на пользу. Сильны в знати вольности прежние отъезжие. Не хочу, мол, служить своему государю, отъеду к другому. Мало их на Литву бегало, да обратно? О вотчинах своих более пекутся, нежели о царствии. Завистничают, местничают, от того распри – кто знатнее, кто богаче, кто к царю ближе. А что не по им – Литва подлая тут как тут, сманивает. Безродному – что? Служба! От нее почет, ласка царская, пожалования. Его родовая удельная спесь на сторону не тянет, о деле государевом печется. Но и о своих прибытках. Не без того. Даже холопа последнего кормить надобно, иначе сдохнет. А от дохлого польза токмо мух плодить! Как тебе, государь, Алешка Адашев глянулся?
– Глянулся. – Кивнул Иоанн. – Исправен во всем.
– То-то. Не знатен, а толков! – Митрополит хлопнул себя по коленке. – Ну, с Богом! Пойду я, сын мой. – Макарий поднялся с лавки, юный царь помог владыке. – Не провожай меня, государь. Дай благословлю тебя знамение крестным, да поцелую.
Оставшись в одиночестве, Иоанн подошел к окошку, выглянул наружу. Стемнело уже. Не видать никого.
– Эй, люди, Адашева ко мне! – Крикнул.
На зов явился Алексей Адашев. Иоанн поджидал его сидя на троне. Дал к руке приложиться, после молвил, в глаза пристально заглядывая. Адашев спокойно встретил царский взгляд:
– Взял я тебя Алешка из пыли!
– Да, великий государь! Велика честь служить тебе. – Еще раз поклонился Адашев.
– Велика… – Повторил за ним юный царь. – Хочу, чтоб помнил всегда об этом. Но не о том речь. Желаю, чтоб отныне ты начал ведать челобитными, чтобы сам принимал, разбирал, да мне, на мой царский суд выносил.
– Исполню, как велишь, великий государь. Дозволь еще слово молвить?
– Говори, не томись.
– Мысли многие в моей голове вертятся, как обустроить славнее государство твое, самим Богом тебе врученное.
Царь кивал, мол, давай, говори дальше.
– Да и не только в моей, мало ли голов толковых на Руси. По воинским делам Ивашка Пересветов челом бить хочет…
– Кто таков? – Иоанн перебил Адашева.
– Из литвинов православных. С десяток лет на службе тебе, великий государь. Зело полезное пишет. И другие то ж. Приказы учреждать надобно постоянные, не временные, дабы каждый боярин и дьяк своим делом занялся, на пользу государству нашему и тебе. Одни дворцовыми делами, другие казной, третьи воинскими, четвертые иноземными, пятые торговыми…
– Думаю, мне малую или избранную думу учинить. – Произнес Иоанн задумчиво. – Собрать в нее толковых, да не от знатности, от ума. Не супротив боярской, а рядом с ней. Тебя, да других верных в число. И заслушивали бы вы этих Ивашек, а после мне доносили.
– И я о том же, великий государь!
– Ну и славно. Думай, приходи, говори. До осени тебе сроку. Ступай, а я к царице вернусь в Воробьево, а то напугалась Настасьюшка, когда весть дурную о Благовесте упавшем принесли. Ждет меня с хорошими вестями. Ныне владыка Макарий сказал – новый колокол отольют. Вот и порадую жену молодую.
Глава 11. Воздвигну на них Зло!
На торг прогуляться выходили, снежок февральский притоптать, на девок поглазеть, себя показать, да послушать о чем толкуют. Гурьбой не шастали, все больше по двое, стражников обходили, как заметят, так и след простыл, в толпе растворились. Но торгу и новость услыхали – пока царь в Воробьево отъехал, колокол благовестный с колокольни рухнул. Народ обсуждал:
– Недобрый знак!
– То за бояр Глинских Господь карает!
– Звонаря Матвейку виноватили. Сказывали – запытали, ироды!
– Вот Глинские, чтоб им пусто было!
– Кудеяра ищут какого-то…
– Как же, найдут! Ищи ветра в поле, хоть всю землю перерой.
– Мало ли брешут на торгу? Может и не было никакого Кудеяра. Выдумки и пересуды бабьи.
– Нет! Точно есть! Казак он. С Дона!
– А по имени татарин.
– Сам ты татарин!
– Не с Дона, а с Новгорода!
– И что? Колокол обломил?
– Думал Глинские пойдут, а их, яко кара Божья, сверху накроет тыщей пудов медных.
– А после убег?
– То не ведомо никому!
– Не болтай, может и вовсе не было.
Болдырь переглядывался с Кудеяром, но вида не показывали. Слушали, да кивали. Купцы они, с товаром приехали, свой продали, иной присматривают. Оружие под полой спрятано, не видно никому. Хорошо зима, тулупы длинные.
Молодицу одну заприметил Кудеяр. Эх, и хороша! Стройна, черноглаза. Первый раз увидел, чуть было рот не открыл от красоты писаной. А она взглядом ожгла, улыбкой малиновой одарила, зубами жемчужными сверкнула, орешек ловко расколола, скорлупки сплюнула на ладошку, хохотнула и… в толпу. Покуда юноша опомнился, за ней метнулся, ан нет… исчезла бесследно. Думал о ней, вспоминал. Во снах к нему приходила, улыбалась, манила за собой, только на ноги вскочит… нет ее, исчезла. Сохнуть стал по ней. Потом много раз на торгу искал глазами, иных обогнать норовил, в лицо заглянуть, улыбались ему приветливо московские красавицы – да, не она!
А тут про колокол упавший слушал, скользил лениво по толпе взглядом, ан вон та девка, стоит себе опять орешки щелкает, да с сапожником о чем-то болтает. Ноги сами к ней понесли. Болдырь слова сказать не успел, как Кудеяр уже возле нее. Подошел со спины, прислушался.
– Товар хороший. Чистый сафьян. Свейский. – Расхваливал купец сапожки, что приглянулись молодице. – Десять алтын. Бери, не пожалеешь.
– Товар может и хороший, токмо не свейский. – Уверенно встрял Кудеяр.
Молодица мигом обернулась, снова ожгла взглядом, а у самой щечки зарделись, ямочками подмигнули. Губы полные открылись в улыбке, заиграли белизной зубов.
– Доподлинно знаешь, молодец, что не свейские сапожки? – Прищурилась девка, орех в рот закинула, хрясь, расколола, в кулачек скорлупки сплюнула.
– Да откудова ему знать! – Разошелся купчина. – Что он бывал в Стеколне ихней? Что встал, проваливай!
– Эй, ты, больно грозен, торговый, угомонись! Я бывал в Стекольне. – Послышался из-за спины голос Болдыря.
– Ты еще кто такой будешь? – Не сдавался купчина.
– Казак я с Дона!
– Все-то вы казаки ведаете, везде бывали! – Недоверчиво произнес торговец, но присмирел.
– А то? Брехать не научены.
Девица знай улыбается Кудеяру, то распахнет ресницы, то опустит. Вдруг протянула ладошку горсткой сложенную, а там орешки, и подмигнула задорно – угощайся, мол. Кудеяр руку подставил, пересыпала, своей накрыла, а пальцы тоненькие, запястье узкое, браслетик золотой болтается, парень вздрогнул весь, от прикосновенья женского словно искра соскочила. Молодица смехом залилась – колокольчики зазвенели. Смутился Кудеяр. Видя, как краска молодцу лицо залила, лукавница еще добавила:
– Коль знаешь все, так одари сапожками, иль не нажил добра еще?
Кудеяр тряхнул головой:
– Одарю, коль нравятся!
– Ловлю на слове. Сыщи токмо потом меня, молодец! Ждать буду! – И ручкой помахала на прощанье. Раз и нет ее. В толпе исчезла. Расстроился юноша, проводил лишь взглядом, да делать нечего, к купчине обернулся.
– Так сколь просишь?
Тот сдвинул шапку на затылок, лоб почесал, помедлив ответом, забегал глазами то на Болдыря, то на Кудеяра.
– Эх! – Махнул рукой. – За восемь отдам.
– Держи! – Кудеяр не торговался.
Купец перегнулся через прилавок, сапожки подал, да поманил к себе Кудеяра. Тот согнулся, купчина быстро шепнул ему на ухо:
– Бесплатно совет даю – держись от сей бабы подальше.
– Чего так? – Недоуменно спросил молодец. – Чем тебя девка-то напугала?
– Какая она тебе девка? По кике не видишь? Баба замужняя.
– И что с того?
– Не с того, а с кого! Дьяка Осеева жена. Иль не знаешь, кто на Казенном дворе заплечными делами ведает? – И громко. – Бери сапоги, да проваливай, парень!
– Вот те на… – Юноша совсем растерялся.
– Плюнь на бабу! – Обнял его за плечи Болдырь. Казак всегда и все слышал. – Нашел о чем кручиниться. Вижу, сильно она тебя глянулась, да сколь их еще на нашем веку встретится. Хоть православных, а на Волгу пойдем – басурманок найдем. Ох, и горячи они… – Зацокал языком.
Кудеяр мотнул головой, руку друга скинул, как бычок наклонился, двинулся вперед, ног под собою не чуя – как же все это? В толпу вломился, за угол торгового ряда завернул и… на жену Осеевскую налетел. Застыл с широко распахнутыми глазами. Поджидала. Сама шагнула вперед, обожгла дыханием горячим, зашептала торопливо:
– Завтра днем к церкви Благовещенья, что на Бережках, у подворья архиерейского, спроси дом Марфы Федоровой вдовы купеческой, то сестра моя.
Сапожки выдернула, в грудь толкнула, прикрикнула:
– Дай пройти-то! – И поминай, как звали. Опять исчезла.
– Ведьма! – Усмехнулся Болдырь, тут, как тут оказался. – Не иначе, ведьма! Пойдешь? – Опять все слышал прохиндей!
– Пойду! Люба она мне! – Признался.
– В петлю сам лезешь, парень! – Нахмурился казак, но не привыкший горевать подолгу, тут же расцвел улыбкой веселой. – А, валяй! Одна у нас смертушка! За волю, за бабу, все едино помирать! Пошли, еще пошатаемся, послушаем.
Ищеек и впрямь прибавилось. Болдырь не зря озирался. Приметил, за ними увязался один. Шепнул Кудеяру:
– Не оглядывайся. Мужичонка в треухе заячьем в пяти шагах больно часто посматривает. Проверить надобно. За угол сворачиваем.
Свернули. Болдырь к стен глухой прислонился, нож достал из-за голенища. В тот же миг мужичонка выскочил, да сходу и напоролся. Захрипел удивленно, оседать стал. Казак заботливо к стенке его прислонил, что ж ты так, родимый, шапку сбившуюся поправил, оглянулся – никто и не заметил, нож выдернул, о чужой тулуп вытер и в сапог.
– Пойдем, далее, парень!
Осеев хмуро слушал своего подьячего Постника Афиногенова, сидя вечером дома.
– Не сыскать тех татей, и того, Кудеяром нареченного. Народ разное говорит. Может и вовсе выдумка. Воров и без него хватает. Ныне опять одного нашего зарезали. Прям на торгу. Злой ныне народишка!
– Болтунов берите!
– Берем, батюшка, свет Степан Данилович, берем. Да токмо в толпе всегда опасно, отбить могут. Выжидаем, когда в сторонку отойдет.
– О своей шкуре печетесь более, чем о деле государевом! – Зло буркнул Осеев.
Подьячий потупился, возражать не стал. Подумав, спросил:
– А что те, которых взяли?
– Ничего! – Отрезал Степан Данилович. – Не твоего ума дело.
– Это понятно… – Опять склонил голову Постник.
– Ступай, давай. И лучше ройте. Всех пришлых особо.
– Торгует Москва, каждый день одни приходят, другие уходят. Торг не остановишь. – Подьячий развел руками.
– Моя б воля… – Начал было Осеев, да махнул рукой – иди, мол. Афиногенов исчез.
Паршиво было на душе у дьяка. Сколь людей наволокли, а без толку. Осеев сразу раскусывал, кто врет, оговаривает и себя и других, кто правду молвит. Только с дыбы у него никто живым не уходил, если на то особой воли не было, дабы не в клети пыточной умер, а на плахе или колесе при всем честном народе. По Кудеяру – пусто. А Глинский по два раза в день вопрошает.
– Ну? Поймал?
Поймаешь тут, как же. Один показал с Дона, другой – с Волги, третий и вовсе заявил, что он татарин, то ль с Крыма, то ль с Казани, четвертый – с Новгорода, пятый – с Литвы, шестой… Один говорит высокий, другой низкий, русый, чернявый, в рясе, в тулупе… Ах, махнул рукой.
Дверь скрипнула, жена показалась.
– Чего тебе? – Рявкнул.
Съежилась вся, тихонько обедать позвала.
– Где была сегодня?
– Обедню отстояла в Божьем доме, после чуточку по торгу прошлась.
– Ладно, жди. Сперва в божницу загляну, после трапезничать буду!
Добрался Кудеяр назавтра к церквушке указанной. Хоть и далековато, да ног не чуял под собой, словно крылья выросли. У старушки богомольной справился – тот ли храм.
– Он самый, родимый. Почитай сто лет, как возвел его владыка Ростовский Григорий. Вон и подворье ихнее.
– А дом Марфы Федоровой вдовы купеческой?
– Левее будет.
– Спаси Бог, бабушка! – Поклонился ей.
– И тебя, сынок! – Перекрестила старушка молодца.
Вот и забор заветный чернеет. Отыскал ворота, в них калитку, ткнулся – не заперто. Сухое дерево чуть скрипнуло, подалось легко. Лай собачий оглушил, но пес привязан, не опасен, пусть себе заливается. Притворил калитку за собой и к крыльцу по дорожке в снегу протоптанной. Дом добротный – хоромы, с подклетью и с повалушей, над горним ярусом. В правом окошке огонек мигает, знать, ждет кто-то в гридне. Сердце в груди мечется, стучит предвкушением любовным. Одна ступень, другая, пятая… прогибаются доски, на морозце поскрипывают. Дверь потянул на себя и внутрь, в сени, а там вправо – в горницу. Вот она, люба в сарафане малиновом, в рубахе, без кики, без платка, черная коса по плечу белоснежному сбегает, сидит себе на лавке, подле окошка, дожидается. Увидела, поднялась, на шею бросилась. Сладки ее губы, прохладны руки, упруга грудь, а жар любовный так и пышет сквозь ткань тонкую! Застонала от поцелуя первого, зашаталась, да Кудеяр удержал, подхватил на руки.
– Туда! – Шепнула чуть слышно, указала пальчиком на лестницу в повалушу, в одриню ведущую.
Стонала красавица, изгибалась телом, вся под его губы подставлялась, ответными поцелуями осыпала.
Солнце зимнее – весны предтеча заглядывало в окошко, осыпало золотом влюбленных. Белели тела на перине, ее голова на груди молодецкой покоилась, глаза полузакрыты, разметались волосы смолянистые, искорками в лучах переливаясь. Перебирал Кудеяр их пальцами ласково, подносил к лицу, вдыхал запах пряный. А она лежала, словно подстреленная птица.
– Как же звать тебя, любушка, ласточка моя нежная? Ведь как увидел тебя в первый раз, сон потерял, а как засыпал, наяву вновь тебя зрел.
– Полюбил? – Распахнула ресницы, чуть подняла голову, в лицо посмотрела, а у самой огоньки лукавые заплясали в глазах.
– Больше жизни! – Признался юноша.
Вздохнула, снова прижалась покрепче.
– И я тебя сразу заприметила. Потом долго ходила, почитай каждый день, нет и нет, сокола моего ясного. А Господь сподобил, свел таки нас! – Вдруг поднялась резко, села, в глаза заглянула. – Ты что обо мне мыслишь – блудная баба, мол?
– Нет.
– И правильно! Ты – мой единственный грех. Ждала, наделась и верила, молилась грешно, дабы Господь любовь мне послал. Пусть такую, пусть даже блудную, но за которую и помереть не боязно, ибо не может любовь чистая блудом быть. Слезами, молитвами, отмою все за нас с тобой пред Божьей Матерью.
Покачал головой, протянул руку, откинул волосы, провел по щеке ласково, по шее лебединой, скользнул к грудям белым, к соскам девичьим, младенческими губам не тронутые. Упала молодица на него, впилась губами в уста сахарные, вновь окунулись оба в омут любовный.
– Так кто ж ты, любовь моя? – Спросил снова, едва отдышавшись. – Как величать тебя, звезда незакатная? Отчего не говоришь? Да и мое имя не спрашиваешь? Знаю, что жена ты мужняя, да что с того, коль люба мне! Так как зовут, мой василек лазоревый?
– Откель узнал? – Встрепенулась. Села у ног его.
– Про что?
– Про василек?
– Так цветок ведь… А ты его краше!
– Матушка покойная меня так звала… Да и сестрица Марфуша часто вспоминает. Василиса я. – Опустила голову. – Дьяка Осеева жена. – Произнесла глухо, взор отведя в сторону.
– Что с того, что Осеева?
– Ты будто не знаешь? Не верю! – Встряхнула волосами, взглядом скользнула и увела опять, чуть слышный стон сорвался, губу закусила. – Вся Москва его, хуже пожаров боится.
– Мне то, что бояться? – Приподнялся, обнял, прижал к себе. Нежно касались ее пальчики груди молодецкой.
– Крест какой на тебе! Прям, золотом сияет, словно царский.
– Он и есть золотой.
– Откуда у тебя?
– От матери.
– Знатна, богата видно матушка?
– Была. Да в монастыре представилась.
– Княгиня, боярыня?
Промолчал в ответ.
– Значит и ты? А по виду на боярина не похож. И про мужа моего не ведаешь?
– Так я и не боярин! – Рассмеялся.
– А меч зачем носишь? Не боярин, не воин, может тать? Да не похож ты на лихого человека!
– А я и не лихой! – Опять засмеялся.
Взял ее ручку, стал пальчики тонкие целовать. Между поцелуями спросил. – Что ж не хочешь знать, как меня-то зовут?
– Не хочу! – Решительно тряхнула головой. – Боюсь беду накликать!
– На кого? – Удивился Кудеяр.
– Да на тебя, вестимо. Со мной она давно уже рядом живет. – Вдруг зарыдала в голос, покатились слезы горючие, капали на грудь молодецкую, крест обливали. Гладил Кудеяр плечи вздрагивающие, прижимал к себе, успокаивал. Проплакавшись, пояснила дрожащим голосом, словно дитя виноватое. – Долго ж я тебя ждала, солнце мое красное, камышек самоцветный. «С кем согрешила?» – муж спросит. А я и не знаю. – Развела ручками. – И под пыткой сказать будет нечего. В том и радость любви моей безымянной к тебе, молодец!
Толкнула его, соскочила с постели, выпрямилась во всей нагой красоте своей, словно купалась в лучах солнечных. Слезки непросохшие адамантами вспыхнули.
– Давай! Подниматься пора нам. День зимний короток, как и счастье наше. – Подхватила рубаху на пол брошенную, промокнула лицо, одеваться стала. – Уходи первый! А я с Марфушей чуток посижу и тоже пойду.
– Что-то не приметил я никакой Марфуши… – Подмигнул ей Кудеяр.
– Затаилась она. Грех мой не одобряет, но сестра ведь, знает и про долю мою незавидную.
Молодец медлил сказать – не сказать.
– Зачем про пытку вспомнила? – Усмехнулся грустно. – Коль что – скажи правду. Меня Юрием кличут, а прозвище – Кудеяр. С меня спрос будет. Только я в обиду тебя не дам!
Василису словно молнией ударило от его слов. Ноги подкосились, рухнула подрубленной березкой на колени. С ужасом смотрела на любимого. Зашептала, как в горячке.
– Господи, Пресвятая Богородица, говорила же я, что беда всегда подле меня, вот и накликала дура грешная! Сокол ты мой темноглазый, ищут ведь тебя везде, землю токмо не роют. Муж вчера был, я спросила осторожненько, снедь на стол подавая, когда мол снова ждать хозяина в дом, а он в ответ – «Вора наиглавнейшего ищем, крамольника царского, Кудеяром зовут. Не слыхала, – спрашивал, – когда по торжищу бродишь, мужнины деньги тратишь, никто ничего не обмолвился?» «Нет, – говорю, – не слышала. А в чем грех-то этого Кудеяра?» Он возьми, да проговорись самую малость. – «Самозванец, вор он. За сына Соломонии Сабуровой себя выдает, первой жены князя Василия – отца государя нашего Иоанна» А после – «Цыц, баба, язык вырву, коль узнаю, что сболтнула! Что вор – всем ведомо. А про Сабурову – дело тайное, царское. Смотри у меня!» Теперь и мне понятно, что за крест у тебя на груди, молодец… Пусть язык мой усохнет, пусть уши закроются, пусть стану немой и глухой, одним лишь сердцем любить тебя буду! Милый мой, на беду нашу общую тебя я встретила… – Зарыдала опять, в перину уткнувшись.
– Что ж ты, любушка, как по покойным нам плачешь? Живые покудова, я пред тобой, ты предо мной. Сижу, глажу тебя, волосы шелковые перебираю…
– А хочешь, – вскочила вдруг, словно обезумев, в плечи вцепилась, ногти впились в кожу, – отравлю ирода своего старого – невелик грех, на нем их столько, что Господу угодно будет. Сбежим с Москвы проклятой, куда захочешь, на остров зеленый, посреди моря-окияна, бабушка мне сказку сказывала, есть такой, и не живет на нем никто, одни звери – птицы ручные, лето круглый год, жить будем там, любиться, детишек рожать…