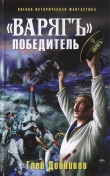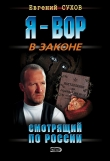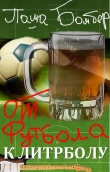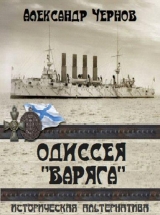
Текст книги "Одиссея "Варяга""
Автор книги: Александр Чернов
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 102 страниц)
Сначала "Мару", привлеченный идущими со стороны Японии двумя кораблями с башенной артиллерией, пошел навстречу "своему" отряду. [55]55
Все русские броненосцы с таким расположение артиллерии были заперты в Порт-Артуре. Из находившихся во Владивостоке крейсеров орудийными башнями мог похвастаться только «Богатырь». Так что ошибку японского командира можно понять и простить.
[Закрыть]Но с полусотни кабельтовых сигнальщик разглядел «Варяга», некстати высунувшегося из-за «Мари-Анны», за которой он до этого пытался прятаться. После недолгой, но бурной дискуссии, начавшейся с пожелания сигнальщику не пить перед вахтой, с листанием справочников Джейна и поминанием демонов и некстати воскресших из пучины моря русских крейсеров, командир решил не рисковать. «Америка-Мару» развернулся и дал полный ход. Дружный залп с «Корейца» и «Сунгари», казалось, только добавил японцу прыти, ибо ни один их трех крупнокалиберных снарядов не лег ближе полумили от цели. Вслед пытающемуся уйти пароходу, выдавшему порядка девятнадцати узлов при заклепанных предохранительных клапанах на котлах, дружно застучали шестидюймовки «Варяга». За час погони «Варяг» приблизился на шесть кабельтовых и добился одного попадания. Казалось, что к его боевому счету можно будет добавить еще одну жертву, но фортуна, наконец, перестала играть в одни ворота. На горизонте за гарибальдийцами показались чьи-то дымы, и преследование пришлось прекратить...
Вечером в кают-компании "Варяга" собралось изрядно поредевшее по сравнению с последним сбором, имевшим место быть еще до захвата призов, офицерское собрание. Кто-то сейчас вел во Владивосток "Оклахому", кто-то страдал от нехватки сна на гарибальдийцах, пытаясь быть в пяти местах одновременно, а кто-то просто нес ходовую вахту на мостике. К утру, если не случится неизбежных на море случайностей, крейсер должен был подойти на расстояние, позволяющее связаться с Владивостоком по радио. После ужина мичман Балк попросил гитару у записного корабельного певца Эйлера. Господа офицеры, привычно заулыбавшись, стали ожидать очередной шутки Балка, с некоторых пор прочно занявшего неофициальное, но почетное место корабельного балагура. Помнится, неделю назад кают-компания имела пару дней относительного безделья, когда гарибальдийцев еще только ждали, Балк всех немало повеселил пиратской песенкой... И теперь общество было готово снова грохотать кружками по столу в такт песне и дружно подтягивать полюбившееся – "эй, налейте, дьяволы, налейте, или вы поссоритесь со мною".
Но в этот раз намерения мичмана были немного иными. Первые аккорды, спокойные и размеренные, не слишком отличались от стиля песен, знакомых публике начала XX-го века...
Средь оплывших свечей и вечерних молитв,
Средь военных трофеев и мирных костров,
Жили книжные дети, не знавшие битв,
Изнывая от детских своих катастроф.
Глаза Руднева, в последнее время ставшего, вопреки старой традиции русского флота, регулярным поситителем подобных посиделок, против чего никто не возражал, недоуменно вскинулись, потом он непонятно отчего нахмурился и почему-то пристально вперился взглядом в Балка (Петрович судорожно пытался припомнить текст слышанной когда-то песни уважаемого, но не слишком любимого автора, и оценить его на предмет соответствия духу времени и исторических несоответствий). Балк тем временем, неожиданно для ожидающих чего-то веселенького слушателей, перешел на совершенно чуждый времени ритм и звучание.
Детям вечно досаден
Их возраст и быт -
И дрались мы до ссадин,
До смертных обид.
Но одежды латали
Нам матери в срок,
Мы же книги глотали,
Пьянея от строк.
Липли волосы нам на вспотевшие лбы,
И сосало под ложечкой сладко от фраз.
И кружил наши головы запах борьбы,
Со страниц пожелтевших слетая на нас.
И пытались постичь -
Мы, не знавшие войн,
За воинственный клич
Принимавшие вой, -
Тайну слова «приказ»,
Назначенье границ,
Смысл атаки и лязг
Боевых колесниц.
Слушатели уже поняли, что их ожидания несколько не оправдались, но песня, столь непохожая на все слышанное до сих пор, тем не менее захватывала. К счастью для офицеров «Варяга», они слушали не оригинальное исполнение, а несколько приглаженный для начала века вариант. Не столь хриплый и резкий.
А в кипящих котлах прежних боен и смут
Столько пищи для маленьких наших мозгов!
Мы на роли предателей, трусов, иуд
В детских играх своих назначали врагов.
И злодея следам
Не давали остыть,
И прекраснейших дам
Обещали любить;
И, друзей успокоив
И ближних любя,
Мы на роли героев
Вводили себя.
На лицах нескольких слушателей появились понимающие улыбки. Действительно, и для многих из них путь в море начинался со страниц прочитанных в детстве книг. Песня, столь странно и чуждо звучащая, все же была про них. Это они сейчас были на своей первой войне, а все, что было до, это все же детство и юность.
Только в грезы нельзя насовсем убежать:
Краткий век у забав – столько боли вокруг!
Попытайся ладони у мертвых разжать
И оружье принять из натруженных рук.
Испытай, завладев
Еще теплым мечом,
И доспехи надев, -
Что почем, что почем!
Испытай, кто ты – трус
Иль избранник судьбы,
И попробуй на вкус
Настоящей борьбы.
И когда рядом рухнет израненный друг
И над первой потерей ты взвоешь, скорбя,
И когда ты без кожи останешься вдруг
Оттого, что убили – его, не тебя,
Мичман Губонин отчего-то часто заморгал и поспешно отвернулся в угол. Только теперь Вадик вспомнил, насколько он был дружен с покойным ныне Александром Шиллингом и как изменился после боя, став более замкнутым и резким как с подчиненными, так и с другими офицерами.
Ты поймешь, что узнал,
Отличил, отыскал
По оскалу забрал -
Это смерти оскал! -
Ложь и зло, – погляди,
Как их лица грубы,
И всегда позади -
Воронье и гробы!
Если путь прорубая отцовским мечом
Ты соленые слезы на ус намотал,
Если в жарком бою испытал, что почем, -
Значит, нужные книги ты в детстве читал!
Если мяса с ножа
Ты не ел ни куска,
Если руки сложа
Наблюдал свысока,
И в борьбу не вступил
С подлецом, палачом -
Значит, в жизни ты был
Ни при чем, ни при чем!
Совершенно неправильное, по всем музыкальным канонам начала века, резкое и грубое окончание песни как гвоздем вбило основную мысль в уши слушателей. Притихшие и задумчивые офицеры разошлись по каютам, а Балка уволок к себе разъяренный Руднев.
– Ты бы хоть предупреждал! Ну и нафига? Тебе что, неймется? Славы первого абордажника российского парового флота тебе мало, подавай еще и ярлык главного барда страны?
– Да ладно тебе, нормальная песня. Никаких анахронизмов нет. Почему нельзя-то?
– Стиль никак в эту эпоху не вписывается. Понимаешь? Еще пара таких выступлений, и попалишь ты нас Василий, чует мое сердце.
Как будто отзываясь на слова капитана, в дверь осторожно постучали.
– Кто там? – Тоном, подразумевающим "кого еще черт принес", спросил Руднев. Черт, как ни странно, принес корабельного священника, отца Михаила. Войдя и плотно притворив за собой дверь, отец Михаил с минуту молча смотрел в глаза то Балку, то Рудневу, собираясь с мыслями и явно не зная, с чего начать разговор. Потом, наконец, выпалил.
– Господа, простите, но кто вы?
– Отец Михаил, простите, но я не понимаю вопроса. – Выразительно посмотрев на Балка, ответил Руднев.
– Судя по тому, что я каждое утро вижу в зеркале, я – Всеволод Федорович Руднев. А это – мичман Василий Александрович Балк, которого, я надеюсь, за героический абордаж его величество произведет в лейтенанты. Если сомневаетесь, можете по последней моде Петербуржского полицмейстерства, Скотланд-Ярда и лично Шерлока Холмса проверить наши отпечатки пальцев. – С очаровательной улыбкой сообщил священнику Руднев.
– Ну, про отпечатки пальцев я не в курсе, Всеволод Федорович. Но вот отпечаток души у вас как-то подозрительно изменился. Я достаточно давно знаю и Руднева, и Балка, вы не они. Не мог Балк, не отличающийся особым слухом и никогда ничего в жизни не сочинивший, сам придумать эти песни. Не верю я, и что Руднев мог без приказа из-под шпица самовольно пойти на абордаж кораблей под британским флагом. У вас желания исповедаться случайно не возникало в последнее время?
– Батюшка, поверьте, если я исповедуюсь, то вы или меня в желтый дом сдать захотите, или святой водой кропить станете. Может, все же не стоит?
– Всеволод Федорович, а и мне тоже терять нечего. Боюсь, по возвращению в Россию меня святой Синод все одно сана лишит.
– Это-то еще почему? – Встрял в разговор необычно примолкший Балк, сразу же заработавший очередное зыркание командира.
– Ну, так как же, господа! Я же командовал стрельбой из орудия. А как сказано "Ибо если кто погибнет от руки твоей, будешь извергут из сана". Так-то вот. Но и не помочь раненному матросу, из последних сил напрягающемуся, чтобы перекричать шум боя, было бы не по-христиански. Одна из тех ситуаций, когда что не сделай, все не верно.
– Ну, во-первых, вы не командовали, а только увеличивали громкость данных, выдаваемых канониром, да и вряд ли та пушка хоть раз куда попала с таким наведением, так что никто от вашей руки не погиб. Это я вам как артиллерист гарантирую.
– А сие старцев из Синода интересовать не будет. Намерение сиречь действие.
– Ну, я вообще никогда не понимал, как можно благословлять людей на совершение того, что сам делать не можешь или не хочешь. [56]56
Балк практически дословно цитирует Хайнлайна, «Звездная пехота». Наверное, читал в детстве, фраза понравилась и запомнилась.
[Закрыть]А как же Пересвет с Ослябей? Я не про броненосцы, а про...
– Юноша, не вам мне рассказывать, кто такие были Пересвет с Ослябей, поверьте. Они, в отличие от меня, были иноками, монахами, то есть не рукоположенными. А я совершил то, чего не имел права делать. А про благословение на бой... Ну, не нами заведено, не нам и менять. Хотя точка зрения ваша своей оригинальностью только подтверждает мои подозрения. Так как же насчет исповеди?
Наконец, Руднева, а вернее, его Карпышевскую составляющую, проняло. В конце концов, рано или поздно круг посвященных придется расширять, так почему бы не начать с батюшки? Особенно если он сам столь активно напрашивается на роль подопытного кролика для отработки методики вербовки сторонников. Уж лучше перед беседой с адмиралами и самолично Императором потренироваться на кроли... Гм. На батюшках.
– Ну, вы сами напросились, отец Михаил. Только попытайтесь поверить, козни дьявола тут не при чем, и я не сошел с ума. Все, что я вам расскажу, правда, хотя и весьма невероятная. Верить моему рассказу или посчитать, что я спятил от перенапряжения – ваш выбор. Потом вам "исповедуется" Балк, если захотите. А пока он выйдет и подождет снаружи, чтобы вы не подумали, что мы сговорились. Василий, я сказал выйдет, а не станет за спиной отца Михаила на предмет физического решения возможных осложнений.
Смущенно пожав плечами, Балк, неведомо как оказавшийся за спиной отца Михаила, вышел в коридор, оставив, однако, дверь слегка приоткрытой.
– Потом вы выслушаете и его историю, и там уже сами решайте, что к чему. Итак. Я родился 15 сентября 1981 года...
Спустя три часа отец Михаил, отягощенный невероятными рассказами двух своих духовных подопечных, отправился в свою каюту, где и провел в размышлениях бессонную ночь. Даже если поверить рассказу Балка и Руднева, к чему он к утру склонился, ибо рассказанное было слишком бредово для вымысла и слишком разумно для бреда сумасшедшего (если вообще два человека могут бредить одинаково), непонятно было, что теперь с этой правдой делать.
Глава 3. Не ждали...
Владивосток. 19 – 21 февраля 1904 года.
Утром 19 февраля во Владивостоке началось совместное собрание командования Отряда крейсеров, накануне вернувшегося из похода, гарнизона крепости, береговой обороны и руководства порта. Сие мало управляемое сборище в очередной раз пыталось прийти к единому взгляду на стратегию и тактику ведения крейсерской войны, но как всегда, действовать все предпочитали по методу «лебедя, рака и щуки».
Неразбериха в головах усугублялась шквалом телеграмм, полученных из штаба наместника и из столицы в последние сутки. Первым пришел вполне понятный и по-своему логичный приказ от Алексеева: "В связи с переводом в Порт-Артур Николая Карловича Рейценштейна, начальником отряда крейсеров назначается Карл Петрович Иессен, который немедленно выезжает из Порт-Артура во Владивосток".
Многие и на берегу, и на кораблях, посчитали это его решение чуть-ли не скорой и неправедной опалой Рейценштейна, вызванной неудачей первого боевого выхода. Но долго обсуждать вопрос о том столь ли уж велика была личная вина начальника отряда в том, что из-за намерзания льда в орудийных стволах, он приказал прервать операцию и возвращаться в базу, офицерам не пришлось.
Принесенные с телеграфа очередные срочные депеши, причем поступившие непосредственно из Петербурга, многие восприняли как явную несуразицу. Началось все с телеграммы капитула Ордена Святого Георгия на имя Гаупта. В которой на него возлагалось проведение мероприятий по награждению офицеров Орденами 4 степени и знаками их отличия, сиречь Георгиевскими крестами, нижних чинов. Согласно Указа Императора от 11 числа.
Когда начальник над портом ознакомился с самим Указом, то минут на пять форменно лишился дара речи. Ибо в нем шла речь о награждении экипажей "Варяга", "Корейца", находившихся на крейсере моряков с "Севастополя" и еще каких-то казаков, так же участвовавших в деле у Чемульпо. Кого награждать-то, спрашивается, и где, если оба корабля лежат на дне?! Выжившие с "Корейца" сейчас на борту французского крейсера, а немногие уцелевшие с "Варяга" все переранены и лечатся сейчас в госпитале Шанхая...
Осторожное предположение штабных о том, что может быть, в Петербурге в курсе, и что "Паскаль", возможно, идет во Владивосток, вызвало у Гаупта приступ бешенства. "А это ЧТО, по вашему? Здесь же – ВСЕ!" И действительно, список награжденных явно включал в себя всех, кто был на этих двух кораблях во время боя. Само по себе, это было понятно и справедливо, но зачем вручать награды покойникам? И главное – как??? Орденский капитул сам с этим, и с пенсиями семьям, кстати, разбираться должен!
Следующая телеграмма, подписанная Авеланом, вызвала у читавших ее новый приступ недоумения: "За действия по потоплению "Асамы", капитану 1 ранга Всеволоду Федоровичу Рудневу присвоено звание "контр-адмирал" с 28 января 1904 года"... Какая разница, каким числом, если он погиб вместе с "Варягом"?
А что, черт возьми, может означать телеграмма "внимательно следить за сигналами с моря" подписанная императорским флигель-адьютантом? Может быть Его Величество решил самолично покомандовать флотом на Дальнем Востоке... из Петербурга!? Зачем, наконец, телеграфисты полдня потели, принимая и перепроверяя таблицы стрельбы десяти– и восьмимидюймовых орудий системы Армстронга, которых отродясь не было не только во Владивостоке, но и вообще в русском флоте? Для чего ГМШ требует "рассмотреть вопрос о возможности размещения дополнительных 1000 человек экипажей"? Экипажей чего? Под шпицем и в Зимнем явно чудили...
****
Долгое и нудное препирательство тянулось уже часа два. Армейские офицеры дружно требовали все ресурсы бросить на обеспечение противодесантной обороны Приморья, а командиры крейсеров снова рвались в море, побегать на коммуникациях японцев, как будто не только что вернулись ни с чем, а потом сутки «выпаривали» лед из хоботов своих длинных пушек под откровенное хихиканье смекнувших что к чему армейцев. Портовое начальство осаживая жаждавших реабилитации моряков, указывало на недостаток запасов угля и слабость ремонтной базы. На это «крейсерские» справедливо возражали, что по их расчетом расхода угля вполне хватит на три месяца интенсивных операций, что идет война, и заниматься перестраховкой сейчас недопустимо, что...
Но тут взаимное "вынесение мозгов" сторонников наступательной и оборонительной тактик было неожиданно прервано вбежавшим в залу мичманом с "России":
– Господа! У нас на радиотелеграфе уже с полчаса, как кто-то упорно требует выслать лоцмана для проводки в порт через минные поля...
– И кто же это может быть, японцы?! Дождались-таки?! – сразу же взвился командир армейского гарнизона.
– А может, какой угольщик мимо японцев прорвался? – С надеждой в голосе на грядущие рейды предположил командир "Громобоя" каперанг Дабич.
– Вряд-ли, Николай Дмитриевич, – отметая излишний оптимизм коллеги, скептически скривился командир "России" Арнаутов, – Чтобы купец и вдруг с телеграфом... Вряд-ли... Что еще в этих телеграммах интересного, мичман?
Запыхавшийся Орлов 2-й пожал плечами:
– Шифр наш, однако, господа, творится что-то весьма непонятное. Половина отметок от станции типа Попова-Дюкрете, что мы используем. Вторая половина – явно от Маркони, то есть вроде как японцы, они еще не все "Телефункеном" заменили. Но самое странное, что подписаны телеграммы "Варягом" и "Корейцем"! Чего уж никак быть не может...
Поскольку далее обсуждать новость смысла уже не было, всем кораблям, частям и подразделениям флота и армии была немедленно объявлена боевая тревога. После чего, под аккомпонимент возбужденных восклицаний, сдерживаемой ругани, и грохота пары опрокинутых стульев, дружно сорвавшись с мест господа генералы, капитаны и адмиралы кинулись приводить Владивосток и флот в боевую готовность для отражения атаки коварного врага.
Ближе к обеду, когда орудия береговых батарей и крейсеров ВОКа были заряжены и наведены в сторону моря, на горизонте показались дымки, а потом и силуэты четырех кораблей. Все это время с моря шли истошные просьбы, приказы, а позже и угрозы с одним смыслом – вышлите на миноносце, или хоть на чем, лоцмана. Но никто в крепости не хотел брать на себя ответственность за выходящие за рамки обыденности действия, и телеграммы одна за другой оставались без ответа.
Постояв с четверть часа в виду крепости, корабли медленно в строе кильватера потянулись в строну входа в пролив Босфор Восточный. Первым шел незнакомый коммерческий пароход. Что происходило на его мостике с берега пока было не рассмотеть. А жаль. Сцена, разыгравшаяся там, была достойна лучшего спектакля театра мимики и жеста. На продолжавшиеся минут десять отчаянные вопли, жестикуляцию, подпрыгивания и вращения глазами капитана "Мари-Анны", доказывавшего, что он вовсе не подписывался идти первым по минному заграждению, Балк, досмотрев все представление до конца, с невозмутимой улыбкой ответствовал, что русские, как настоящие джентльмены, всегда пропускают дам вперед. Тем паче культурных и благовоспитанных иностранок. Так что "Мари-Анне" придется идти первой. А вот шлюпки за борт лучше вывесить сразу. Мало ли что.
В крейсере, идущем за пароходом, после уменьшения дистанции до шести миль наблюдатели на острове Русском опознали... "Варяга"! Но вот за "Варягом"... В нашем флоте не было ничего похожего. Хотя эта парочка явно итальянской постройки и шла под Андреевским флагом, тут чувствовался какой-то подвох. Артиллеристы были готовы открыть огонь, как только дистанция сократится до сорока кабельтовых. Дальше орудия крепости ну, не то чтобы совсем не могли стрелять, снаряды бы долетели, проблемы были с попаданиями. А также с тем, что никто в мирное время не учился вести огонь на такие дистанции.
Как будто зная об этом, впрочем, "как-будто" в случае с Петровичем можно опустить, неизвестные корабли нагло отдали якоря в пяти с половиной милях от берега, на траверзе острова Скрыплева. Один из них отстучал очередную телеграмму... Матрос, принесший ее со станции телеграфа "Рюрика" на мостик, оказался из грамотных. Этот вывод напрашивался сам собой, поскольку он старательно, но безуспешно пытался сдержать неподобающую ухмылку. Лица офицеров, читавших и молча передававших друг другу бумагу, слегка краснели. Общее мнение выразил командир крейсера Трусов:
– Похоже, это все же не японцы, господа. Так могут лаяться только наши, этому научиться нельзя. Это у нас врожденное. Да-с...
Почему-то подлинного текста сего занятного документа для истории не сохранилось. Даже журналы приема телеграмм на станциях радиотелеграфа Владивостока и крейсеров каким-то загадочным образом потеряли страницы, на которых она была записана. Но со слов очевидцев, если опустить особо крепкие выражения, из которых она состояла на девять десятых, смысл ее сводился к следующему: "просьба тугодумам из крепости Владивосток не стрелять еще с полчаса, выхожу на катере для опознания. Руднев". Действительно, с одного из броненосных крейсеров спустили паровой катер, он подобрал кого-то с борта "Варяга" и побежал к берегу, бойко лавируя между льдинами.
Через сорок минут на Адмиральской пристани, вырываясь из объятий галдящих офицеров, смущенный Руднев пытался отдавать приказания о вводе в порт его кораблей, о необходимости приведения в готовность сухого дока и скорейшей постановки в него "Варяга", о неизбежном набеге Камимуры и мерах по его отражению, но его никто не слушал. Его и прибывших с ним офицеров на руках отнесли в офицерское собрание, а навстречу кораблям его отряда бросились два номерных миноносца, которые развели пары для атаки японцев, но теперь выполняли более приятную роль почетного эскорта.
Часа через четыре, уже в сумерках, когда "Варяг" и оба его броненосных трофея заняли при помощи "Надежного", наконец, свои места на рейдовых бочках, а их команды почти в полном составе промаршировав перед высоким флотским начальством и собравшимся по радостному поводу городским бомондом, выстроились на берегу у Николаевских Триумфальных ворот, перед ними выступил слегка пьяный Руднев.
– Господа офицеры, братцы матросы, и Вы, лихие наши казаки-абордажники! Мы с вами совершили то, что сделать было практически невозможно. Мы не только сократили линейный флот японцам на три корабля, мы еще и увеличили наш, русский, на парочку. Поквитались с ними за "Ретвизана" с "Цесаревичем", которых они у Артура подбили подлой ночной атакой без объявления войны. Будут впредь знать макаки косоглазые, как с нами драться! Мордой для того не вышли! Ну, что, Орлы, настучим им еще по сопатке?
Насладившись яростно-веселым ревом одобрения вырвавшимся из нескольких сотен глоток, Петрович поднял руку, прерывая волеизъявление познавших вкус победы воинов. После чего продолжил:
– Спасибо Вам, друзья мои, и земной поклон! Я лично от всех нас поблагодарю Его Императорское Величество за награды, к которым Он представил каждого участника нашего похода. А пока отпускаю всех, за исключением сокращенной дежурной вахты, на берег! На два дня! И попрошу господ командиров в свой срок вахтенным так же эти два дня предоставить. Но глядите у меня, чтоб послезавтра ввечеру всем как огурчикам быть! Это – приказ!
А если хоть в каком кабаке, ресторане или борделе вам хоть кто-то заикнется про деньги, я прикажу разнести этот гадючник из главного калибра, который вы своими руками подарили Матушке-России! Разойдись и гуляй, ребята!
С громогласным "Ура!!!" моряки, и братцы и благородия, сломав строй бросились сначала качать своего командира, что, однако из-за раны последнего, пришлось быстро прекратить, а потом волной растеклись по злачным местам города. Рестораны и салоны для господ офицеров, кабаки и дома попроще для матросов и кондукторов...
В следующие двое суток японцы могли брать Владивосток силами одного батальона. Ибо трезвых военнослужащих в городе практически не было.
****
Февральское утро выдалось пасмурным. Мелкая снежная крупа навязчиво лезла в лицо, сыпалась под ноги, делая замерзшую после недавней оттепели брусчатку предательски скользкой. Свежий ветер развел на рейде небольшую волну, не давая припою сковать его темную воду, покрытую клецками наломанных ледоколом льдин. Стоящие на бочках Золотого Рога крейсера и пароходы лениво покачивались, всем своим видом навевая тоску. Далеко, на самом входном фарватере ломая тонкий, всего-то трехвершковый лед, медленно ползал и нещадно дымил портовый трудяга «Надежный».
Весьма элегантного вида господин, одетый в светло-коричневое драповое пальто и безукоризненный отутюженный серый в клеточку костюм явно не местного производства, прогуливался по набережной, время от времени посматривая в сторону моря. Господин имел темные, зачесанные назад волосы, крупный нос с горбинкой, резко выпяченную нижнюю губу и колючий взгляд выпуклых черных глаз.
Через некоторое время он зашел в ресторацию Самсонова, что на Светланской. В сей ранний час здесь оказался только один посетитель – пожилой, сгорбленный, но аккуратно одетый китаец.
– Здравствуйте! Простите великодушно, что прерываю вашу трапезу, – произнес обращаясь к нему незнакомец, сопровождая свои слова вежливым полупоклоном, – Вы ли будете мастер Ляо?
– Да, меня зовут Ляо, да-а... старый Ляо. – старичок мелко закивал.
– Позвольте представиться – дон Педро Рамирез, журналист из Бразилии. Я слышал о Вас... И хотел бы заказать пошив плаща. Зима заканчивается... И вас отлично отрекомендовали.
– Вам лучше обратиться к подмастерьям моего заведения, сам-то я кройкой и шитьем уже не занимаюсь, рука не та и глаза почти не видят...
– Всенепременнейше обращусь, благодарствуйте! – произнес дон Рамирез.
– Хотя, впрочем, завтракать я уже закончил, так что пойдемте ко мне, и я лично прослежу за выполнением вашего заказа, – рассудил старичок.
– Буду весьма вам признателен.
Китаец подозвал официанта, расплатился по счету и направился к выходу из ресторации. Дон Педро последовал за ним.
– Вы, по-видимому, приезжий, благоприятна ли была ваша дорога? Удобно ли вы устроились в нашем прекрасном городе? – интересовался старичок.
– Третьего дня прибыл из Харбина, поселился в доходном доме на улице Семеновской, окна с видом на Транссибирскую магистраль, очень удобно, спасибо.
Мирно беседуя, они подошли к заведению Ляо, и прошли в его кабинет на втором этаже. Бразилец сел в кресло, поправил складку брюк, выставив носки и новенькие туфли.
– А теперь раздевайтесь, будем снимать мерку! – суетился старый Ляо.
– Прекратите, Хаттори-сан. [57]57
Фуццо Хаттори (1868 – ?) был одним из лучших воспитанников тайного общества «Геньеса», («Черный океан»). Происходил из небогатой многодетной семьи. Его отец работал на военном складе в порту Иокосука. Мальчик обладал незаурядными способностями, и у него была феноменальная память. Он проявил такое прилежание к учебе, что им заинтересовался сам Митсуру Тояма. Хаттори принял идеи общества и принес присягу на верность «Черному океану». Она заканчивалась следующими словами: «Если я предам организацию, то пусть будут прокляты мои предки и меня ждет в аду геенна огненная!» Ему было 17 лет, когда он был принят в специальную разведывательную школу в Саппоро, в Южной Японии. После ее окончания Хаттори в роли коммивояжера стал ездить в Шанхай и Монголию. Это было за несколько лет до Японо-китайской войны. Он выучил местные диалекты, часто посещал селения кочевников и заодно изучал расположение военных укреплений, состояние дорог, записывал мнения местных вождей по поводу политики и особенно то, что говорили в народе. Он многое запомнил и, вернувшись в Ханькоу, представил подробный отчет руководству спецслужбы.
В 1898 г. Хаттори поехал во Владивосток с целью организовать сеть японской разведывательной службы на территории российского Дальнего Востока. В это время начиналось активное строительство Транссибирской железнодорожной магистрали, и много японских разведчиков, прошедших подготовку в спецшколе в Саппоро, прибыли в этот регион России. Во Владивостоке существовала школа японской борьбы, которую весьма охотно посещали русские офицеры. Хаттори организовал для них интимный отдых, а гейши, ублажая офицеров, собирали у них нужную информацию. Несколько публичных домов с той же целью было создано им в Порт-Артуре. В Хабаровске Хаттори также организовал глубоко законспирированную разведывательную сеть, агенты которой работали в штабе военного округа и высших органах гражданского управления российского Дальнего Востока. С этого времени Маньчжурия и Дальний Восток стали для японского Генерального штаба открытой книгой. Успехи Хаттори были настолько очевидны, что он стал примером для подражания, национальным героем нескольких поколений японских разведчиков.
[Закрыть]Вы, конечно, более чем убедительны, вам бы на театре играть, но не стоит увлекаться. Мне вот интересно, вы хорошо спрятали настоящего Ляо? – спокойно осведомился дон Педро.
Старик распрямился, его горб чудесным образом исчез, лицо разгладилось, седой парик он положил на стол рядом с собой, теперь никто не дал бы ему больше сорока лет. В узких кругах тай-са Фуццо Хаттори имел хорошую репутацию. В том смысле, что только самоубийца желал бы заиметь его себе во враги. Он тонко усмехнулся:
– В свое время на все вопросы будут даны ответы. Ответ, полученный несвоевременно, не дает удовлетворения.
– Молчание – это способ говорить неправду, – парировал гость.
– Молчание и есть молчание. Оно – золото. А язык он "дан человеку, чтобы скрывать свои мысли". Что привело вас во Владивосток, друг мой?
– Я собирался отправиться пароходом в Лондон, но не успел. Началось... У русских могут быть вопросы ко мне, – поморщился бразилец.
– Еще бы, недавно мы с вами весьма плодотворно... пообщались, – улыбнулся Хаттори.
– Быть может, вы захотите продолжить взаимовыгодное сотрудничество... Пока нет оказии с рейсом, господин Ляо?
– Это было бы весьма кстати... синьор Рамирез. У нас ведь есть общие интересы.
Они скрепили договор рукопожатием.
– В другое время я бы трижды подумал, но здесь и сейчас ваши способности могут пригодиться – война началась неблагоприятно, – прокомментировал японец.
– Я бы так не сказал – японский флот имеет некоторые очевидные преимущества.
– Опытный личный состав, а также количество, тоннаж и вооружение судов имеют существенное значение, но все войны в истории выигрывались в первую очередь за счет ума, мужества и силы духа. Вспомните Чемульпо!
– Но, в конце концов, вы же потопили "Варяга", – возразил дон Педро.
– Потопили "Варяг"?! Но разве это победа! – возмутился японец, – Вы, кажется, любите шахматы? Русские не просто разменяли две свои пешки на две наши, но приобрели выигрыш в качестве и темпе. Они заранее все подготовили, специально убрали из Чемульпо свои "лишние" корабли, чтобы не спугнуть нашу эскадру. Удивлять противника – это наша профессия. Но так получается, что и капитана Руднева тоже. До самого последнего момента он и его люди изображали беспечность, а потом за несколько часов подготовили свои корабли к бою! Так не бывает, и Руднев не мог действовать в одиночку. Видимо, Старк и Алексеев давно готовили этот капкан, подбирали подходящие корабли, готовили людей, но ни мы, ни вы, при всей нашей с вами осведомленности, ничего об этом не знали. Скорее всего, у русских есть общество, подобное нашему "Черному Дракону". Теперь нам опасно быть в чем-то уверенными – все полученные разведданные могут быть дезинформацией.
– Но в Порт-Артуре ваши миноносцы сработали вполне удачно.
– Опять вы не правы! Не удалось утопить ни одного корабля, и это при массированной и внезапной атаке? Я считаю, что русские подозревали о такой возможности и приняли все необходимые меры. Например, приказ Алексеева о запрете постановки противоминных сетей, скорее всего, прикрытие, и предназначен для нас с вами – судя по результату атаки, сети все же были установлены. Мы же... мы даже точно не знали, находится эскадра в Артуре или в Дальнем.
Я не сомневаюсь, что русские действуют по заранее разработанным планам. И они знают о нас все, что им необходимо. Теперь я почти уверен, что у них есть осведомители в командовании нашего флота... или даже еще выше. Самое отвратительное то, что ни мы, ни ваша хваленная СИС, до последнего времени просто не принимали всерьез такую возможность.
– Возможно, им помогли французы... – задумчиво пробормотал "бразилец".
– Адмирал Уриу виновен не в том, что сунулся в ловушку – он не мог ее миновать. Его вина в недооценке противника. Впрочем, возможно я не совсем справедлив, ведь его дезинформировал коммодор Бейли, АНГЛИЙСКИЙ коммодор Бейли, ВАШ коммодор Бейли, мистер...