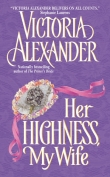Текст книги "Весь Роберт Маккаммон в одном томе. Компиляция (СИ)"
Автор книги: Роберт Рик МакКаммон
Жанр:
Боевая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 117 (всего у книги 387 страниц)
Приближалось время появления лорда Корнбери, и в зале заседаний Сити-холла сначала стало людно, потом тесно, потом битком. Мэтью, занявший место в третьем ряду между магистратом Пауэрсом слева и сахароторговцем Соломоном Талли справа, с большим интересом наблюдал, как вливается людской поток. По желтым сосновым половицам шагали и самые прославленные, и самые печально знаменитые персонажи Нью-Йорка, и всех их заливал золотой полуденный свет из высоких многостворчатых окон, будто Сити-холл соперничал с церковью Троицы в блаженном принятии добрых, злых и случайно попавших под раздачу.
Вот важно шагают первые коммерсанты города, уверенно стуча каблуками по половицам, раздвигая толпу. Вот фланируют владельцы мастерских и хозяева складов, рвущиеся занять место среди больших воротил, вот пробираются адвокаты и врачи, показывая, что тоже ищут света признания, а вот мельники и содержатели таверн, морские капитаны и ремесленники, метельщики, плотники и пекари, сапожники, портные и цирюльники, те, кто толкает, и те, кого толкают, человеческая волна, выплеснувшаяся с улицы и сдавленная здесь плечом к плечу на скамьях и в проходе, а за ней – человеческая пробка, застрявшая в дверях и стиснутая так, что шевельнуться там труднее, чем Эбенезеру Грудеру у позорного столба. И все эти персонажи, как понял сейчас Мэтью, после ленча направились домой, вытащили из шкафов и сундуков лучшие свои павлиньи перья, чтобы встать между такими же павлинами в буйстве красок, причудливых фасонов, кружевных рубашек с манжетами, камзолов любых оттенков от морской зелени до винной темной густоты, треуголок с завернутыми полями – не только респектабельно черных, но и красных, синих, даже ядовито-желтых, расшитых сюртуков и чулок, башмаков на толстой пробковой подошве, от которой среднего роста мужчины становились высокими, а высокие едва ли не опрокидывались, резных тростей из ясеня, черного дерева или каштана с золотыми и серебряными набалдашниками и прочих модных аксессуаров, что должны определять джентльмена.
Воистину карнавал. Приветственный рев, выкрики, чтобы привлечь внимание, смех, слышный отсюда аж в Филадельфии – зал заседаний быстро приобрел черты вечерней субботней таверны, еще более усугубившиеся количеством закуренных трубок и приличным числом черных кубинских сигар толщиной с кулак, привезенных недавно из Индий. Очень скоро дым заклубился в лучах солнца, и стоящим с большими веерами невольникам работы хватало.
– Как смотрятся? – спросил Соломон Талли, и Мэтью с Пауэрсом повернулись к нему – он широко улыбался, показывая ярко-белый ряд резцов.
– Прекрасно смотрятся, – ответил магистрат. – Насколько я понимаю, они стоят небольшого состояния?
– А то? Нужны бы они мне были, если бы нет?
Талли был полным и крепким мужчиной чуть за пятьдесят, лицо у него было в глубоких морщинах, но с пухлыми щеками и здоровым румянцем. Он тоже сегодня вырядился – в светло-голубой сюртук и треуголку, жилет с темно-синими и зелеными полосами, а цепочка купленных в Лондоне часов свисала, поблескивая, из оттопыренного кармана.
– Думаю, что вряд ли, – ответил Пауэрс, поддерживая разговор, хотя и он, и Мэтью знали, что мистер Талли, столь дружелюбный и столь щедрый на общественное благо, вскоре перейдет от разговора к бахвальству.
– Лучшее и только лучшее – вот мой девиз! – как и ожидалось, понесся Талли. – Я так сказал: давайте мне самое лучшее, и плевать на цену. Вот это я получил. Слоновая кость прямо из Африки, а пружинки и железки сделаны в Цюрихе.
– Понимаю, – кивнул магистрат. У него начинали слезиться глаза от дыма.
– Да, у них очень дорогой вид, – подтвердил Мэтью. – Я бы даже сказал, богатый.
Надо было признать, что искусственные зубы несколько укрепили лицо мистера Талли, которое начало проседать в районе рта из-за неудачного набора уже сгнивших, полученных от Господа. Талли всего два дня как вернулся из Англии со своим новым приобретением и справедливо гордился комплиментами, от которых просто сиял.
– Богатый, точно! – Талли улыбнулся еще шире. Мэтью показалось, что даже пружинка щелкнула. – И уж не сомневайтесь, молодой человек, качество у них первосортное. Зачем вообще что-нибудь нужно, если оно не первосортное, я вас спрашиваю? Да, и приладили тоже по первому классу. Хотите посмотреть?
Он наклонил голову и растянул рот еще шире, чтобы Мэтью было видно, но, к счастью, в этот момент одна из немногих женщин, явившихся на собрание, прошла через раздавшуюся толпу – чудо Красного моря, – и Талли повернулся посмотреть, почему вдруг так все затихло.
Мадам Полли Блоссом была, как и Красное море, силой природы. Высокая и красивая блондинка слегка за тридцать, с решительным подбородком и ясными голубыми глазами, она любого мужчину видела насквозь до самого бумажника. Под мышкой она держала свернутый зонтик, на голове у нее был ярко-желтый чепец, плотно завязанный под подбородком синей лентой. Серебристо-голубой роброн был покрыт, по ее обычаю, вышитыми цветами ярко-зеленой и бледно-зеленой расцветки, лимонно-желтыми и розовыми. Всегда элегантная леди, подумал Мэтью, если не считать черных ботинок с металлическими оковками на носках. Говорили, что она может перебравшему клиенту дать такого пинка в зад, что он без парома попадает на остров Ричмонд.
Под пыханье трубок и жадные взгляды галерки, обрадованной новым зрелищем, Полли Блоссом уверенным шагом прошла ко второму ряду справа и остановилась, глядя сверху вниз на джентльменов, занимающих скамью. Все лица отвернулись от нее, никто не говорил ни слова. Но леди Блоссом ждала, и Мэтью хотя не видел ее лица, был уверен, что красота ее стала несколько тверже. И наконец юный Роберт Деверик, юноша восемнадцати лет, желая, очевидно, показать, что вежливость по отношению к дамам всегда в моде, встал с места. Тут же старый Пеннфорд Деверик поймал сына за руку и стрельнул в него таким взглядом, что будь это пистолет, он бы вышиб юнцу мозги. Сие событие породило расходящийся водоворот шепотов и на пике волны – несколько злобных смешков. Юноша со свежим лицом, одетый в черный полосатый сюртук и жилет – такой же, как у преуспевающего отца, разрывался между собственной галантностью и семейной дисциплиной, однако когда Деверик-старший прошипел: «Сядь!» – решение пришло само. Молодой человек отвел глаза от мадам Блоссом и с пылающими щеками опустился на сиденье во власть сурового родителя.
Но тут же на сцене возник новый герой. Хозяин «С рыси на галоп», крупный и седобородый Феликс Садбери в старом коричневом сюртуке, встал в четвертом ряду и грациозным жестом предложил находящейся в затруднительном положении даме убежище на своем прежнем месте – между среброкузнецом Израилем Брандиером и сыном портного Ефремом Оуэлсом, – с которым Мэтью был в дружбе и по четвергам азартно играл в шахматы в «Галопе». Садбери покинул свое место, и дама изящно его заняла под аплодисменты какого-то галантного нахала, и тут же еще несколько других захлопали и завыли, пока Пеннфорд Деверик не устремил туда взгляд своих серых глаз, как наводит фрегат бортовое орудие, – и все заткнулись.
– Ничего себе зрелище? – Соломон Талли ткнул Мэтью локтем в ребра, когда снова поднялся шум разговора и захлопали полотняные опахала, разгоняя дым. – Мадам Блоссом входит сюда, будто она тут хозяйка, и садится прямо перед носом преподобного Уэйда! Вы это видели?
Мэтью, разумеется, видел, как мадам из Манхэттена – которая, кстати, вполне могла бы купить здание Сити-холла, если верны слухи о заработках ее и ее голубок, – села перед тощим мрачным Уэйдом, одетым в черный сюртук и черную треуголку. Он смотрел прямо перед собой, будто сквозь голову этой дамы. Еще один интересный момент – Джон Файв, одетый для торжественного случая в простой серый сюртук, сидел справа от своего будущего тестя. Многое можно было бы сказать о мрачной личности Уэйда, но никто никогда не обвинял его в предубежденности, подумал Мэтью. Для пастора достаточно страшно отдать свою дочь за человека, чье прошлое очень мало известно, а где известно – там воспоминания о грубом насилии. Мэтью считал, что преподобный, давая Джону шанс, поступает весьма благородно и в высшей степени по-христиански.
Взгляд Мэтью упал на другого человека, и он внутренне сжался. Тремя рядами позади Джона Файва и преподобного Уэйда сидел Эбен Осли, похожий на расфуфыренный арбуз в зеленом сюртуке и ярко-красном бархатном жилете. Для такого важного дня он выбрал седой парик с завитыми локонами, ниспадающими на плечи в имитации официального юридического стиля. Место он занял среди группы молодых юристов, в числе которых были партнеры-владельцы адвокатской фирмы Джоплин Поллард, Эндрю Кипперинг и Брайан Фитцджеральд, – будто давал понять Мэтью и всем заинтересованным сторонам, что он защищен глупостью закона. Он не опускался до того, чтобы бросить взгляд на Мэтью, но улыбался фальшиво и поддерживал разговор с весьма пожилым, но и весьма уважаемым голландским врачом, доктором Артемисом Вандерброкеном, который сидел на скамье прямо перед ним.
– Пардон, пардон! – Кто-то заслонил Мэтью перспективу, наклонившись над скамьей к магистрату Пауэрсу. – Сэр, можно одну минутку?
– Да, конечно. В чем дело, Мармадьюк?
– Я просто хотел спросить, сэр, – заговорил Мармадьюк Григсби, у которого на круглой луне лица красовались очки, а на абсолютно лысом черепе – клок белых волос, похожий на плюмаж. Над большими и круглыми голубыми глазами нависали, подергивались и ходили белые брови – печатник Нью-Йорка нервничал в присутствии магистрата. – У вас есть какие-нибудь предположения про Маскера?
– На эту тему тише, пожалуйста, – попросил магистрат, хотя в окружающем гуле голосов это вряд ли было необходимо.
– Да, сэр, конечно же! Но… вы до чего-нибудь додумались?
– Только до одного. Что Джулиуса Годвина убил маньяк.
– Да, сэр, конечно. – По улыбке Григсби – сплошные губы и ни одного зуба – Мэтью понял, что так легко от него не отделаться. – Но считаете ли вы, что предполагаемый маньяк покинул наш прекрасный город?
– Ну, я бы сказал, что, если… – Пауэрс резко замолчал, будто язык прикусил. – А послушайте, Марми, это что, материал для вашего горчичника?
– Газеты, сэр. Мой скромный бюллетень ради общественного блага.
– А, я его вчера видел! – проявил интерес Соломон Талли. – Он называется «Кусака»?
– Этот выпуск, мистер Талли. Я думаю в следующий раз назвать его «Уховертка». Такое, знаете, что глубоко впивается и не хочет отцепляться.
– Вы хотите сказать, что будет еще один? – прищурился магистрат.
– Да, сэр, именно так. Если хватит моего запаса краски. Я надеюсь, что Мэтью мне поможет его отпечатать, как в прошлый раз.
– Что? – Пауэрс резко обернулся к Мэтью. – Сколько у тебя работ, а?
– Это вечерняя работа, – ответил Мэтью, несколько смутившись.
– И сколько раз у тебя на следующий день перо соскользнуло?
– Ну, Мэтью может нас обоих до гроба уработать, – снова улыбнулся Григсби, однако его улыбка увяла под холодным взглядом магистрата. – Я хотел сказать, что он весьма трудолюбивый молодой…
– Не важно. Скажите, Григсби, вы понимаете, какой вселяете в людей страх? Я бы должен вас посадить за решетку за раздувание ужаса в обществе.
– Не похоже, что этот народ сильно запуган, сэр, – ответил печатник, не поддаваясь давлению.
Был он шестидесяти двух лет от роду, короткий и круглый, вставленный в дешевый и плохо сидящий сюртук цвета жидкой уличной грязи – или, мягче выразиться, цвета доброй земли после щедрого дождя. Весь он был нескладный, на что ни посмотри. Слишком большие кисти для таких коротеньких ручек, а те маловаты для его плеч, слишком массивных для груди, впалой над выпуклостью пуза, а внизу – слишком большие пряжки на туфлях, надетых на концы жердей для бобов, которые служили ему ногами. Точно так же отличалось неподходящими пропорциями его лицо, которое иногда при боковом освещении казалось состоящим из одного только морщинистого лба, уравновешенного массивным носом с глубокими красными жилами (очень уж любил Григсби свой вечерний стакан рома), а снизу его утяжелял висящий подбородок, расщепленный вмятиной невероятных размеров. Лоб был примечателен еще и тем, что Григсби мог колоть на нем грецкие орехи основанием ладони – однажды он показал Мэтью, как это делается. Когда он шел, казалось, что его шатает вправо-влево, будто он борется со всей силой тяжести этого мира. Из ушных раковин и ноздрей выбивались белые волосы. Между зубами у него были такие дыры, что в увлечении спора его противника могло с головы до ног окатить слюной. Еще его бил нервный тик, который мог бы напугать свежего человека: указанные выше подергивания бровей, внезапное закатывание глаз, будто демоны у него в голове играли в мяч, и действительно очень неприятная черта: Бог заставил его непроизвольно пускать ветры со звуком, напоминавшим самые низкие ноты басового китайского гонга.
Но когда Мармадьюк Григсби, печатник, решал стоять на своем, это почти увечное создание становилось человеком свободным и уверенным в себе. Вот и сейчас Мэтью наблюдал такое превращение – Григсби хладнокровно глядел на магистрата Пауэрса сквозь очки. Впечатление такое, будто печатник ходит недоделанный, пока не встанет перед проблемой – а тогда эта странная комбинация частей, оставшихся от сборки гиганта и карлика, выливается под давлением в форму общественного деятеля.
– Моя работа – информировать граждан, сэр. – Григсби говорил не мягко и не резко, но голосом, как сказал бы Хирам Стокли об удачном гончарном изделии, хорошо пропеченном. – А быть информированными – право граждан.
Однако магистрат не стал бы магистратом, если бы не умел отстаивать свое мнение:
– И вы действительно думаете, что информируете наших граждан, когда устраиваете эту… эту проклятую шумиху вокруг Маскера?
– Я видел тело доктора Годвина, сэр. И не только я заметил эту группу порезов. Эштон Мак-Кеггерс высказал то же предположение. Даже на самом деле он первый это заметил.
– Мак-Кеггерс ведет себя, как дурак!
– Возможно, – согласился Григсби, – но в качестве коронера он уполномочен главным констеблем Лиллехорном осматривать мертвых. Полагаю, вы не считаете его непригодным для этой работы?
– И все это будет в вашем следующем бюллетене? Если так, то вам лучше задать ваши вопросы главному констеблю. – Пауэрс сам скривился, услышав такое от себя, потому что человеку его положения раздражительность совершенно не к лицу. – Марми, – сказал он уже более покладисто, – дело не в вашем бюллетене, не он меня беспокоит. Конечно, рано или поздно у нас будет настоящая газета, и вероятнее всего, издавать ее будете вы. Мне не нравится призыв к низменным чувствам. Почти все мы думали, что подобное мы оставили в Лондоне вместе с «Газетт». Я не могу вам передать, насколько может повредить промышленности этого города не до конца достоверная или спекулятивная статья.
«Лондону как-то не вредит», – чуть не произнес вслух Мэтью, но решил, что мудрее будет промолчать. «Газетт» он читал чуть ли не с религиозным рвением, когда ее сюда привозили.
– Я только сообщил факты, связанные с убийством доктора Годвина, сэр, – возразил Григсби. – В смысле – все, что мне было известно.
– Нет, вы породили все эти разговоры про «Маскера». Да, это могло исходить от Мак-Кеггерса, но он этого не печатал, напечатали вы. Такого рода предположения и пережевывания страхов принадлежат уже царству фантазии. Я мог бы еще добавить, что если в будущем вы пожелаете улучшить свой тематический ассортимент – в том смысле, что будете уточнять факты с теми, с кем это необходимо, то сейчас вам следовало бы сдержать ваше воображение.
Григсби собрался было ответить, но передумал, то ли убежденный силой аргументов магистрата, то ли не желая разрушать дружбу.
– Я понял вашу мысль, сэр, – сказал он, и инцидент был исчерпан.
– Да, чертовски неприятная штука, – вздохнул Соломон Талли. – Джулиус был хороший человек и отличный врач – когда не закладывал. Знаете, это он мне рекомендовал зубные протезы. Я как услышал, что его убили – ушам своим не мог поверить.
– О докторе Годвине каждый говорил только хорошее, – подхватил печатник. – Если у него и были враги, то не открытые.
– Это дело рук маньяка, – сказал Пауэрс. – Какой-то урод, сошедший с корабля и прошедший через город. Прошло уже почти две недели, и его наверняка нет. Здесь мое мнение совпадает с мнением главного констебля.
– Но ведь странно, не правда ли? – Григсби поднял брови, что было геркулесовой работой.
– Что именно?
– Странностей много, – ответил печатник, – и не последняя та, что у доктора Годвина было столько денег в бумажнике. А бумажник – у него в сюртуке. Нетронутый. Вы понимаете, о чем я?
– Это только подтверждает, что его убил маньяк, – сказал Пауэрс. – Или, возможно, кто-то спугнул бандита до того, как он вытащил бумажник. Если мотивом действительно было ограбление.
– То есть грабитель-маньяк? – уточнил Григсби, и Мэтью просто увидел, как он мысленно заносит перо – записывать.
– Это всего лишь общие рассуждения. А еще я говорю вам при свидетелях, что не желаю видеть свое имя в «Кусаке», или «Уховертке», или как вы там назовете следующий выпуск. Теперь найдите себе где-нибудь место и сядьте, сюда идут олдермены.
Парадные двери на другом конце зала открылись, и пятеро олдерменов – представляющие пять участков города – вошли и заняли места за длинным темным дубовым столом, по которому они в другие дни стучали кулаками во время споров. С ними вошло вдвое больше писцов и клерков, также занявших свои места. Как и ожидающая публика, олдермены и их служители были одеты в лучшие свои наряды, из коих некоторые не видели света с тех самых пор, как рухнула Стена. Мэтью заметил, что старый мистер Конрадт, надзирающий за Северным участком, с виду сед и болен, но опять-таки: он всегда так выглядел. Да, олдермен участка Доков мистер Уитеккер сегодня бледен и глаза у него запали, и краска сбежала с лица, а один из писцов рассыпал бумаги на пол, когда нервно дернул рукой. Мармадьюк Григсби ушел из прохода, а Мэтью задумался, что же происходит.
Наконец городской глашатай вышел на трибуну перед столом совета, набрал полную грудь воздуха и заревел:
– Слушайте все, слушайте все… – Голос у него сорвался, он прокашлялся – будто продули басовую трубу, и начал снова: – Слушайте все, слушайте все! Всем встать перед достопочтенным Эдуардом Хайдом, лордом Корнбери, губернатором королевской колонии Нью-Йорк!
Глашатай сошел с трибуны, и собрание поднялось. Из двери в шорохе кружев и шелесте перьев вышел… о нет! – шок! скандал! – вышла одна из потаскух Полли Блоссом, желающая, наверное, превратить торжественное собрание в посмешище.
Мэтью был потрясен до глубины души, как и все прочие. Женщина, по сравнению с которой ее мадам выглядела как принцесса нищих, в платье с желтыми лентами, в высокой лимонного цвета шляпе от солнца, украшенной вызывающей связкой павлиньих перьев, прошествовала мимо олдерменов с таким видом, будто она – как мог бы сказать Соломон Талли – хозяйка всего этого здания, черт его побери. На руках у нее были замшевые перчатки, поверх них – кричащие кольца. Развевались высовывающиеся из-под юбки ленты, в невероятной тишине клацали высокие французские каблуки по английской древесине пола. Шляпа и перья склонились под опасным углом над белоснежным и тщательно завитым париком, украшенным стразами, высотой чуть ли не до луны, отчего женщина казалась великаншей более шести футов ростом.
Мэтью ждал, что сейчас кто-нибудь заревет или бросится на трибуну, или вскочит кто-то из олдерменов в полном возмущении, или же сам лорд Корнбери влетит в дверь, красный от гнева, что его выход так испортила какая-то проститутка. Но ничего такого не произошло.
И действительно, эта распутница – Мэтью внезапно заметил, что она не плывет, как можно было бы ожидать от праздной женщины, а шагает тяжело и неловко, – подошла к глашатаю, который будто съежился, и от него остались только глаза и нос над воротником рубашки. И все равно никто не поднялся помешать ей. Она добралась до трибуны, схватилась за нее руками в перчатках, обратила к горожанам свое длинное, несколько лошадиное лицо в бледной пудре, и из красно-розовых губ донесся голос – мужской:
– Добрый день. Прошу садиться.
Никто не сел. Никто даже не шевельнулся.
Из задних рядов послышался будто приглушенный удар басового китайского гонга. Рядом с Мэтью кто-то шевельнулся – это у Соломона Талли так отвисла челюсть, что мокрые от слюны новые зубы поползли прочь на своих креплениях. Мэтью, не успев подумать, протянул руку и задвинул их назад до щелчка. Но Талли, не замечая, таращился с открытым ртом на нового губернатора колонии.
– Я сказал: «Прошу садиться!» – повторил лорд Корнбери с нажимом, но от развевающихся павлиньих перьев некоторые из присутствующих почти впали в транс.
– Боже всемогущий! – шепнул магистрат Пауэрс, у которого глаза готовы были выскочить на лоб. – Лорд оказался леди!
– Джентльмены, джентльмены! – прогремел голос из задних рядов. Потом послышался стук трости, сопровождаемый топотом каблуков по деревянному полу. Главный констебль Гарднер Лиллехорн, весь в лиловом, от чулок до верха треуголки, вышел вперед и встал свободно – одна рука на львиной голове набалдашника лакированной черной трости. – А также леди, – поправился он, глянув в сторону Полли Блоссом. – Лорд Корнбери попросил вас сесть.
Как и все собрание, он слышал хихиканье и неприличную болтовню в задних рядах, где публика стала уже превращаться в толпу. У Лиллехорна раздулись ноздри, он вздернул подбородок с клинышком бороды – будто занес боевой топор, готовый обрушиться на врага.
– Я, – сказал он, повысив голос, – также просил бы всех не проявлять невежливости и помнить о хороших манерах, которыми столь заслуженно славится наш город.
– С каких это пор? – шепнул магистрат Мэтью.
– Если же мы не сядем, – продолжал Лиллехорн, воюя с сопротивлением, которое на самом деле было просто шоком, – мы не услышим сегодняшнего обращения лорда Корнбери… то есть его сегодняшних замечаний. – Он остановился, промокнул заблестевшие губы платком, украшенным, по новой моде, монограммой. – Ну, сели, сели, – добавил он с некоторой скукой в голосе, как расшалившимся детям.
– Будь я проклят, если глаза меня не обманывают, – шепнул Талли, когда они с Мэтью сели и публика успокоилась, насколько это было возможно. Талли потер рот рукой, отстраненно отметив ощущение потрескавшихся губ. – Вы кого там видите, мужчину или женщину?
– Я вижу… нового губернатора, – ответил Мэтью.
– Покорнейше прошу вас продолжать, сэр! – Главный констебль обернулся к лорду Корнбери, и только Мэтью, наверное, заметил, как побелели костяшки его пальцев на набалдашнике. – Вас внимательно слушают.
И сделав рукой жест, который заставил бы профессионального актера вызвать Лиллехорна на дуэль за честь театра, главный констебль отступил снова в задние ряды, откуда, как решил Мэтью, мог наблюдать, как ветер популярности треплет перья Корнбери.
– Благодарю вас, мистер Лиллехорн, – сказал губернатор и оглядел свой народ покрасневшими глазами. – Я хотел бы поблагодарить всех собравшихся за то, что вы сюда пришли, за то гостеприимство, которое оказали мне и моей жене в последние дни. После долгого морского путешествия нужно время, чтобы подготовиться к появлению на публике.
– Может, вам еще время нужно, сэр! – крикнул кто-то с галерки, пользуясь тем, что может спрятаться в клубах дыма. Возникший смешок тут же был подавлен появлением ледяной фигуры Лиллехорна.
– Совершенно верно, – добродушно согласился лорд Корнбери и тут же улыбнулся очень неприятной улыбкой. – Но это уже как-нибудь в другой раз. Сегодня я хочу сообщить несколько фактов о вашем – теперь, конечно, уже нашем – городе и сделать некоторые предложения по поводу пути к еще большему процветанию.
– О Боже милосердный, – тихо простонал магистрат Пауэрс.
– Я консультировался с вашими олдерменами, с главным констеблем, со многими ведущими коммерсантами, – продолжал Корнбери. – Я слушал и, надеюсь, узнал много нового. Достаточно будет сказать, что я не с легким сердцем принял это назначение из рук моей кузины, королевы.
Лиллехорн пристукнул тростью, давая понять, что фыркающий смешок будет означать ночь в тюрьме.
– Моей кузины, королевы, – повторил Корнбери, будто жуя конфету. Мэтью подумал, что для такой элегантной дамы у него слишком густые брови. – Итак, – сказал губернатор, – позвольте мне очертить наше положение.
В следующие полчаса аудитория была не столько захвачена, сколько усыплена гудением далеко не ораторского голоса Корнбери. Этот мужчина умеет носить платье, подумал Мэтью, но произнести достойную речь не способен. Корнбери заплутал в разговорах об успехах мукомольной и судостроительной промышленности, неоднократно помянул, что в городе около пяти тысяч жителей и что сейчас в Англии Нью-Йорк считают не приграничным дерущимся поселением, но ровно развивающимся предприятием, готовым дать хорошую отдачу на инвестиции. Он пространно изложил свое мнение о том, как когда-нибудь Нью-Йорк превзойдет и Бостон, и Филадельфию в качестве центра новой Британской империи, но добавил, что сперва груз железных гвоздей, попавший по ошибке в город квакеров из старой Британской империи, необходимо вернуть, чтобы восстановить здания, уничтоженные, к сожалению, прежним недавним пожаром, поскольку деревянным гвоздям он, лорд, не доверяет. Он распространялся на тему потенциала Нью-Йорка как центра сельскохозяйственных ферм, яблочных садов и тыквенных бахчей. И наконец, уже на сороковой минуте своего скучного трактата, он затронул тему, от которой горожане встрепенулись.
– Весь этот потенциал труда и прибыли не должен пропасть зря, – заявил Корнбери, – из-за ночных кутежей и вытекающей из них проблемы утреннего лодырничества. Я понимаю, что таверны не закрываются, пока не вывалится из них последний… гм… джентльмен. – Он подождал минуту, разглядывая публику, потом неуклюже повел речь дальше: – В силу этого я издам указ, чтобы все таверны закрывались в половине одиннадцатого. – Поднялся ропот, быстро набирающий силу. – Кроме того, я издам указ, чтобы ни один раб ни ногой не мог ступить в таверну, и ни один краснокожий индеец не…
– Минуту, сэр! Минуту! – Мэтью и прочие сидящие впереди обернулись назад. Пеннфорд Деверик метал на губернатора орлиные взгляды, морща лоб в глубочайшем недовольстве. – Что это за разговоры насчет раннего закрытия таверн?
– Разве раннего, мистер… Деверик, я не ошибся?
– Да, я мистер Деверик.
– Так вот, сэр, не раннего. – И снова та же мерзкая улыбка. – Я бы не назвал половину одиннадцатого ночи ранним временем – ни в каком смысле. А вы?
– Нью-Йорк не связан временем отхода ко сну, сэр.
– Значит, будет связан, ибо должен быть. Я изучал этот вопрос. Задолго до отъезда из Англии я спрашивал мнение многих умнейших людей по поводу такой потери рабочей силы на…
– Да гори они огнем, их мнения! – Деверик говорил резко, а когда он бывал резок, создавалось ощущение вонзавшегося в уши очень громкого ножа – если только нож бывает громким. Соседи его вздрогнули, а у Роберта был такой вид, будто ему очень хочется заползти под ближайший камень. – Вы знаете, сколько народу зависит от этих таверн?
– Зависит, сэр? Зависит от возможности употреблять крепкие напитки, а утром быть не в силах выполнять свой долг перед собой, перед своей семьей и перед нашим городом?
Деверик где-то уже с седьмого слова стал махать на губернатора рукой:
– Эти таверны, лорд Корнблоу…
– …бери, – перебил его губернатор, который, оказывается, тоже умел резать голосом. – Лорд Корнбери, с вашего разрешения.
– Эти таверны – места встречи коммерсантов, – продолжал Деверик, и у него на щеках заклубился румянец, напоминающий по цвету румяна губернатора. – Спросите любого хозяина таверны. – Он ткнул пальцем в нескольких из публики: – Вон Джоэла Кюйтера. Или Бартона Лейка, или Тадеуша О’Брайена, или…
– Я понимаю, что в этом собрании они хорошо представлены, – перебил Корнбери. – И я так понимаю, что вы тоже владелец таверны?
– Разрешите мне, лорд губернатор? – Снова вперед выскользнул гладкий, будто смазанный маслом начальник полиции Лиллехорн, и львиная голова набалдашника трости кивала, требуя внимания. – Если вам представили мистера Деверика только по имени, то я должен довести до вашего сведения, что он – в некотором смысле – представляет все таверны и всех их владельцев. Мистер Деверик – оптовый торговец, и лишь его неусыпным попечением снабжаются все эти заведения элем, вином, едой и так далее.
– И мало того, – добавил Деверик, не сводя глаз с губернатора. – Стаканы и тарелки тоже поставляю я, и почти все свечи.
– Как и почти все свечи, которыми пользуются в городе, – добавил Лиллехорн. Мэтью подумал, что будут теперь его три года бесплатно поить в любимой таверне.
– И немаловажно, – еще надавил Деверик, – что большая часть фонарей, куда вставляются эти свечи, поставлена городским констеблям с разумной скидкой.
– Что ж, – произнес лорд Корнбери после недолго размышления, – получается, что вы правите всем городом, сэр, если я не ошибаюсь. Поскольку ваша самоотверженная работа обеспечивает мир и – как вы только что мне объяснили – процветание Нью-Йорка. – Он поднял руки в перчатках, словно сдаваясь в плен. – Не должен ли я переписать свою губернаторскую хартию на ваше имя, сэр?
«Только не спрашивай об этом Лиллехорна, – подумал Мэтью. – Он готов будет предложить свою кровь вместо чернил».
Деверик стоял, прямой, жесткий и высокий, с разбитым боксерским носом и изборожденным высоким лбом, и весь он был – такое воплощение сдержанного благородства, что не худо было бы лорду Корнбери взять с него пример. Да, Деверик богат – быть может, один из самых богатых людей в колонии. Мэтью знал о нем не очень много – а кто знал больше? он же был одинокий волк, – но от Григсби Мэтью слыхал, что Деверик проложил себе путь сюда от лондонских помоек, а теперь он в дорогом костюме, холодный, как зимний лед, и смотрит сверху вниз на этого начальственного попугая.
– У меня своя область управления, – ответил Деверик, слегка задрав подбородок. – И я буду держаться в ее пределах, пока не споткнусь о чужой забор. Позвольте обратиться к вам с просьбой: в удобное вам время встретиться со мной и с комитетом содержателей таверн для обсуждения этого вопроса до того, как вы твердо выберете направление действия.
– А молодец! – шепнул Пауэрс. – Никогда не знал, что старина Пеннфорд – такой хороший адвокат.