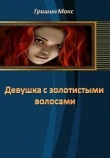Текст книги "Магнолии были свежи (СИ)"
Автор книги: Ann Michaels
сообщить о нарушении
Текущая страница: 43 (всего у книги 68 страниц)
Мадаленна злилась на Эффи, не понимала ее глупой борьбы, она соперничала с ней в каждом предмете, но сейчас они не были ни соперницами, ни врагами, по иронии судьбы они были единственными, кто могли понять друг друга и не осудить. Действительно, пути жизни были временами чудными.
– Что, отказал? – она присела рядом с Эффи.
– Как будто бы ты не слышала. И весь университет не слышал. Отличное представление, лучше чем все телевизионные передачи. – огрызнулась Доусен, и Мадаленна пнула от нечего делать ножку скамейки. – Думаешь, я плохо поступила? – внезапно спросила она.
– Не знаю. – пожала плечами Мадаленна. – Не думаю, что плохо. Просто неосмотрительно.
– И в чем же моя неосмотрительность? – язвительно откликнулась Эффи.
– Его могли уволить за такой разговор. Чувства студентов к преподавателям редко когда одобряются.
– Ты думаешь, – встревоженно начала Доусен.
– Нет. – мотнула головой Мадаленна. – Никто ничего не скажет. Я попросила.
– Спасибо. – шмыгнула носом Эффи. – Это благородно.
– Будь у меня чуть больше храбрости, – выговорила Мадаленна. – Или глупости, я бы поступила так же как ты.
Эффи помолчала с минуту, а потом с пораженным видом повернулась к Мадаленне.
– Так… Так ты тоже в него?..
– Да.
– О, – протянула Доусен. – Забавно. Что я сделала не так? – после молчания спросила она. – Где я ошиблась? Где мы с тобой ошиблись? Почему он не мог посмотреть на нас?
– Потому что ты слишком часто смотрела «Верную нимфу». – усмехнулась Мадаленна. – Потому что мистер Гилберт не герой Шарля Буайе, а живой человек. Потому что он… – слово оказалось выговорить труднее, чем она ожидала. – Он любит свою жену. Наше с тобой упущение, Эффи, только в том, что мы не родились двадцать лет назад в Гэлвее. А это уже никак нельзя исправить.
– И что делать?
Мадаленна взглянула на эмалированные ручные часы – было ровно пять вечера. В кафе-мороженое еще можно было успеть.
– Вот что, Эффи, – она встала со скамьи. – Завтра мы снова с тобой будем огрызаться друг на друга из-за каждой оценки, снова будем ругаться, и на нас снова будут делать ставки – кто получит лучший балл. – Эффи усмехнулась. – Но сегодня мы – два товарища по несчастью. А все несчастья принято запивать. В нашем случае исключительно ледяной крем-содой. Пойдем, только сначала найдем Дафни, а то кто тебя знает, вдруг решишь толкнуть меня под грузовик.
***
Прогулка вышла странной, но интересной. На один день все распри и конфликты оказались позабыты перед лицом несчастной любви. Дафни посмотрела на них так, будто они были почетными пациентами психиатрического отделения, однако промолчала и молча открыла дверь. Тройкой они и направились в ближайшее кафе-мороженое. Три порции ванильной газировки с тремя шариками вишневого мороженого не прошли даром, и в конце концов они даже смогли разговориться о кино, болтая о Роке Хадсоне, Грегори Пеке и очередном скандале с Глорией де Хэйвен. Мадаленна с удивлением вспоминала, что когда-то они с Эффи действительно дружили, однако то время казалось ей таким далеким, что она с трудом могла припомнить, какие предметы они вместе изучали.
Они вместе дошли до метро, неловко распрощались, и Мадаленна с Дафни повернули на бульвар Торрингтон. Ее приятельница молчала, иногда пинала камень и посматривала на нее, но Мадаленна упорно хранила молчание. Ледяное спокойствие наполняло ее изнутри, и ей вовсе не хотелось его нарушать, потому что понимала, как станет больно. Завтра, а может быть и сегодняшней ночью она проснется в темной комнате и поймет, что натворила. Что обманула доверие мистера Гилберта, что подслушивала под дверью, что узнала о чувствах Эффи, и понятия не имела, что теперь делать с этим знанием. Она будет сидеть в темной комнате и сгорать от стыда. Но это все должно было наступить позже, а сейчас Мадаленна старалась балансировать на тонком льду своей невозмутимости. Первой не выдержала Дафни.
– Что это сегодня было? – повернулась она к своей подруге. – Вы что, снова помирились?
– Упаси Небеса.
– Ты пыталась ее отравить крем-содой?
– Нет, но это была бы неплохая идея. Как у Агаты Кристи в «Зеркало треснуло». Только вместо несчастного случая у нас несчастная любовь на двоих. – Мадаленна смотрела на окна домов и отсчитывала свой. – Очень литературно.
Дафни недоуменно посмотрела на нее, поправила воротник на пальто и пнула носком туфли булыжник.
– И тебя устраивает, что Эффи влюблена в мистера Гилберта?
– Нет, но, полагаю, она от этого тоже не в восторге.
– Мадаленна, за свою любовь надо бороться! – решительно махнула рукой Дафни. – Он, конечно, старше тебя, но… В этом даже что-то есть от викторианских романов.
– Я бы и рада, но с Линдой мне бороться не под силу. Да и потом, это некрасиво – уводить чужого мужа. И не забывай, в первую очередь, он наш преподаватель.
– Не думаю, что у них очень счастливая семья, – протянула ее приятельница, и Мадаленна резко обернулась. – В газете он всегда только с дочерью, а Линда со своим ухажером. У тебя был бы шанс.
– Дафни, ты ведь пила газировку и только?
– Ох, перестань, – отмахнулась от нее Кру. – У вас с ним особое… – Дафни остановилась и защелкала пальцами. – Взаимопонимание, вот.
– Чепуха.
– Он всегда слушает тебя с улыбкой.
– Он всем улыбается.
– Никогда не перебивает.
– Он всех слушает спокойно.
– Он по-особому на тебя смотрит.
– Дафни, – строго посмотрела на нее Мадаленна. – В таком случае тебе нужно купить очки. Ты ведь понимаешь, что то, на что ты пытаешься намекать… – подруга ее перебила.
– Я намекаю, что к тебе он относится лучше, чем к Эффи. Вот и все. Мы уже пришли, – Дафни указала на знакомые окна, и Мадаленна зашла на порог. – Заходить не буду, меня ждет Марк.
– Тогда до завтра.
Дафни улыбнулась и почти перешла на другую сторону улицы, как вдруг остановилась и подошла обратно. Она так внимательно смотрела на Мадаленну, что та рассмеялась и вспомнила, не измазала ли лицо чернилами.
– Тебе нужен кто-то взрослее тебя самой, Мадаленна. – серьезно произнесла Дафни, и смех замер на полуноте. – Кто-нибудь, кто тебя спасет от тебя самой. – слова замерли сами, и Мадаленна почувствовала комок в горле. – Я не хочу тебя потерять.
Кру порывисто обняла ее, и на несколько минут Мадаленна застыла. Она старалась скрывать свое состояние от всех, даже Аньеза не знала и половины, но как Дафни, которая не знала о ее жизни и четверти, смогла угадать, что с ней происходит что-то очень нехорошее? Мадаленна потерла горло и посмотрела на темные окна своей комнаты и на освещенные родительской спальни. На фоне голубых занавесок там расхаживала одна фигура, отчаянно жестикулируя. Мадаленна в нем узнала отца.
Дверь открылась прежде, чем она позвонила в колокол, и на пороге показался предупредительный Фарбер. То, что в доме происходит нечто неладное, Мадаленна поняла сразу – никого из слуг внизу не было, на кухне стояла тишина, а Фарбер отчаянно отворачивался от нее, стараясь не встретиться взглядом. Она снимала пальто, когда наверху раздался звон, и Мадаленна вздрогнула, когда по полу прошелся чей-то каблук, тщательно растаптывая осколки. Мадаленна знала, что в отношениях родителей все было не так хорошо, как было десять лет назад. Однако удивлена она не была. Она ждала этого. Она знала это. Мадаленна понимала, что отношения родителей должны были стать сложными после всего того, что они пережили, но она надеялась на чудо. Когда Эдвард ничего не исправил, надежда на счастливую семью стала медленно таять, а потом Мадаленна стала просто ждать минуты, когда все решится. Ожидание было мучительным.
– Фарбер, будьте любезны, принесите мне грелку в комнату.
– Конечно, мисс.
– И еще, попросите, пожалуйста, Полли, – ее прервал виноватый взгляд дворецкого. – Что такое?
– Мне очень жаль, мисс, но сэр Стоунбрук перевел Полли в особняк близ Портсмута.
Мадаленна схватилась за лестничные перилла. Только не Полли. Только нее милую, добрую, дорогую Полли, от которой всегда пахло шафраном и кардамоном, в чьем переднике она так любила прятаться.
– Как это?
– Сэр решил, что это нерентабельно для дома держать столько слуг.
– Понятно. – комок в горле стал еще больше. – Фарбер, пожалуйста, не забудьте про грелку.
Мадаленна вбежала по лестнице так быстро, что пояс на брюках неприятно сдавил ребра. Такого гнева она не испытывала давно. Неужели было сложно сказать об этом ей самой? Она ведь смогла бы сама платить Полли содержание, она взяла бы еще больше уроков, только не отвозила бы ее по приказу Бабушки в Портсмут. В том особняке всегда было так холодно осенью и зимой, а сейчас особенно, ведь никто не стал бы отапливать дом ради одной горничной. Хильда. Э то был ее приказ, Мадаленна знала это. Она узнавала Бабушкин почерк и была готова кричать от ужаса – отец становился копией своей матери. Мадаленна почти дернула ручку двери, когда громкий голос отца заставил ее остановиться. Она уже подслушивала сегодня, почему нельзя было пойти на это еще раз?
– Ты понимаешь, что мне предлагаешь, Аньеза? Отправить мою мать в Портсмут? – фигура отца ходила из стороны в сторону.
– Это лучше дома престарелых, куда ты ее определил в начале.
– Это не дом престарелых, это санаторий!
– Можешь называть это как хочешь, но правда есть правда.
– Аньеза, я терпел ее выходки всю жизнь… – миссис Стоунбрук презрительно фыркнула и перебила его.
– И будешь терпеть дальше, ты ведь ее сын.
– Аньеза!
– Я говорю правду, Эдвард. Я знаю тебя, я знаю твою болезненную привязанность к Хильде, и я знаю, что ты никогда себе не простишь, если оставишь ее в этом заведении.
– Я не люблю ее. – выпрямилась фигура.
– Если не любишь, тогда зачем отправил по ее приказу Полли?
– Это… Это было нерентабельно… – но его снова перебили.
– Ох, прошу тебя. – фигура матери поднялась и подошла к порогу; Мадаленна осторожно зашла в комнату. – Можешь себя утешать этим отговорками, но меня – уволь. Мадаленна!
Она вышла на свет и посмотрела на родителей – те были явно уставшими, но Аньеза будто бы вся светилась изнутри, а Эдвард; он выглядел так, словно его что-то съедало. Мадаленна знала что – Хильда. Она понимала, что родители были удивлены ее приходом, но она все еще была наивно уверена в том, что все семейные проблемы стоило обсуждать сообща. Видимо, Мадаленна что-то упустила.
– Милая, здравствуй. – к ней подошел отец и обнял. – Как экзамены?
– Отлично. А вы как?
– Замечательно. – к ней подошла Аньеза. – Обсуждаем хозяйственные дела.
– Я слышала. – кивнула Мадаленна. – Папа, насчет Полли…
– Милая, – поморщился он. – Давай завтра, хорошо? Я очень устал и ужасно хочу спать. Хорошего тебе вечера. – он поцеловал ее в лоб и коснулся руки Аньезы. – Хорошего вечера, мои девочки.
Эдвард вышел, не закрыв за собой дверь, и Мадаленна подумала, что так спешить можно было только от самого неприятного разговора. Неискренность становилась привычной в их семье, и подобные вечера превращались в пытку. Миссис Стоунбрук что-то читала в журнале, иногда подчеркивая фразы карандашом, а когда Мадаленна присела на край кровати, пододвинула к ней фужер с яблочным соком.
– Как экзамен?
– Хорошо.
– Как отметили?
– Хорошо.
– Как?.. – но Мадаленна не могла больше выдерживать эту тщательную игру.
– Мама, отец хотел отправить Бабушку из дома в санаторий?
– Теперь это так называется. – отозвалась Аньеза из-под газеты. – Я еле-еле отговорила его.
– Зачем?
Аньеза сначала молчала, а потом так посмотрела на Мадаленну, что та, если бы не ее спокойствие, наверное, сгорела бы со стыда. Она могла жалеть о своих словах, если бы не все те годы, которые она провела под Бабушкиным крылом, могла жалеть Бабушку, если бы не видела, как та обращалась с прислугой. Но годы, проведенные с ней, были самыми тяжелыми и ненавистными. И больше всего Мадаленна желала освободиться от ее присутствия как можно скорее. Наверняка ночью она станет жалеть и об этом желании.
– Я понимаю, что ты имеешь в виду, но я знаю твоего отца. – хмыкнула Аньеза. – Он себе место не найдет, если отправит Хильду в этот санаторий. Он может разыгрывать и обманывать кого угодно, но только не меня.
– А как же мы? – спросила Мадаленна. – Как мы будем жить в этом доме, вместе с ней?
– А мы не будем. – помолчав, проговорила Аньеза. – Мы будем жить с тобой в другом месте.
– Значит, – медленно начала Мадаленна, она все еще не могла спросить маму об этом. – Вы с отцом…
– Мы еще ничего не решили. – заключила миссис Стоунбрук, недовольно глядя на дочь. – Тебе лучше стоит сейчас думать о другом.
– О чем?
– Об Италии. – в полумраке улыбка матери показалась Мадаленне загадочной. – Тебе скоро ехать на свою малую родину, разве это не приключение?
– Да, но надо думать о визе, о вещах, о работе в конце концов, – Мадаленна встряхнула сумку. – Я же туда еду не отдыхать.
– Разумеется. – рассмеялась Аньеза, сбивая дочь с толку. – Отважный пилигрим едет в Прекрасную Страну, и на пути ему встретится не менее Прекрасный Лев. Пилигриму придется очень серьезно сражаться, в особенности, – в темноте глаза Аньезы блеснули. – За свои принципы.
– Мама, – было попыталась возразить Мадаленна, но миссис Стоунбрук приподняла ее за подбородок и внимательно посмотрела на нее.
– Я тебя предупредила, дорогая. Тебе предстоит очень серьезное сражение. И, к сожалению, – на ее губах появилась грустная усмешка. – Ни одна женщина из рода Медичи не выиграла его. Будешь чай?
Мадаленна увидела, как на ковер лег луч света из коридора и постаралась представить, как на кухне раздастся голос Полли. Она выпрямилась на кровати и растянулась на подушках. Она еще выиграет эту схватку, ей не привыкать сражаться за свои принципы и мораль. Аньеза была права только в одном – Лев никогда не был так прекрасен.
Комментарий к Глава 23
приятного прочтения). буду очень рада вашим комментариями и впечатлениям от главы, для меня это очень-очень важно. кстати говоря, мы медленно близимся к кульминации, а следом за ней и к развязке – этак, глав через 10-15, хех.
p.s. дорогие мои читатели из “36 и 6”! не хочу вас разочаровывать, но в конкурсе хэллоуинских рассказов я участвовать не успеваю чисто физически. опус я написала, но опубликую, скорее всего, этот викторианский триллер прямо тут, на фикбуке в качестве ориджинала. не обижайтесь).
========== Глава 24 ==========
Комментарий к Глава 24
огромное спасибо замечательной бете “Любящая ветер”, которая приводит оформление моего текста в литературный вид!
Обычно ему не снилось ничего хорошего. Либо он видел перед собой белый туман без конца и начала, либо он снова был в Гэлвее перед разрушенным родительским домом и кричал, стараясь сразиться с оглушительным ветром, однако окна были наглухо заколочены выщербленными досками, и на его зов приходил только дождь, мелкий, накрапывающий, ныряющий за шиворот и не оставлявший никакого другого желания, только как подбежать к холму, прыгнуть и улететь навсегда к родителям и Джеймсу. Обычно после таких кошмаров Эйдин просыпался спокойным в осознании того ужаса, который чуть не накрыл его, искал в полумраке спальни Линду, находил и ложился обратно смотреть в потолок, перебирать черные кудри и считать минуты до того, пока он не встанет и не увидит прекрасное лицо. Эйдин не рассказывал о кошмарах жене, та и так не переносила разговоров о смерти после ухода мистера Кларка, а после гибели Джеймса ее глаза и вовсе наливались каждый раз слезами, стоило ему заговорить о том, как он сильно ощущает отсутствие старшего брата. Гилберт не говорил о кошмарах, он лишь ждал рассвета и старался не заснуть, чтобы ему снова не привиделась Ирландия с синими заливами и зелеными полянами, и чтобы он сам не превратился в чайку, взмахнувшую крылом и улетевшую туда, где небо кончалось за темным поворотом облака. Но с недавнего времени Эйдину перестали сниться кошмары, ему стали сниться сны.
Сначала он даже и не заметил этого, лишь одним утром он обнаружил, что простыня его была не так смята, и подушка не лежала на полу. Потом он вдруг перестал по ночам вскакивать и искать Линду, ее черные кудри и блестящие глаза; он спокойно ложился в кровать, закидывал руку за голову и ждал, пока глаза сами закроются, и все тревоги отступят прочь. В своих снах он попадал в странное место. Гилберт знал его, он знал, куда нужно смотреть, чтобы его глаза привели к зеленой долине, и каждый раз, под самый конец сна, догадка осеняла его, и он просыпался с именем этого места на губах. Но иллюзия уходила, и название забывалось вместе с ней. «Священная долина», Эйдин так называл это место, в котором он был почти что одинок, и всяческий раз пытался отыскать ту, которую привела его сюда. Он почти что видел ее облик, светлый, озаренный чем-то золотым он шел за ним, уверенный в том, что куда бы не вывела его дорога – то место не будет ничем не хуже его настоящего мира. Здесь всегда пахло весной – тающим снегом, персиком и чем-то еще, пронзительным, чему Эйдин никак не мог дать название. Он больше не искал в полудрёме Линду, он больше не касался ее лба, ее щек и губ, не зарывался в ее локоны – правая сторона кровати была пуста, но не холодна. В снах его вел не черный бархат, но чьи-то рыжие нити, чье сияние было таким ярким, что Гилберт невольно улыбался. Он знал этот свет, знал и шел на него. Иногда золото ускользало от него, словно редкая бабочка, и тогда он бежал за ним, не стараясь захватить рукой, чтобы не помять и не испортить прекрасный свет, а только наслаждаясь бегом, от которого не хотелось взлететь и исчезнуть. Иногда золото оказывалось перед ним, и его руки сами по себе запутывались в золотых нитях волос. Персик и гвоздика не дурманили его, но мягко окутывали и звали за собой, ничего не обещая, но крепко держа за руку.
В полусне Эйдин посмотрел на темную комнату, на белое окно, которое скрывалось за синими занавесками и снова закрыл глаза, надеясь очутиться в Долине. Гвоздика и персик были где-то рядом, и он недовольно смял подушку, стараясь найти золотые нити. Однако чарующая иллюзия исчезла, и он окончательно проснулся. Дрема все еще была сильна, и лишь только почуяв знакомый запах, он повернулся и притянул к себе другую подушку. Шелковый шарф приятно холодил щеку, и он поглубже вдохнул туманящий аромат. Персик, тающий снег и гвоздика – он никогда не чувствовал этого запаха до того, как… Мысли все еще путались в голове, и он не желал их собирать в одно единое целое, потому что понимал за собранностью последует отвратительно чувство вины. И все-таки желание узнать этот аромат билось сильнее здравого смысла. Он не чувствовал персик и гвоздику ровно до того момента, как зеленая перчатка коснулась его руки… Последняя дремота пропала, и Гилберт резко сел на кровати. Он не знал, который был час, однако оставалось надеяться, что подобные видения были лишь следствием его слишком долгого сна. Шарф все еще был в его руках, и, пересилив желание надеть его на шею, он с деланной небрежностью положил его на подушку – та теперь тоже пахла «Воздухом времени», так отчаянно шедшему к рыжим волосам и строгому взгляду.
Шелковое кашне серело на белой подушке, и Эйдин с трудом отвел от него взгляд и быстро встал с постели. За окном был день, и, вероятно, он умудрился в стать вместе с Джейн. Эта работа для итальянской конференции внезапно стала отнимать так много времени, что Гилберт засиживался допоздна за своим столом, переправляя написанное и вырывая листы бумаги из папки. Отчего-то ему непременно хотелось, чтобы этот доклад был для него особенно полным и цельным, чтобы читался не привычным монотонным голосом, а с искренней заинтересованностью. Оттого и ложился он так поздно, что вещи раскидывал куда попало, и это было вовсе неудивительно, что кашне могло очутиться на его подушке. Эйдин постоял с минуту у окна, а потом решительно дернул за тяжелые шнурки портьер, и комната стала светлее. Февральский день не был еще таким длинным, как мартовский, но подтаявший снег на неподстриженном газоне уже по-весеннему чернел, и сквозь толстые стекла окон он слышал стрекотание птиц. Наступала весна, с проталинами, долгими вечерами, свежестью, это было Ее время, умудрившейся родиться в последний день зимы, несущей за собой золотое свечение и персик. Внезапное желание раскрыть окно и посмотреть наружу настигло его врасплох, и Гилберт задумался над этим только тогда, когда с самым глупым видом он высунулся наружу и принялся рассматривать и черные крупицы на сером асфальте, и соседского кота, и герань на подоконнике в соседнем окне.
Вероятно, он действительно поздно встал, думал он, неспешно ходя по комнате, надевая рубашку, подбирая жилетку и зажигая свет в ванной комнате. День обещал быть не таким длинным из-за пасмурного неба, и Гилберт нахмуренно посмотрел на раскрытый платяной шкаф – сегодня в Оперу надо было явиться ровно в семь, но кто мог ему сказать, стоит ли надевать пальто, или можно было обойтись просто пиджаком. Эйдин встряхнул бритву и решил, что пойдет только в сюртуке – до Ковен-Гарден было рукой подать, а тащить на себе такую мохеровую обузу совсем не хотелось. Лицо в белых усах и бороде от пены появилось в зеркале, и против привычки он усмехнулся; на секунду Гилберт показался себе таким забавным, что позволил себе рассмеяться в голос. Он насухо вытер гладко выбритое лицо и выглянул в коридор – там было тихо, будто в доме никого и не было. Последний раз такое было этим летом, когда Линда и Джейн уехали на побережье Ниццы, впрочем, как и в любой сезон. Он постепенно привыкал к тишине этого дома, который наверняка видел на своих улицах и Теккерея и Крошку Доррит, ему было здесь спокойно, и то одиночество, преследовавшее его еще несколько месяцев назад, куда-то исчезло, и на его место встало нечто, слегка теснящее грудь и опьяняющее. Эйдин дернул полотенце и помотал головой; он старался выкидывать из головы все сны, как только он просыпался, иначе неподобающие мысли начинали свою круговерть, и он с трудом мог их отправить восвояси.
Эйдин вышел из ванной и включил свет в спальне – та было в полном беспорядке. Вокруг стола валялись бумаги, на паркете синело пятно от чернил, а пиджак вместе с галстуком и вовсе были развешены на стульях. Привычным движением, будто для него, это было уже знакомым жестом, он повязал шарф и постарался не закрыть глаза, когда уловил знакомый запах. Ему мог помочь только исключительный порядок. Комната наполнилась музыкой Верди, и Гилберт быстро поднял клочки папиросной бумаги, и, не глядя, отправил их в мусорку, правда, когда на одной из них показался знакомый почерк, он поднял ее, разгладил и машинально положил ее в ящик стола. Следом за ней отправились и «вечные» вперемешку с письмами Джейн и корреспонденцией для Линды. Он мельком посмотрел на письмо, однако когда увидел подпись «Д.Лорд», пожал плечами, и, открыв дверь, вошел в спальню жены. В комнате миссис Гилберт был еще больший беспорядок, чем в его, однако Эйдин не стал подбирать ни скинутый с плеч шелковый халат, ни маленький флакон «Джой» Пату, чей душный запах заполнил всю комнату. Он только осторожно перешагнул через все вещи и положил письмо на стол и только обернувшись, понял, что белая постель Линды была нетронута. Эйдин призадумался – вчера ночью он вернулся из университета, однако света в ее спальне не было, позапрошлой ночью ему показался поворот ключа в замочной скважине, однако он был так занят разбором пометок Мадаленны на полях его работы, что не встал и не посмотрел, пришел ли кто. А позапозапрошлой ночью? Эйдин нахмурился, но не от досады, а от того, что никак не мог вспомнить, видел ли он фигуру жены окне спальни, когда возвращался с конференции.
Наверное, Линда осталась ночевать в доме Эдит Винтер. Или уехала на несколько дней к Уилсонам. Или к кому-то еще. Гилберт остановился около двери и пригляделся к зеленому бархатному костюму, на рубашке были явно видны следы губной помады, а пиджак благоухал тяжелым одеколоном. Значит, усмехнулся Эйдин, они оба пристрастились к странному парфюму. Он должен был ревновать, должен был срывать провода телефонов, носиться в ночи и выяснят, куда пропала его жена. И несколько лет, даже месяцев назад он так и делал. Разъезжал по чужим поместьям, заглядывал на веселые вечеринки и видел Линду – улыбающуюся, смеющуюся, которая кружилась в дыме открывающихся пробок шампанского и дорогих сигарет. А потом ему вдруг надоело. В этом не было вины Линды, подумал Эйдин и машинально поднял шелковый манжет с ковра – на него наступила чья-то подошва, и он посерел. Во многом он был виноват сам – не принял образ жизни жены, не поддержал ее в желании отдохнуть, не понял ее усталости. Ему бы и хотелось спрашивать, куда все ушло, как они смогли дойти до того, что больше ничего не чувствовали друг к другу. Но ведь это был бы простой акт вежливости в адрес двадцати лет брака. Тот поцелуй в его библиотеке; Эйдин знал, что он стал началом конца, когда он не почувствовал ничего, кроме легкой досады – обязательно надо было ставить его и мисс Стоунбрук в такое дурацкое положение? Осталось только равнодушие и неясное волнение.
Слова Филипа всплыли внезапно, и ему показалось, что старый садовник встал за его спиной и пристально смотрел на его метания. Действительно, смерть случалась не только с человеком, но и с чувствами. И, оказывается, не каждый раз уход должна была сопровождать агония. В его случае это было смиренное принятие, похожее на то, с которым некоторые люди прощались с тяжело больным родственником – когда-то он был центром их мира, но его болезнь так долго длилась, что смерть стала ожидаемой. Она просто произошла. Разумеется, после этого была бы все равно боль, однако и той суждено было пройти. Эйдин не задавался вопросом – была ли любовь вообще; разумеется она была, и достаточно сильная. Однако, видимо, что-то он сделал однажды не так. В тонкий механизм попала маленькая щепочка, а он, не замечая этого, продолжал раскручивать колесо дальше. С каждым днем колесо вертелось все медленнее, медленнее. Пока не застыло и вовсе. Наступила смерть священного механизма.
Но ведь за смертью всегда шла жизнь, мелькнула крамольная мысль, и Эйдин мотнул головой. Это было безумие. Ему было сорок шесть лет, в таком возрасте люди не искали новых чувств, а бережно хранили старые, складывая их в милую коробочку из блестящей бумаги, чтобы потом открывать и смотреть на них с щемящим воспоминаем, вот, мол, когда-то такое было! Ему было сорок шесть лет, у него была масса проблем и воспоминаний, у него была взрослая дочь, в конце концов! Он не имел никакого права вешать свои переживания на шею другого человека, другой девушки, которой и так пришлось терпеть ярмо фамилии и нрава взбалмошной старухи. Она не знала ни беззаботности, ни свободы, однако когда последняя осторожно коснулась ее, та расцвела такой улыбкой, что Гилберт застыл на месте.
Эйдин судорожно дернул ручку двери и вышел из спальни. Его комната выглядела вполне прилично, чтобы Бассет не падал в обморок от куч бумаги и пыли от пишущей машинки. До спектакля оставалось еще достаточно времени, но Гилберт достал из шкафа пиджак и приложил к себе. Он куда более охотно надел бы свитер, но вряд ли бы его пустили в Оперу в таком наряде, да еще и бы в очередной газете наверняка бы вышла ехидная заметка о том, как «столичные профессора изобретают свой собственный дресс-код». Ему в сущности было все равно, но тогда бы Джейн точно сказала, что он позорит ее. Эйдин проворчал что-то про себя и накинул пиджак на рубашку – ту надо было сменить, она была сероватой, а с черным сюртуком шел только белый хлопок. Не глядя, он перекинул рубашку через руку и принялся спускаться по лестнице. На кухне послышался голос Джейн, и надо было пожелать ей доброго утра, доброго дня или вовсе доброго вечера.
Гилберт неспеша вышел в столовую, однако дочери там не было. Линды тоже, только легкий запах «Джой». Гилберт обернулся, а потом вдруг услышал легкое всхлипывание – будто щенок скулил. В груди неприятно стянуло, и он ринулся вон из столовой на звук. Джейн, его дорогая, родная, милая Джейн, сейчас она рыдала, сидя у кухонного стола, пряча лицо в руках, и во многом именно на нем лежала вина за эти слезы. На минуту он застыл на пороге, однако когда дворецкий было подошел к ней со стаканом воды, он хмуро отослал его и присел рядом. «Джейн нужен отец, сэр.» – послышался голос Мадаленны, и он обнял свою дочку. Мисс Стоунбрук оказалась и на этот раз права, с болью подумал он, когда почувствовал, как руки дочери недоверчиво обвились вокруг него, сминая ткань рубашки. Его девочка была слишком, она смогла заметить то, что не смогли заметить они с Линдой. Постепенно всхлипывания Джейн становились тише, и он снова почувствовал слабый запах шампанского. Его Джейн снова перепила, и на этот раз он не мог винить никого, кроме себя.
– Присядь, дорогая. – он помог ей сесть за стул и вытащил из кармана носовой платок. – Что случилось, котенок?
– Ничего, – всхлипнула на конец Джейн и постаралась сложить губы в кривую улыбку. – Правда, ничего. Ты же знаешь, какой ранимой я становлюсь, когда перепью.
– И в чем причина пьянства в стиле Фицджеральда? – Эйдин осторожно вытер слезы и постарался улыбнуться. – Статья о брошенном щенке?
– Папа! – возмущенно толкнула его локтем Джейн, и он понял, что первая буря миновала. – Как ты можешь так бездушно отзывать о брошенных животных?
– Прости, дорогая, я постараюсь стать более чутким. И все же, что случилось?
– Так, – пожала плечами его дочь. – Что-то накатило, вот и все.
– Ну, если ты каждый раз будешь напиваться, когда на тебя будет что-то накатывать, станешь отъявленной пьяницей. – он убрал из ее рук стакан и вылил все шампанское из бутылки в раковину. – Джейн, – он резко повернулся к ней. – Только один совет. Позволишь?
– Пожалуй. – мотнула головой его дочь.
– Когда я спрашиваю тебя, что случилось, лучше один раз ответить правду, чтобы я потом ее не вытягивал из тебя клещами. Так что случилось?
Джейн какое-то время молчала, потом уголки ее губ странно дернулись, и Гилберт подготовился заново вытаскивать носовой платок. Но Джейн не заплакала. Он села поудобнее на стуле и подперла щеку рукой. Эйдин знал, что сначала она скажет ему неправду, и только напоследок она вымолвит то, что действительно ее мучало. Он был готов сидеть на кухне ровно столько, сколько этого требовалось.
– Майкл Диггер не пригласил меня на праздник.
– Какое упущение. Для Майкла Диггера. И что они празднуют?
– Освобождение бобров от браконьеров.
– О, так вот откуда это настроение в пользу брошенных животных. – он увернулся от толчка в бок и позволил себе усмехнуться. – И тебе так хотелось увидеть этих несчастных зверушек?