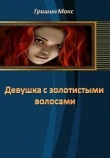Текст книги "Магнолии были свежи (СИ)"
Автор книги: Ann Michaels
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 68 страниц)
По аудитории пошел оживленный гул; темнота всегда всех объединяла, в темноте всегда все становилось непонятнее и немного страшнее. Все сбились в одну кучку, и на один короткий момент студенты перестали быть почти взрослыми людьми и снова стали школьниками, играющими во время перерыва.
«Соберись, Эйдин. Раз-два, и начинай! Ну же, давай!»
– Что вы сейчас перед собой видите? Полную темноту, так? Вы не можете быть уверены ни в одном вашем движении, вы боитесь упасть, вы парализованы. Так вот, это Средние века. Полная темнота и неспособность сделать хоть что-нибудь. Люди шли наугад, боясь инквизиции и казни. Из всего искусства создавались одни фрески в соборах, а из музыки пели хоралы. Все было словно накрыто черной занавесью. – его голос звучал ровно, и слова складывались в гармоничные фразы. – Но что, если вдруг появится один человек, который решится скинуть это покрывало? Неспеша, осторожно, – он подошел к окну и слегка приподнял штору; солнечный луч скользнул по полу и остался в чьих-то рыжих кудрях. Его слушали, в тишине было даже слышно, как жужжала последняя осенняя муха. – Да Винчи приподнял занавесь Средневековья, затем на его смену пришел Микеланджело, – квадрат света на полу стал шире, но аудитория все еще была темной. – А следом – Рафаэль. И вместе, эта легендарная тройка гениев, создала Возрождение.
Вжик. Шторы резко разъехались в сторону, и в аудиторию хлынул солнечный свет, ослепляя и даря надежду. Все прищурились, кто-то тер руками глаза, но студенты улыбались и смотрели с удивлением на то, как утреннее солнце мягко покрывало доску и длинный ряд скамеек.
– Но должен сказать, что подобный метод введения в курс я позаимствовал у одного автора. Русского писателя, и если кто-то мне назовет его имя, я сразу поставлю этому студенту «отлично». Кто знает?
Все начали переглядываться, шушукаться; несколько раз прозвучали имена Достоевского и Толстого, и когда он уже хотел махнуть рукой и приступить к самому занятию, около него раздался едва слышимый шепот. Будто трава прошелестела. Он обернулся, около стены стояла Мадаленна. В длинном черном платье с белым воротником и прохладными серыми глазами она напомнила ему монахиню с картины Коллинса. Он мог поклясться, что слышал ее голос.
– Мисс Стоунбрук, мне кажется, я услышал верный вариант. Пожалуйста, повторите еще раз.
– Владимир Набоков.
Все снова переглянулись, и по кабинету пронеслись сдавленные смешки. «Лолита» стала хитом последних лет, и о книге всегда говорили вполголоса и закатывали глаза. Шутка ли, сама католическая церковь объявила, что это отвратительно произведение, и что автора нужно сжечь. К произведению Эйдин относился с легким недоумением, но вот автора уважал и ценил.
– Тихо, тихо, – он подошел к кафедре так, чтобы лучше видеть лицо Мадаленны. – Поверьте, Набоков написал не одно произведение.
– А что, – подал голос блондин с первой парты. – есть что-то еще в таком духе?
Все рассмеялись, но Мадаленна и ее подруга остались невозмутимыми. Она снова что-то прошептала, и Эйдину показалось, что она сказала что-то про Мадонну.
– Боюсь, на ваш изощренный вкус, мистер Джонс, книг у этого автора нет. – студенты рассмеялись. – Но, я полагаю, мисс Стоунбрук знакома и с другими произведениями этого автора, не так ли? – Мадаленна кивнула, и он продолжил. – Что вы у него читали?
– «Облако, озеро, башня», сэр.
– И вам понравилось?
Мадаленна помолчала и ответила:
– Это единственное произведение, из-за которого я плакала, сэр.
– Значит, действительно зацепило, не так ли?
Мадаленна кивнула, и Эйдин почувствовал, что внутри у него отчаянно прокричало в защиту мисс Стоунбрук. Она не могла врать, только не такой человек, который еще читает такие пронзительные рассказы, только не тот, кто может чувствовать так тонко. Тогда что крылось за этим эссе? Он хотел подойти к ней и спросить напрямую, но это была аудитория, а не теплица, и он был преподавателем, а она только ученицей.
– О чем это произведение, сэр? – откликнулась миловидная брюнетка, ее звали Магда.
– О чем? – он сел за кафедру и дал знак рассаживаться по местам. – Как вы думаете, мисс Стоунбрук, о чем это произведение?
Мадаленна успела спрятаться за большой папкой; он понимал, что тормошит ее, наверное, даже злит, но не мог ничего поделать. Впервые за долгое время он поверил в человека, и ему не хотелось разочаровываться. Его самого злила и обескураживала подобная непонятная зависимость, он не был привязан ни к кому, кроме трех самых дорогих ему людей, и вдруг такое горячее желание убедиться в настоящей чистоте человека, которого он и не так уж хорошо знал.
– Полагаю, о том, что система ломает все, сэр. – послышался холодный голос Мадаленны. – О том, как сложной пойти против общего мнения, но если все же пойдешь, то можешь обрести истинное счастье. И… – она замолчала, но Эйдин выжидательно посмотрел на нее, и Мадаленна продолжила. – И том, какое действие может оказать природа на человека. Природа, – помолчав, добавила она. – Это самая мощная энергия в мире, она способна на все.
Голос ее немного потеплел, и в глазах, Гилберт был уверен, мелькнуло что-то прежнее тепличное, когда их беседы не ограничивались сухими «Да, мисс Стоунбрук? – Да, сэр.»
– Замечательно. Надеюсь, что и вас, – он посмотрел на притихших студентов. – Заинтересует этот рассказ. Он читается за три минуты, но, поверьте, для кого-то эти три минуты станут поворотными. Спасибо, мисс Стоунбрук, а теперь к теме занятия. Записываете тему: «Возрождение. Временные рамки. Основные особенности». Записали? Тогда начинаем.
***
Занятие прошло неплохо. Его студентов, видимо, поразило интересное вступление и вплоть до конца не было слышно ни перешёптываний, ни шушуканий, ни тихого смеха. Все усердно строчили за ним в тетрадях, поправляли очки и изредка смотрели на гипсовую голову Давида, стоявшую прямо на его преподавательском столе. Эйдин читал свою старую лекцию, он специально выбрал ту, которую писал лет десять назад, тогда он еще не до конца разуверился в том, что делал, но и ненужной эйфории было поменьше. Он рассказывал об этапах Возрождения, о его влиянии на весь мир, о прекрасной Италии, о том, что через несколько веков течение под названием «прерафаэлиты» специально вернутся назад к старым принципам и идеалам. Студенты его слушали и слушали с интересом. И вдруг время вышло. К счастью, он успел сказать последнее слово, когда стрелка часов остановилась на десяти утра.
– И я вас попрошу задержаться на еще одну минуту. – он достал свою папку и вытащил эссе. – Я проверил ваши работы и выставил оценки. Оглашать результаты не буду, пускай сам каждый ко мне подойдет, и я отдам его работу. Мистер Диквелл, прошу вас, мисс Стоун, ваше эссе интересное, но я бы прочел еще пару страниц. Мисс Олли, хорошие мысли, но еще один аргумент не повредил бы…
Он поставил почти всем «отлично», только за редким исключением он обвел некоторые оценки в кружок, и по его расчетам кто-нибудь обязательно должен был его спросить…
– Сэр, а что значит оценка, обведенная в кружок? – мистер Джонс повернулся к доске и присмотрелся к Эйдину.
– Это значит, что эссе оценено отлично, но мысли не ваши.
– Но, сэр…
– Не беспокойтесь, оценка все так же идет в отчет, просто в следующий раз я попрошу добавить больше оригинальности.
Он видел, что Мадаленна остановилась. Она почти вышла из кабинета, но осталась стоять на пороге. Все выходили в коридор, а она так же сжимала листы эссе и смотрела на парты. Она что-то шептала про себя, но слов разобрать он не мог.
– Сэр, могу я спросить? – она подошла к кафедре, пока он объяснял Эффи Доусен, почему не надо ставить красную строку куда попало. – У меня вопрос по сочинению.
– Разумеется, мисс Стоунбрук. Подождите немного, сейчас я закончу, и мы сможем обсудить ваш вопрос. Поймите, мисс Доусен…
Мадаленна кивнула и с сумрачным видом села за парту. Эффи тянула время, и Эйдин почти начал выходить из себя, но все же всем разглагольствованиям на тему оформления пришел конец, и Эффи, бросив недовольный взгляд на Мадаленну, вышла из кабинета. Мисс Стоунбрук невидяще смотрела на доску, будто за матовой эмалью скрывалось нечто, невидимое для обычного глаза.
– Сэр, я хотела спросить насчет моего эссе. – проговорила она, и он не удержался от невольной улыбки.
– Здравствуйте, мисс Стоунбрук.
Мадаленна все-таки взглянула на него в ответ, и прозрачная стена начала медленно крошиться. Тяжелая тень субординации поблекла, и он увидел, как прохлада в серых глазах на немного сменилась теплом, правда, ненадолго, и в следующий момент перед ним снова была Мадаленна Стоунбрук, вечно насупленный садовод, рассуждающий об искусстве.
– Здравствуйте, мистер Гилберт.
Что можно было сказать? «Последний раз мы с вами виделись в Портсмуте?» «Какой удивительный сюрприз, мисс Стоунбрук?» Все это было глупым, странным, и каким бы их знакомство не было, субординация была, и расстояние теперь правило балом.
– Сэр, я хотела спросить, что не так с моим эссе?
– Это не ваши мысли, мисс Стоунбрук.
– Но я писала это эссе сама! – воскликнула Мадаленна, и Эйдин почувствовал как что-то похожее на сожаление всколыхнулось внутри. – Я весгда пишу их сама.
– Я не сомневаюсь, мисс Стоунбрук. Но это не ваши мысли.
Мадаленна пристально посмотрела на него, но он отошел к окну. Сложно было подбирать слова в подобной ситуации, никогда в жизни с ним не происходило подобного. Он был сконфужен, смущен и не понимал, как себя вести.
– Понимаете ли в чем дело, мисс Стоунбрук. Для меня самое главное, чтобы студенты в своих эссе отражали свое мнение. Настоящее, искреннее. Чтобы они умели грамотно аргументировать его.
– Но это мое мнение. – возразила Мадаленна.
– Не ваше.
– Прошу прощения, сэр, – в ее голосе послышалось тщательно запрятанное раздражение. – Но я боюсь, что вы не можете знать мои мысли… – и осеклась.
Он усмехнулся, но усмешка вышла не ехидной. Гилберт понимал ее, даже сочувствовал. Ситуация действительно была странной, и в других условиях он поставил бы «отлично» не думая, но их знакомство переменило если не все, то многое. Ему нужны были ее мысли, возможно, острые, не похожие на его, но живые, а не аккуратные и похожие на остальные. Мадаленна пыталась справиться со своими эмоциями, и о ее досаде и растерянности говорило только то, как она сжимала руки в кулаки. Она привыкла сдерживать и гнев, и обиду, подумал вдруг Эйдин, и попытался понять, что это за ужасная жизнь, когда каждое чувство приходится прятать под замок.
– Сэр, не принимая во внимание наше знакомство…
– Но оно было. И я слышал все ваши речи, ваши аргументы, временами жестокие, но правдивые. И я не могу не принимать это во внимание. – он посмотрел на ее эссе, неряшливо валявшееся на столе; один лист висел на краю, а другие упали на пол. – Поймите, мне нужна честность, а не аккуратные мысли ровно на «отлично».
– Это так принципиально?
– Считайте, что вам не повезло с преподавателем.
«И вам ли говорить о принципах, гордая итальянка.»
– Но вы бы снизили оценку за плохую аргументацию.
– Именно за аргументацию, а не за чужое мнение. Конечно, если бы вам просто была нужна оценка…
– Да. – резко ответила Мадаленна и посмотрела на него. Прохлада, не холод, а именно прохлада – неживая и спокойная – сияла в серых глазах.
Значит, это все же был обман. Жаль. Ему на короткое время показалось, что он снова нашел те идеалы, в которые когда-то верил, ему почудилось, что подобные люди еще не умерли, и надежда на светлое будущее снова засияла впереди, но, честно говоря, это была глупость – надеяться на то, что подобное сохранилось в его время. Мисс Стонубрук все еще была обычным человеком, со своей жизнью и со своими обычными желаниями. Тогда в теплицах он наткнулся на другого человека, и, как бы он сейчас не всматривался в ее лицо, он не мог увидеть того же самого, что заставило его вступить в разговор. Не она была виновата в том, что он, Эйдин Гилберт, восхитился ее принципами и чуть ли не поставил на вершину нравственности и храбрости. Старый романтик снова столкнулся с обычной жизнью. Дурак, да и только.
– Что ж, – быстро проговорил он. – Тогда все понятно. Давайте ваше эссе, я поставлю оценку в ведомость, и вы можете быть свободны.
Он открыл журнал, и почти нашел фамилию Стоунбрук, когда рядом с ним раздалось сдавленное восклицание, а когда он посмотрел на Мадаленну, в руках у нее было еще одно эссе. Он вспомнил, не много ли он вчера выпил хереса вечером, но второе эссе все так же было в руках Стоунбрук, а она хмуро смотрела по сторонам.
– Что это?
– Мое эссе.
– Вы что написали второе прямо сейчас?
– Нет. – угрюмо ответила Мадаленна. – Я написала два варианта тогда, но не знала, какой отдать.
– И решили тот, что похуже, да?
– Тот, который мог принести «отлично». Я ошиблась.
Прохлады во взгляде больше не было. Там была пустота и что-то еще, но что именно он разобрать не смог.
– С такой способностью к писательству вас на конференции каждый семестр посылать надо. – проворчал он и взял листы.
– Только, пожалуйста, не читайте его при мне, сэр. – выпалила Мадаленна, и изумление Эйдина достигло своего предела. – Прошу вас.
Не будь они знакомы, просьбу бы посчитали глупой, и Мадаленну попросили не чудить и сказали ждать в кабинете до оглашения результата. Но Эйдин знал Мадаленну, и видел отчаяние, которое тщательно скрывалось за холодной маской. Как он смог ее понять, Гилберт и сам не знал, и старался не думать.
– Хорошо, – вздохнул он и вытащил папку для бумаг. – Сделаем так, вы выйдете за дверь, а я открою первую страницу, согласны?
– Хорошо, сэр. Спасибо.
Мадаленна почти вышла за дверь, и ее желтый плащ исчез в проеме, когда на рыжие кудри упал луч света, и он услышал тщательно отрепетированный мрачный голос:
– Мистер Гилберт, вы на меня не обижаетесь?
«Почему современное искусство изживает себя, или как Мону Лизу относят на свалку якобы пережитого?»
– Нет, мисс Стоунбрук, – он улыбнулся и неслышно перевернул страницу. – Я на вас не обижаюсь.
Комментарий к Глава 10
Буду очень рада вашим отзывам).
========== Глава 11 ==========
– Мэдди, бога ради, встань смирно и не шатайся из стороны в сторону! – Хильда дернула внучку за рукав, и ваза опасно накренилась в сторону. – Что с тобой такое сегодня? Все крутишься, вертишься… Что случилось?
– Ничего, Бабушка. Все хорошо.
Мадаленне наконец позволили сползти с высокой стремянки, и она села на ступеньки лестницы, ожидая новых приказаний. Ежегодный сентябрьский прием все-таки должен был состояться. Хильда созвала гостей из всей Англии, кто-то собирался даже отменить охоту в Шотландии и приехать к самому началу. Прием в сентябре был только названием, на самом деле дом наполнялся гостями на весь месяц, и слуги мотались каждую секунду из комнаты в комнату с фазанами и лимонадами в одной руке, и белыми бинтами в другой. Все сословия, кроме самых низших прибывали в Стоунбрукмэнор и располагались в старых комнатах, где каждая фреска служила напоминаем о том, сколько поколений Стоунбрук жило здесь. Хильду особо сильно не любили, и в первые годы смерти Эдмунда даже не хотели наведываться в гости, но взбалмошная старуха смогла всех убедить, что визиты к ней станут основой благополучия всех остальных важных родов Англии, да и потом какие пэры могли отказать себе в том, чтобы бесплатно поесть и полежать в постели, которую когда-то потрогала сама Мария Стюарт. Хильда и сама не особо жаловала своих гостей, и за глаза называла их «спиногрызами», но будучи дочерью обедневшего промышленника, она все еще болезненно реагировала на родовитость и чистоту рода, а потому видеть, как эти знаменитые верхушки раскланивались перед ней в реверансах, было для нее настоящим наслаждением. Аньезе и Мадаленне отводилась не самая благородная роль на этом празднике жизни. Бабушка и вовсе сослала бы их на кухню, но это было слишком даже для нее – не признавать жену и дочь ее Эдварда, к тому же самые снобы тянулись к естественной простоте Аньезы и немного угрюмому юмору Мадаленны. Они были единственными живыми людьми в этом параде восковых фигур, а от того Хильда прятала их в тяжелых портьерах и просила изредка Мадаленну сыграть на фортепьяно или Аньезу спеть какую-нибудь грустную балладу, причем Мадаленна каждый раз чувствовала себя наряженным попугаем, и каждую ночь обещала себе, что это последний вечер. Но мама каждый раз говорила потерпеть ее еще немного, ради отца, и дочь сдавалась, качала головой и натягивала на себя знакомое черное бархатное платье – Бабушка специально сшила его для особенных вечеров, и оно даже не успело износиться. Странного фасона, открывающим плечи и с низким вырезом, она чувствовала себя в нем неудобно. Но обычно Мадаленна не успевала даже почувствовать себя некомфортно, только она заканчивала последние приготовления к вечеру, как тот уже заканчивался, и она со спокойно совестью зачеркивала очередной день в календаре. На ее плечи ложилась вся подготовка; она заказывала еду и закуски, проверяла, хорошо ли взбиты одеяла в спальнях, смотрела за тем, не выкипела ли глазурь в кухне, а потом носилась с одного этажа на другой под громкие крики Хильды, что все стоит не на том месте, и гортензии надо заменить на камелии. Об учебе в это время думать не приходилось, и Мадаленна радовалась, что прием был в сентябре, в самом начале семестра, а не в канун Рождества, когда долги неслись за ней со скоростью тысячи миль в час. Хильда требовала от нее собранности, строгости, холодной головы, и так оно и было; обычно. Но в это раз все несколько поменялось. Мадаленна еле удерживала в своих руках тяжелые вазы, чуть не падала с широких ступеней, и чуть не проворонила поднявшееся тесто. Сначала она решила, что нервы шалят из-за нового учебного семестра и попросила у Полли настойку из корня липы, но тогда в кухню зашла Аньеза, загадочно посмотрела на дочь и забрала настойку обратно. Мадаленна даже не стала спрашивать почему. Она знала, что ответ и так был готов, но пока она его не замечала, все было хорошо. Такого раньше с ней никогда не было, она никогда не чувствовала вину за свои поступки, потому что она всегда поступала по правилам и старалась жить так, чтобы не разочаровывать близких людей. А близких у нее было только трое – отец, мать и старый мистер Смитон. Все остальные были только тенями в этом мире, они существовали для нее только в определенные часы, и, даже если их общество было для нее приятно, она не привязывалась. Все уходили из ее жизни, все как-то исчезали, не оставляя после себя ничего, кроме боли; это Мадаленна усвоила еще в раннем возрасте. Не могло быть того, чтобы появился кто-то еще, четвертый, чье мнение было бы важно для нее, на кого она смотрела бы с восхищением и уважением, такого не могла допустить судьба, потому что он тоже бы ушел навсегда.
Но он появился, и догадка настигла Мадаленну ночью. Она помнила, что ей снился сон, странный. Был лес, и был туман. А еще был голос, приятный, зовущий, он обещал защищать ее всю жизнь, говорил, что может стать ее другом. И взамен просил только одного – быть честной, не с ним, а с самой собой. Она подумала, что это очередная ловушка и рванула в другую сторону, ожидая погони, но за ней никто не гнался, и голос растворился вдали. Одна в темном лесу. Ей было страшно, одиноко и холодно. «Мне не страшно!» – сказала Мадаленна. Ветки согнулись и зашумели, цепляясь за ее платье. «Мне не страшно!» – крикнула Мадаленна, и сквозь туман засветил странный месяц; он накренился в ее сторону и зацепил ее туфлю острым концом. «Мне не страшно!» – крикнула она, и, помолчав, добавила: «У меня есть друг!» Все зашлось кругом, но ночь отступила, и она увидела, как бледное солнце засияло за кромкой деревьев. «У нее есть друг.» – громко проговорил голос, и она вдохнула полной грудью. Она не была одинока, и у нее наконец-то появилась надежда. И когда ее таинственный друг был готов появиться, она проснулась. Не мучаясь от кошмаров, не стараясь выбраться из тягучей дремы; Мадаленна просто открыла глаза, и таинственный голос перестал быть тайной. Ей больше не было страшно, и чья-то забота не тяготила, а была в радость. Все это было странным, непохожим на то, что она чувствовала раньше, и она села в постели. Больше всего в жизни ей хотелось независимости, но где-то глубоко, там, куда не могла пробраться даже она сама, все еще жило желание найти верного и доброго друга, который поддерживал бы ее тогда, когда она была готова упасть. Она жила одна, но кто сказал, что именно это ей и было нужно.
– Нет! – выкрикнула Мадаленна, и от звука собственного голоса ей стало немного лучше.
Она жила сама по себе долгие десять лет и привыкла к этому. Даже научилась получать удовольствие от того, что могла позаботиться сама о себе, и ей вовсе не нужна была поддержка того, кто не знает ее, кто спорит с ней, кто… Но аргументы закончились, и она спросонья потерла глаза. В дверь кто-то тихо постучал, и через минуту на пороге показалась Аньеза. Мадаленна молча кивнула, и мама прошла в комнату и присела на кровать. Ее дочка была вся растрепанной, сонной, и миссис Стоунбрук впервые заметила небольшую морщинку на переносице. Как она и думала, ее дочь не спала, и постель была вся сбита. Но она хотя бы не плакала; ее слезы мама точно не смогла бы выдержать.
– Он сильно рассердился?
Мадаленна не могла смотреть на маму. Та ведь ее предупреждала, говорила, чем она рискует, но она уперлась и рискнула не поверить проницательности своего знакомого. Чувство стыда снова проснулось, и внутри все скорчилось, когда в памяти возникли его глаза. Он был разочарован. Удивлен. И при этом в нем была какая-то странная обреченность, словно произошло то, чего он и так ожидал. Ей тогда показалось, что она упадет. Прямо на пол, на грязно-серый паркет. Упадет и не встанет, потому что внезапно ей стало важно, чтобы именно этот человек верил в нее и в ее непогрешимость. Мадаленна и не подозревала, что еще остались подобные романтики.
– Хуже. Он будто бы разочаровался.
Аньеза нерешительно приобняла дочку. Разумеется, она еще скажет, что она же говорила, но не сейчас. Может в поступках Мадаленны была и ее вина. Не родись она в этом страшном доме, не думала бы только о деньгах. Повышенная стипендия, ради нее она-то и старалась учиться на одни «отлично» и редкие «хорошо». Аньеза как-то пробовала возразить, что эти деньги им не нужны, но Мадаленна только молча положила сто фунтов в ее расходную книгу и поцеловала. Девочка слишком рано узнала, что такое долги и работа за жизнь. Аньезе снова привиделся остров посреди голубой воды, и золотое солнце, но потом все накрылось черной тканью, и она открыла глаза. Марии не было давно, и надо было это принять. Как приняла Мадаленна, хотя, в глубине души, Аньеза знала, что ее дочь так и не свыклась с потерей любимой бабушки, просто не рассказывала об этом.
– И что ты сделала? – она аккуратно расправила дочери воротник халата и поцеловала в лоб. – Сдала второе?
– Да. – глухо ответила Мадаленна из ее объятий.
– Он принял?
– Сказал, что с моими способностями к писательству, меня можно посылыть на конференции каждый месяц.
Аньеза рассмеялась и погладила дочку по голове. Черствый прагматизм Хильды еще не до конца пробрался в милую головку Мадаленны, и гордая дочь Италии пообещала себе, что по приезду Эдварда сразу отправит ее в Лондон на вольную жизнь. Ее дочка будет жить в просторной квартире, дружить с хорошими людьми и жить так, как всегда мечтала. Больше не будет никакой грозной Бабушки, больше она никогда не будет хмуриться. Надо только дождаться.
– Я еще спросила, не обижается ли он на меня? – прошептала Мадаленна, прижимаясь к маме, и Аньеза почувствовала, как ее щеки коснулось что-то мокрое.
– И? Что он ответил?
– Сказал, что не обижается. – Мадаленна не вытирала слезы, бегущие по горячим щекам. – Сказал и улыбнулся. Я слышала, как он улыбнулся.
– Значит, все хорошо? – прошептала Аньеза.
– Да.
– С тобой еще посидеть?
– Нет, мама, – она поцеловала ее в щеку и поудобнее устроилась около окна. – Я должна побыть одна. Немного. Хорошо?
– Конечно. – Аньеза обняла ее еще раз и присмотрелась в утомленное лицо. – Только не думай слишком долго, а то тебе рано вставать.
Мадаленна кивнула матери и посмотрела в окно. Она не знала, сколько было времени, но на востоке солнце еще не встало, и небо было темным. Радость; странно, но в ее сердце поселилась радость, и она задумчиво дотронулась до воротника халата. Мадаленне всегда было интересно узнать, каким было это чувство. В книгах всегда его описывали каким-то буйным цветом, словно это был ураган, нечто, сметающее все преграды, и это пугало ее. Ей казалось, что радость не может быть только одной на все события жизни. Не может быть такого, чтобы человеку было одинаково радостно и от куска заветного пирога и от долгожданной встречи с родным человеком. Когда пришла телеграмма от отца, она была счастлива, но это было другое – это была долгожданная радость. Каждый день она знала, что этот момент придет, и немного болезненное, тянущее ощущение близкого счастья стало уже привычным для нее. Но тот факт, что мистер Гилберт не был до конца разочарован в ней, что он еще верил в нее, все это поселило неведанную до этого тихую благодать. Мадаленна была рада; рада, что смогла себя оправдать, рада, что не обидела этого человека, только не его. Это было странно, но ей казалось, что за несколько дней в ней что-то поменялось. Случись это месяц назад, и она обязательно бы думала только о том, что посмела себя унизить просьбой. Она бы лелеяла свое эго и не задумывалась о том, что поступила некрасиво, обманув доверие человека, достойного человека. Нужно было признать – они действительно познакомились при интересных обстоятельствах, и в университете их общение стало более необычным, но они уже знали друг друга, и Мадаленна в глубине души все равно восхищалась умом Эйдина и его добротой. Сейчас шла речь не о ее гордыни, а том, что она не могла врать такому человеку – интелигеннтному, глубокому, мыслящему. Не тому, кто заметил ее, кто завел разговор, хотя мог просто улыбнуться и пройти мимо. Такое общение следовало ценить, и она была глубоко благодарна тому, что мистер Гилберт выделял ее из всех остальных. Она могла его стесняться, она могла быть нелюдимой, но не уважать его она не могла.
Спокойная улыбка вспомнилась внезапно, и Мадаленна улыбнулась в ответ. Ночь была спокойной, тихой, она закрыла глаза, положила руку под подушку и с облегчением вздохнула. Теперь кошмары ее не мучили.
***
– Мэдди! – голос Бабушки раздавался по всему дому, и Мадаленна выглянула из-за дверцы платяного шкафа.
Этим утром все шло как-то наперекосяк: и на платье оторвались пуговицы, и в волосах застрял гребень, но плохого предчувствия не было, и Мадаленна была весела, чуть ли не пела. Ей было хорошо, на сердце будто бы не было тяжелого камня, и она с удовольствием вдохнула осенний воздух. С соседнего поля тянуло сгоревшей травой, а из города свежей сдобой, и Мадаленна мысленно отметила про себя новые сентябрьские запахи этого года. Если бы она могла еще их и поместить в стеклянные колбы с шелковыми лентами, и открывать их в любое время…
– Мэдди! Что ты там копаешься? – Хильда снова крикнула, и на этот раз сварливее.
Мадаленна быстро застегнула платье, поправила гребень, будто так и должно было быть и принялась спускаться по лестнице. Эти дни перед самим праздником всегда были нервотрёпкой для всех обитателей дома, кроме старой миссис Стоунбрук. Она словно оживала и носилась по особняку с такой скоростью, что сложно было подумать – эта женщина перенесла два удара. Праздник вселял в Хильду новые силы, она молодела и отдавала приказания с новым рвением, а Полли с Фарбером мечтали о том, чтобы эта долгая неделя наконец подошла к концу, и надоедливые гости разъехались по домам.
– Мэдди, я тебя зову уже битый час!
– Прошло только десять минут, бабушка.
– Не пререкайся со мной! – воскликнула Хильда и повернулась к столовой.
Там уже было почти все готово – столовое серебро сияло и отбрасывало тени на кованый камин, зеленые портьеры подметали пол своими тяжелыми кистями, а подсвечники блестели бриллиантовыми подвесками. Не хватало только массы народа во фраках и вечерних платьях, которые ходили вокруг, трогали безделушки и полушепотом обсуждали – отравила ли Хильда своего мужа, или тот просто не выдержал жизни со своей женой. На таких разговорах Мадаленна обычно выступала безмолвным свидетелем, но ее взгляд был куда красноречивее любых слов. И когда гости замечали внучку Эдмунда Стоунбрука, то смущенно улыбались и отходили подальше от Мадаленны и тяжелых канделябров. Итальянская кровь могла неожиданно взять в ней верх, и кто знал, какими последствиями это обернется. Но Мадаленна не собиралась защищать бабушку, она просто не хотела, чтобы имя дедушки мешали с грязью.
– Что с китайскими фонариками? Их привезут?
– Их уже привезли, бабушка.
– Что? – завертелась на месте Хильда. – Почему я их не вижу?
– Я решила, что лучше их повесить во дворе.
– Ах, ты решила? – прищурилась старуха и сжала руку внучки. – А скажи по какому праву ты решила, что можешь распоряжаться чужими вещами?
– Вы же сами сказали, бабушка, чтобы я присмотрела за украшением дома. – Мадаленна спокойно высбодила руку и отошла немного в сторону. – Оказалось, что фонарики не подходят обстановке столовой и гостиной, и лучше смотрятся в саду.
– Ну уж позволь мне самой это решать, – язвительно улыбнулась Хильда и потрясла палкой. – Я хочу видеть фонарики в гостиной!
– Пожалуйста. – Мадаленна приоткрыла дверь, и пропустила бабушку вовнутрь.
Хильда торжествующе отдернула тяжелую портьеру, и уже собиралась что-то сказать, как замерла на месте и подозрительно покосилась в сторону Мадаленны. Та была невозмутима. Над потолком, расписанным под викторианский стиль, висели разноцветные набивные китайские фонари. Красные, желтые, синие и оранжевые; на каждом из них были нарисованы птицы и были нарисованы какие-то иероглифы – все вместе это смотрелось чудовищно, и Мадаленна едва сдерживала улыбку. Она знала, что Хильда обязательно будет брюзжать по любому поводу, и все решила поступить по-своему. И, судя по растерянному виду Бабушки, она не прогадала. Хильда кашлянула один раз, второй, а потом повернулась к внучке. Мадаленна видела, как в бабушке боролись ее чувства; старая миссис Стоунбрук и понимала, что ее внучка оказалась права, и отступать ей тоже не хотелось. Наконец решение нашлось.
– Что ж, – откашлялась Хильда. – Я с самого начала говорила, что фонарикам тут не место, но твоя мать настояла на доме. У нее отвратительное чувство стиля.