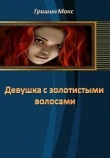Текст книги "Магнолии были свежи (СИ)"
Автор книги: Ann Michaels
сообщить о нарушении
Текущая страница: 44 (всего у книги 68 страниц)
– Мне хотелось увидеть Майкла Диггера.
– А как же тот тип? – он старался вспомнить молодого человека, с которым Джейн целовалась в темном саду. – Ну, с которым я еще поймал тебя при свете луны около роз?
– А, – равнодушно протянула Джейн. – Уилсон. Нет, он мне надоел.
– Может быть в таком случае, котенок, – он поправил ей воротник платья. – Ты будешь целоваться с тем, кто тебе не надоест? Заодно побережешь и мои нервы, и свою репутацию.
– А у тебя нет нервов. – рассмеялась его дочь. – Ты их все потратил на своих студентов.
– Какое рискованное замечание. Тогда смею тебя заверить, что на сегодня нервов мне точно хватит, чтобы засадить тебя дома. И это, – он строго посмотрел на нее. – И это не обсуждается.
– А на концерт классической музыки можно пойти?
– Классической музыки? – он прищуренно посмотрел на нее. – Хороший ход.
– Я училась у гения.
– Твоя лесть не сделает меня более мягкосердечным, но, так и быть, думаю, Бах и Гендель тебе не повредят. Но только с мамой.
Эйдин достал из холодильника цветок гелиотропа и вдел его в петличку. Он почувствовал, как незаданный вопрос повис в воздухе, и Джейн немного сгорбилась. Никогда ему не было сложно решиться на то, чтобы повернуться и посмотреть дочери в глаза. Гилбер все еще видел в ней ту девочку, которая смотрела на него с широко раскрытыми глазами и засыпала вопросами. Теперь ему было бы сложно подобрать ответ. Джейн выросла и стала понимать, что к чему намного быстрее своего отца и матери. Он многое упустил в ее воспитании, но надеялся, что хоть сколько-то она успела побыть беззаботным ребенком, необременным грузом проблем и тревог. Эйдин медленно повернулся к Джейн и пригладил ее растрепанные волосы, в ее глазах застыла печаль.
– А где мама?
– Полагаю, она задержалась в гостях, – беззаботный тон ужасно фальшивил. – У миссис Винтер.
– Правда?
– Дорогая, – он взял ее за руку и внимательно посмотрел на нее. – Твоя мама – взрослая женщина и имеет право бывать где угодно и до сколько угодно. Вот исполнится тебе стобко же, сколько и ей, и сможешь гулять хоть до утра.
– Папа, – Джейн выдернула руку, и ему показалось, что в ее глазах заблестели слезы. – Я не хочу шутить. Где была мама? Почему в газетах снова пишут о ней и этом мерзком Лорде? Вот она с Джонни на концерте, вот она с Джонни на балу, вот она с Джонни на вечере в пользу вдов! – страницы журнала рвались в ее руках. – Почему она не ночует дома? – она вскочила со стула и принялась ходить по кухне. – Почему о вас болтают в свете?
– Милая, – Эйдин остановил ее у двери. – Ты сама знаешь, как устроен свет, дели все услышанное надвое.
– И что тогда получится? – она резко повернулась к нему. – Какая доля правды останется? Что происходит между вами? Почему я не знаю и половины? – ее голос сорвался на крик, и Эйдин крепко прижал ее к себе.
– У нас все будет хорошо, котенок.
– Это отговорки! – воскликнула Джейн, отворачиваясь от поддерживающей руки. – Я уже не так мала, чтобы ты меня утешал. Что между вами происходит?
– Проблема в том, что мы и сами не понимаем.
Слова прозвучали так мрачно и неожиданно, что его дочь осела на стул и пораженно уставилась на его цветок. Гилберт полагал, что правду стоило подавать в несколько ином виде, однако слова сами сорвались с языка, и тут он уже ничего не мог поделать. Джейн хотела, чтобы с ней говорили, как со взрослой, но на самом дела мечтала услышать то, что хотела. Это было знакомо ему, такого же он желал, когда узнал о смерти матери. Он отчаянно хотел услышать, что все это неправда; он все еще оставался ее ребёнком. А сейчас он был отцом и нес ответственность за спокойствие своей дочери. Эйдин подошел к Джейн и приобнял ее.
– Мы действительно не знаем, что с нами происходит, но, обещаю, мы с этим разберемся.
– Как? – ее тон голоса был слишком равнодушным.
– Мы просто сядем и поговорим. – он сам с трудом верил в свои слова, но самым главным было убедить в этом Джейн. – Я уверен, мы сможем найти выход из этой ситуации.
– Мама встречается с этим Джонни? – Джейн подняла на него глаза, и от тоски, которая там показалась, его прошибла дрожь. – Она больше тебя не любит?
Наверное, его должны были задеть эти слова, но он ничего не почувствовал. Ни досады, ни ревности, ни гнева, ни боли. Хоть случилось бы это месяцем раньше, он бы смог найти выход, но сейчас – ему было все равно. Единственное, что его волновало – это Джейн. Священный механизм умер.
– Нет, я так не думаю. И она точно не разлюбила тебя. Ты всегда будешь нужна ей, – он коснулся губами ее лба. – Как и мне. Наша дочка, наша любимая девочка.
– А ты, – стояла на своем Джейн. – Ты все еще ей нужен?
Он глубоко вздохнул. Сложно было говорить о том, на что ему было наплевать, но еще сложнее было убеждать близкого человека в обратном. Что он мог сказать Джейн, если и сам не знал ответа на этот вопрос. На самом деле, вдруг признался себе Гилберт, гораздо лучше было бы, если бы Линда и правда разлюбила его. Тогда можно было избежать мучительных объяснений, неловкого молчания и вытаскивания наружу старых секретов, которые уже давно прогнили. Однако он не мог больше читать жену как открытую книгу, да и не стремился к этому. Разумеется, Линда была ему дорога, но теперь исключительно как мать его дочери.
– Разумеется, Джейн твоя мама любит меня. Просто ей скучно здесь, – он повел рукой в пространстве. – Но мама здесь не виновата. Я сам должен был понять, что слишком мало уделял и ей, и тебе внимания, поэтому, думаю, она просто решила немного поразвлечься.
– И вот с этим Джонни, – гримаса отвращения проявилась на лице его дочери. – Вот с этим… С этим… Слизняком, – она наконец подобрала нужное слово. – Она изменяет тебе!
– Джейн! Достаточно! – воскликнул Эйдин. – Ты не имеешь права так говорить о матери. Она не заслужила таких слов о себе от тебя.
– А разве она имеет право гулять с этим Джонни?
– Наша мама – взрослая женщина. – он поправил воротник рубашки. – И она может гулять с кем угодно, пока это не нарушает приличий. А это, – он указал на фотографии в журнале. – Не нарушает приличий. Вспомни себя, сколько раз ты попадала в журнал «Взгляд» с несколькими кавалерами за раз? И разве мама хоть раз упрекнула тебя?
– А должна была! – запальчиво ответила Джейн. – Она – моя мама и обязана заботиться о моем нравственном воспитании.
– Святые Небеса! – он комически хлопнул в ладоши. – Какие речи я слышу! И это говорит самый известный в Лондоне светский львенок? Мой тебе совет, дорогая, – он наклонился и поправил золотую заколку в ее волосах. – Не забивай себе голову всякими дурацкими мыслями. Мы с твоей мамой во всем разберемся, и мы никогда не перестанем тебя любить, запомни это. Хорошо? – она кивнула. – Отлично.
Гилберт почти вышел из кухни, когда на пороге его настиг голос дочери.
– А ты?
Он не спешил поворачиваться.
– Что я?
– Ты все еще любишь маму? – она соскочила со стула и подошла к нему. Пришлось обернуться.
Лгать дочери было делом неблагодарным. Но Эйдин снова вспомнил себя в ее возрасте; наверное, тогда бы он не отказался от несколько ложек сладкой лжи, в особенности о Мариссе. С другой стороны, все его представления о брате были одним сплошным враньем, которым он успокаивал себя, не удосужившись узнать, что происходит на самом деле. Но то был брат, а это была его дочь. Родители всегда должны были быть идеальным примером устойчивости мира. Гилберт прикрыл глаза и где-то вдалеке увидел отца и мать – бесстрашно глядевших вперед и с неизменной улыбкой. Что было бы, узнай он, будто вся его отлакированная картина мира вдруг упала и разбилась? Наверное, ближе к их возрасту он и смог бы принять некоторые семейные секреты, но в двадцать лет его бы это подкосило. Он бежал от этой стабильности, отбрыкивался от мягких рук, чтобы к сорока годам понять – что он потерял.
– Разумеется, я люблю твою маму.
– Как мою маму или как свою жену?
Джейн была слишком умной. Он в свои двадцать был полным болваном, а ведь еще говорят, что дочери идут во всем в своих отцов. Характером может быть и да, а вот сообразительностью – как же.
– Джейн, – он бережно приподнял ее за подбородок. – Я люблю твою маму. И эта любовь никуда не исчезнет.
Эйдин не врал. Любовь к Линде, как к матери его единственного ребенка никогда не должна была пропасть. Она появилась как только Гилберт увидел Джейн – розовую, насупленную, хмурую. Тогда он и осознал, что существует безусловная любовь, и часть этого чувства навсегда перешла и к Линде, в особенности, за те муки, благодаря которым их дочь смогла появиться на свет.
– Значит, вы расстанетесь. – подытожила Джейн, отклоняясь от него. – И когда вы это решили? Может, созовете специальную вечеринку, чтобы об этом объявить? – с внезапной злостью выпалила она.
– Во-первых, не надо так кричать, ты испугаешь Бассета, – он спрятал усмешку, сейчас Джейн была слишком похожа на него в молодости. – А, во-вторых, никто не собирается расставаться. Мы собираемся поговорить и принять решение.
– За которым последует расставание, да? – не отставала Джейн.
– За которым последует зачисление тебя в мою группу на факультет искусствоведения, если ты не перестанешь быть упрямой девчонкой. Ты обо всем узнаешь самая первая. – уверил он ее. – Мы не собираемся от тебя ничего скрывать.
– У тебя кто-то есть? – вдруг спросила Джейн. – Ты кого-то полюбил? – она внезапно прижалась к его плечу и жалобно потерлась носом о рукав. – В твоем университете столько красавиц, хотя их и портят все эти книжки. Как они не понимают, что такие тяжелые сумки развивают искривление позвоночника?
Золотые нити мелькнули в стекле камина, и из открытого окна повеяло свежим персиком. Теперь Эйдин начинал врать самому себе, и эта игра была еще более увлекательной.
– Нет, у меня никого нет.
– А… – она хотела спросить его о чем-то еще, но Гилберт выглянул в гостиную – часы показывали ровно четыре вечера.
– Дорогая, давай позже договорим, мне нужно в Оперу. Кстати, – он вышел в коридор. – Хочешь со мной?
– В Ковент-Гарден? – Джейн разлеглась на шелковом диване. – Нет, это скука смертная. Ладно еще органная музыка, там хотя бы не вопят.
– Милая моя, побольше оптимизма. И помни, что только на концерт вместе с мамой, а потом обратно.
Он мельком поцеловал ее в макушку и быстро поднялся по лестнице наверх. Машину нужно было подать ровно в шесть и вполне обойтись без Бассета – он не собирался пить в антракте, а Джейн после концерта следовало доставить ровно до ее комнаты. Кроме него должны были еще прийти несколько семейных знакомых, и Эйдин уже представлял, что будет говорить на вечные вопросы: «А где твоя очаровательная жена?» Линда редко когда выбиралась вместе с ним на «профессорские посиделки» – для нее было слишком скучно сидеть вместе со старыми друзьями и слушать привычные истории. Ее смущало то общество, которое напоминало о его первых годах в профессиональной деятельности, Линде хотелось шума, гама, танцев и блеска украшений. Гилберт мог ей дать это все, но только не себя за компанию. Три первых раза Линда дулась, что он перестал с ней ходить на подобные приемы, а потом вдруг в один вечер погладила его по плечу и сказала, что так даже и лучше. Проходя мимо спальни жены, Эйдин заметил свет, льющийся под дверью, однако стучать не стал, а сразу прошел в свою комнату. Ему следовало еще как-то надеть запонки и закончить важное письмо.
Короткая телеграмма Мадаленны: «Добрый вечер, сэр. У меня на окне расцвели нарциссы. Очень глупо, потому что обещают заморозки.» положила начало забавной корреспонденции. В этих письмах не было ничего личного, интимного, но каждое письмо Эйдин хранил почему-то в отдельном ящике и однажды чуть не сунул туда же и кашне, чтобы конверты тоже стали слабо отдавать «Воздухом времени». Задумка оказалась откровенно глупой, и, строго выговорив себя за эту идиотскую идею, Эйдин сел и написал короткое письмо, совсем ни о чем, сообщив, что у него на подоконнике нарциссов нет, зато вот газон стал совсем почерневшим. Мадаленна черкнула коротенькую записку, что, мол, это даже хорошо, потому что «черный газон всегда обещает теплую весну, так еще бабушка Мария говорила.» И вдруг письма завертелись вокруг них, и бедный почтальон носился по Лондону, отправляя белые конверты по разным кварталам.
«Уважаемая Мадаленна, в прошлый раз вы насмешливо уточнили, что обращение «уважение» отдает канцеляризмом, так вот, в этот раз я специально, подчеркиваю, СПЕЦИАЛЬНО, называю вас именно так, но не для того, чтобы разозлить, а лишь только для того, чтобы обратить ваше внимание на то, что это говорит о моем уважении. Я уважаю вас. С того самого момента, как только увидел вас в теплицах, очень сумрачную и собранную, строгую. Мое уважение к вам возникло спонтанно, но так получилось, что оно подкреплялось каждым днем, каждым вашим словом и суровым взглядом – спор о плотнике и скульптуре еще долго не забудется, если вообще забудется. Так что, тут вам стоит обвинять только саму себя – не уважать я вас не могу. Кстати, насчет пуансетии, я нашел забавный рецепт. Говорят, что ее надо поливать медом. Разве это может помочь, разве сладкое вообще когда-то помогало? Можно расти только благодаря горечи, хотя я уже вижу, как вы недовольно качаете головой и мрачно глядите в сторону почтового ящика, будто внутри синей эмали можно найти меня. Ну и глядите, говорю я вам, образ суровой Афины вам даже очень идет, и это не комплимент, а констатация факта…»
– Можно войти? – его мысли прервал голос жены, и он положил пресс-папье на письмо. – Ты не занят?
– Занят, но, пожалуйста, заходи.
Они не общались с того момента, как он застал жену в своем кабинете с Джонни. Линда тогда сразу заперлась в своей комнате, а ему пришлось хорошенько встряхнуть Лорда наутро, когда тот пришел в их дом и начал просить аудиенции у его жены. Сначала Эйдин считал, что Линде стоит набраться сил, потом его захватила работа с документами к конференции, а следом за этим ему расхотелось приходить домой. Но это было бы глупо и недостойно, поэтому Гилберт старательно засиживался в университете, а по дороге думал, сколько еще будет длиться их молчаливая договоренность. Облегчения не наступило, зато пришло равнодушие.
– Что пишешь? – Линда заглянула ему через плечо, но он сложил письмо в конверт и положил в ящик под ключ. – Мне нельзя этого видеть?
– Это личное. – он встал и подошел к шкафу.
– Раньше ты от меня письма не прятал. – усмехнулась она. – Неужели появилась причина?
Наверное, следовало повернуться и крикнуть что-то обличительное, но ему не хотелось. Не хотелось повышать голоса, не хотелось устраивать истерику и конфликт, которые бы затянулись на несколько дней. Гилберт пожал плечами и отодвинул вешалки со свитерами. Когда точно все пошло крахом, он не мог сказать с точностью. Знал только, что все это имело начало от высшего света. Он их начал разделять с той минуты, как они вошли в мраморный зал, рука об руку. Линда упорхнула от него сразу же, а он понял это слишком поздно. Ее манила слава, известность, да и грех ей – черноволосой красавице с огромными глазами и прекрасной, – не вращаться в обществе. Его же интересовало только искусство; только в нем Эйдин видел смысл жизни, а потом на смену идейному молодому человеку пришел циник с кривой усмешкой – законы света заставили его разувериться во всем, над чем он так долго работал. Но вот… Но вот Гилберт никак не мог предугадать, что в минуту отчаяния к нему невзначай явится пилигрим, неразговорчивый, угрюмый, но такой светлый, что он не устоял перед обаянием этого посланника.
– Эйдин, – Линда встала позади него и дотронулась до него рукой. – Нам надо поговорить.
– Пожалуйста, я тебя слушаю. – брюки к сюртуку никак не хотели находиться, и он поморщился – не зря начал поиски за час до выхода. – О чем ты хотела поговорить?
– О нас. – в отражении было видно, как она нервно сжала руки. – Ты, наверное, заметил, что в последнее время у нас с тобой все не так ровно. Ты стал так часто задерживаться в своем университете… Тебя так частно не бывает дома.
– Правда? Мне казалось, это ты несколько дней не ночевала дома.
– Я ездила к Эдит. – сразу отозвалась Линда. – Я была нужна ей, я… – она хотела сказать что-то еще, но Эйдин прервал ее.
– Ты не обязана оправдываться, ты – взрослая женщина и можешь ездить куда и насколько хочешь. Главное, Джейн не забудь предупредить, а то она уже напридумывала себе бог знает что.
– А ты? – колко прозвучал вопрос. – Разве тебя не волнует, где я была?
Эйдин повернулся и посмотрел на женщину, которая когда-то была целым миром для него. Разумеется, он все еще хорошо относился к ней, она была матерью их семейства, но женой; женой Линда перестала быть ему несколько лет назад, просто сам он этого не смог заметить. Ему хотелось бы чувствовать боль, гнев, но равнодушие заполонило собой все. Его душа теперь была отдана ему. Свобода, прохладная пустота – давно он не чувствовал подобного.
– Я знал, что ты у Эдит. Ты сама говорила, что тебя там можно всегда найти.
– И тебя это устраивало, да?
– Линда, – он повернулся к ней и посмотрел в упор. – Прошу, только давай обойдемся без конфликта; мне нужно успеть в Оперу, а ты собиралась на концерт органной музыки.
– Я уже расхотела.
– И все-таки я попрошу тебя туда сходить с Джейн. – он снял домашнюю рубашку и надел из белого хлопка. – Мне хочется быть уверенным, что она не улизнет на вечеринку, а я сней я ну никак не могу пойти.
– Значит, ты идешь в Оперу, – со странной усмешкой заявила Линда. – Со своими студентами?
– И студентками, предвосхищая твое дополнение.
– Это так глупо. – судорожная улыбка скользнула по ее губам. – Так глупо – после двадцати лет брака думать об измене. Ты был слишком идеальным мужем, дорогой, – она попыталась поправить ему воротник, но он незаметно отшатнулся. – Я все время ждала, что когда-нибудь выпрыгнет какая-нибудь миссис Чилтон и обвинит тебя в чем-нибудь аморальном, но нет. – вздохнула она. – Ты слишком идеален.
Эйдин молча завязывал галстук, пока Линда бродила по комнате и трогала безделушки. Случайно на свету лампы блеснул серый шелк, и она едва взяла его в руки, как Гилберт ничего не говоря, взял кашне и повесил его на вешалку. Может быть, пальто и могло пригодиться. Линда молчала и наблюдала за тем, как он неторопливо снимал пальто с вешалки, встряхивал и запах «Духа времени» поплыл по комнате.
– Я не помню этих духов. – заметила она.
– Это духи моей знакомой. – ответил он. – Нечаянно пролились на шарф.
– Так почему ты его не постираешь? – улыбнулась Линда. – После порошка от них и малейшего запаха не останется.
– Не хочу.
Гилберт знал, что за долгой паузой последует разговор, который они откладывали с самого Рождества. Но полтора месяца были приличным сроком, чтобы настроиться на серьезный лад и понять, что последует за итогом содержательного диалога. Развод. Эйдин думал о такой перспективе, осознавал, что этот инцидент хорошо ударить по их вышколенному образу, однако он еще не так притерся к свету, чтобы раздумывать о том, что о нем скажут люди. Развод. Это было вполне возможно, такое происходило со многими его знакомыми, но скажи ему кто год назад, что он будет думать о разрыве с Линдой, рассмеялся бы собеседнику в лицо.
– Ты ведь и правда никогда меня ни о чем не спрашивал. – медленно начала Линда. – Никогда не запрещал ездить на вечера, никогда не разыгрывал роль ревнивого мужа, всегда верил мне. Идеальная картина. Как же тошно.
– Что же такого тошного?
– Адюльтер. – ее голос был слишком громким для одной комнаты. – Ты ведь это думаешь так назвать?
– Линда, я не хочу начинать конфликт.
– А я и не начинаю. – звонко рассмеялась она. – Я просто пытаюсь понять, что с нами произошло. Так что же это было? – она обвила его шею руками, но он не ответил на объятие, а только похлопал ее по руке.
– Ничего особенного; то, что происходит со всеми семьями. Помнишь, как у Толстого?
– Значит, по-твоему, у нас с тобой несчастная семья?
Гилберт промолчал и достал из коробки запонки.
– Давай, я тебе помогу, – к нему подошла Линда и было взяла его за руку, но он негрубо отвел руку назад.
– Не стоит, я сам могу справиться.
Линда ничего не сказала, только как-то растерянно улыбнулась и посмотрела на него в зеркале. Тишина, повисшая в комнате, была неловкой, словно он застрял в одной телефонной кабине с посторонним человеком. Наверное, это должно было быть ужасно, но для него это больше не имело значения.
– Ты тоже меня никогда ни о чем не спрашивала. Мне казалось, нашего доверия вполне хватало.
– Это не доверие, мой дорогой, – протянула она. – Это равнодушие. Тебе было все равно. Тебе было наплевать, с кем я, где я, куда я уезжаю и куда я беру свою дочь.
– Не смей так говорить.
Это была не ярость, не гнев, но потаенный отголосок прошлого вдруг проснулся в нем и захлестнул со всей силы. Его можно было обвинить в чем угодно, но только не в равнодушии. Не из-за равнодушия он таскался на эти вечеринки и болтал с пустоголовыми болванами, не ради равнодушия он фланировал по дому во время приемов, смотря, где его дочь, прогоняя незванных кавалеров. Не ради равнодушия он сидел и изображал спокойного мужа, когда больше всего ему хотелось забрать Линду и уехать домой.
– Я не права? – развела руками Линда. – Ты меня удивляешь.
– Это ты меня удивляешь. Я вытаскивал нашу дочь из всех садов Лондона, только чтобы ее репутация, упаси Небеса, не пострадала, я сопровождал тебя на все вечера, где тебе надо было присутствовать, я стерег этот дом до твоего сезона, хотя каждый год ты обещала, что лето мы проведем все вместе.
– Так, почему нельзя было поехать с нами?
– А почему нельзя было остаться со мной?
– Прекрасно. – саркастично усмехнулась Линда. – Значит, во всем виновата я одна?
– Я ни в чем тебя не обвиняю, я просто констатирую факты.
– Господи, – тихо проговорила Линда, усаживаясь на кровать. – Если бы ты только знал, как мне было сложно выдерживать эту твою спокойную доброту! Это твое «я ни в чем тебя не обвиняю», это равнодушие…
– Линда, – легкая ярость начала медленно в нем закипать. – Не думаю, что мы сейчас в том положении, чтобы обсуждать наши отношения. Я опаздываю в Оперу.
– Разумеется, – в ее улыбке появился яд. – Иначе милая мисс Стоунбрук будет слишком долго ждать.
– Не смей так говорить о ней. – отчеканил он. – Я не знаю, какие мысли бродят в твоей голове, но даже думать не смей так о ней. Она – прекрасная и благородная девушка.
– Благородная? Боги, как мелодраматично! Думаешь, я ничего не понимаю? Как ты… – он не дал ей закончить.
– Перестань! Ничего не было, ничего быть не могло! Мадаленна – воспитанная девушка, она и повода, и мысли не могла допустить, чтобы… Как я мог… – негодование захлестнуло его, и он запнулся. – Ничего нет!
– Великолепное благородство рыцаря и его дамы сердца!
– И не тебе говорить о благородстве, после того, как я застал тебя с твоим кавалером в моем же кабинете.
– Джонни ничего не значит для меня! – крикнула Линда. – Он был всего лишь лакмусовой бумажкой, с помощью которого я проверяла тебя! Потому что твое равнодушие…
– Достаточно! Мое равнодушие – результат долгой работы над собой, причем по твоей же просьбе. Я сразу тебе сказал, что не люблю твой высший свет! И сколько раз ты упрекала меня за то, что я слишком прямолинеен и эмоционален? Когда я действительно ревновал, ты смеялась и заявляла, что это глупо. Я принял это, стал изображать человека широких взглядов. Когда я просил тебя хоть на сколько-то остаться здесь, дома, ты смеялась и уезжала на Побережье, забирая с собой Джейн. Даже несколько месяцев назад, когда я предложил тебе поехать вместе со мной в Италию, ты отказалась. Чего ты еще хочешь от меня?
– Это свет, – яростно махнула рукой Линда. – И у него есть свои правила!
– А это была наша семья, и я очень сильно устал, что в постели нас было трое – ты, я и этот свет. Извини. Теперь мне и правда пора. – он намотал на шею шарф и почти вышел за дверь, когда услышал голос жены.
– Многие говорят, что у меня есть любовник, интересно, что скажут, если узнают про наличие пассии у многоуважаемого профессора?
Эйдин остановился и натянул шарф так, что тот помял гелиотроп. Линда ревновала, и он это понимал. Но ему было наплевать. Как они смогли докатиться до такой жизни, где каждый обвинял друг друга в грехах, было понятно – долгие годы недомолвок сделали свое дело. Однако, может быть он и поступал неправильно, разбираться в этом Гилберт не желал. Единственное, что его по-настоящему волновало – репутация Мадаленны. Он не мог допустить, чтобы эту девушку обвинили в том, чего не было и не могло быть.
– Линда, – он негромко позвал ее. – В тот же день, как только слух разлетится, я уйду из дома.
– Эйдин, – она подошла к нему, но взял ключ от автомобиля со столика и открыл дверь.
– Будь добра, не забудь, что надо забрать Джейн на концерт. И закрой дверь, когда будешь уходить.
***
Площадь Ковент-Гарден сверкала хрустальными камнями, когда он вышел из автомобиля. Рождественские праздник прошли, и теперь все усиленно готовились к открытию «Весенних сезонов» и к весеннему балу дебютанток. Он не так часто бывал в этом месте – несмотря на то, что это был театральный квартал, здесь было слишком много известных злачных мест, откуда светское общество пряником вытащить нельзя. Темный вечер туманно бродил между людьми, окутывая все фигуры прозрачным светом от фонарей, и плащи дам казались одеяниями призраков в отражениях луж. Стеклянный фасад Оперы в стиле «модерн» блеснул за поворотом, и Гилбрет с удовольствием першагунл через бордюр. Он вызвался на это мероприятие только потому, что считал правильным прививать студентам хороший вкус к музыке и потому, что сам обожал оперу еще с тех дней, когда мальчишкой бегал на галерку по бесплатным билетам. Опера была для него чем-то особенным, а с недавнего времени певучие итальянские фразы заставляли его, затаив дыхание, прислушиваться к звукам музыки и искать знакомый голос.
Ковент-Гарден встретил его теплым дыханием толпы темных фраков и шелковых платьев, и на секунду ему показалось, что среди сладких Шалимара и Пату он почувствовал свежий персик. Это была очередная иллюзия, и, тряхнув головой, он быстро снял пальто, однако шарф сложил и положил в потайной карман. Мраморный холл был освещен свечами, и от каждого дуновения воздуха, фитильки трепетали в опасной близости с газовыми шарфами дам. Эйдин быстро поднялся по белой лестнице, и на секунду задержался на мягком красном ковре, приятно проминавшемся под ногами. У них с Линдой была собственная ложа, в самом конце бель-этажа, откуда была видна вся сцена, однако он не стремился открывать дверь и садиться на бархатный стул. Наверняка половина зала была наводнена их общими знакомыми, а ему уже порядком надоело отвечать на вопрос, где его очаровательная жена. Его студенты были в зале, шумно обсуждая начало «Травиаты» и фильм с Гретой Гарбо; сияющий Рональд Кройт помахал ему рукой, и он улыбнулся. В начале партера ему даже показались чьи-то рыжие локоны, но Эйдин отшатнулся, закрыл дверь ложи и отошел к сводчатому окну. Там, за толстым стеклом, был сияющий Лондон с быстро бегущими людьми; Гилберт прожил тут больше десяти лет, однако пристраститься к городу так и не смог. Ему было тут интересно, иногда забавно, временами ему даже нравилось ходить по улицам и смотреть на жилые окна, но его душа все равно была в другом месте, и он стремился туда изо всех сил.
Прозвенел третий звонок, и, подождав, пока шумная толпа разбежится по своим местам, он приоткрыл дверь и сел в полумрак, придвинув портьеру на угол ложи. Зазвучали первые ноты «Ah! fors’è lui и Sempre libera», и на какое-то время все тревоги оказались позабытыми под звуками скрипок, арф, флейты и чистым голосом исполнительницы Виолетты. Говорили, что в этот раз партию пела сама Каллас, однако Эйдин закрыл глаза, скрестил руки на груди и прислушался к чистому искусству. Итальянские слова звенели капелью под сводчатым потолком и едва не падали на грешную землю, как снова воспаряли и устремлялись все выше и выше. Вечная музыка Верди – она все еще была свидетелем, что не все искусство стало фальшивкой, ведь пока могла жить такая чистота, мир еще мог быть спасен. Когда он открыл глаза, на сцене разыгрывались картины из веселой жизни полусвета, и Гилберт не смог сдержать улыбки – в свете не менялось ровным счетом ничего, только костюмы становились короче, а шляпы – забавнее.
Первое и второе действия прошли без перерыва, и когда вдруг зал озарился электрическим светом, Эйдин прищурился. Переход из мира Дюма в настоящий оказался несколько сложнее, чем он мог ожидать. Вокруг него снова все зашумели, бинокли уставились на свободное место в его ложе, и он закинул ногу на ногу; готова сплетня была обеспечена. Вот оно – действо двух гениев – вершилось прямо тут, без всяких изменений так же обсуждались измены, разрывы, адюльтеры и интимные подробности чужой жизни. Гилберт недовольно посмотрел по сторонам, и, не ответив на приветственные улыбки, посмотрел на ложу напротив. На красном дереве причудливо играли тени от массивной позолоченной лепнины, а хрусталики люстры медленно раскачивались, отчего по всему залу раздавался едва слышный перезвон. Все его студенты обитали в бель-этаже, и он кому-то тепло улыбнулся. Черные пиджаки переливались темным, сливаясь с парадными платьями и почти взрослыми прическами; все старались себя вести очень серьезно и немного отстраненно, все-таки факультет искусствоведения считался одним из самых богемных и вместе с этим надменных из всех остальных. Эйдина забавляло подобное поведение – несмотря на солидный третий курс, его студенты оставались все еще молодежью, и им не терпелось бурно проявить свои эмоции, однако, руководствуясь принципом «положение обязывает», они разыгрывали умудренных критиков, но это не вызывало в нем раздражения, скорее, это было мило.
В ложе напротив вдруг дернулся занавес, и все бинокли синхронно повернулись к полузадернутой бархатной портьере. Такая же, как и его, ложа была в самом конце, и в шорохе голосов Эйдин уловил что-то про «семейную реликвию». На красных стульях сидели Дафни Кру и Эффи Доусен. Они увидели его прежде, чем он их узнал, и на смущенный кивок мисс Доусен, он приветливо улыбнулся. Признание девушки поначалу смутило его, однако не взволновало – Эффи была достаточно рассудительна и умна, чтобы не сильно переживать насчет подобного отказа. Эйдин просто несколько дней не показывался ей на глаза, а когда наступил период встречи перед началом нового семестра, он сделал вид, что ничего и не произошло и уловил в глазах девушки облегчение. Эффи была достаточно молода, чтобы его приветливость и спокойное равнодушие помогли ей позабыть эту неудачу. Доусен сидела вместе с Кру, и нельзя было сказать, что они обе были довольным своим соседством. Эта странная компания явно не досчитывалась третьего, и Эйдин ждал, когда его смутная догадка наконец оправдается. Наконец красная портьера отъехала в сторону, и он невольно подался вперед. Мадаленна; это была она, спокойно сидевшая почти у сцены, неспешно развязывавшая узел золотого шнурка, она как будто бы и не замечала, что на ее ложу были обращены все бинокли. В простом платье, цвета слоновой кости, слегка приспущенного на плечах, Мадаленна выглядела еще прекраснее, чем обычно. Совсем без украшений, ее шея казалась еще длиннее и тоньше, и когда она поворачивала голову, сияние света искусно кидало тени на рыжие волосы, кажущиеся темным золотом. Она не видела его, беседуя о чем-то с Дафни, и Гилберт успел отвести взгляд, прежде чем она повернулась к нему.