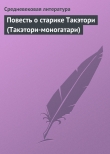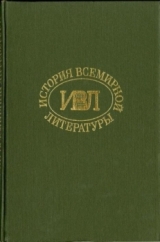
Текст книги "История всемирной литературы Т.5"
Автор книги: Георгий Бердников
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 91 (всего у книги 105 страниц)
Примерно тот же круг романов привлекал в XVIII в. маньчжурских, а затем и монгольских переводчиков, при этом монголы нередко пользовались готовыми маньчжурскими переводами, так что маньчжурский язык для них выполнял функцию литературного языка посредника.
Особая ситуация сложилась с восприятием китайского романа в тогдашнем Вьетнаме. Богатая и своеобразная местная поэтическая традиция больших поэм обусловила появление не прозаических переводов, а их поэтических переложений, которые были своеобразным средством национальной адаптации иноземных сюжетов и творческого приобщения к опыту китайской литературы. Нередко одни и те же сюжеты почти одновременно привлекают к себе внимание переводчиков и писателей различных народов внутри региона. Так получилось, например, с китайским романом «Повествование о Цзине, Юнь и Цяо» (XVII в.), который в XVIII в. переводится на маньчжурский язык (с этого маньчжурского перевода был впоследствии, в начале XIX в., сделан и оставшийся в рукописи русский перевод). На рубеже XVIII и XIX вв. этот роман почти одновременно привлекает внимание японского романиста Бакина и вьетнамского поэта Нгуен Зу (1765—1820). Первый создает национальную версию этого романа под названием «История Золотой рыбки», а второй – в соответствии с местной литературной традицией – повествовательную поэму «Стенания истерзанной души» – шедевр вьетнамской классики. Характерно при этом, что в мировую литературу впоследствии входит уже не сам китайский роман и не его японское переложение, а вьетнамская поэма, переведенная в конце XIX в. на французский, а уже в наше время на китайский и японский, как и на многие другие языки мира, включая и русский.
Во многом своеобразным и специфическим было восприятие этих же китайских романов у монголов, где параллельно с письменными переводами китайских романов возникли их устные сказительные переложения и сформировался особый жанр эпического фольклора, так называемый «бэнсэн улигэр» – «книжные сказания».
С развитием городской культуры в Японии связано и возникновение в XVIII в. интереса к китайской городской повести, которую издавали в первой половине XVII в. Фэн Мэн-лун и Лин Мэн-чу и которая была в большинстве своем отвергнута с установлением маньчжурской династии и усилением ортодоксально-конфуцианских тенденций в литературе. Демократическая повесть продолжает в XVIII в. жить в Японии, где появляются переводы ряда произведений из сборников Фэн Мэн-луна и Лин Мэн-чу и где сохранились наиболее полные китайские издания этих произведений.
В XVIII в. во внутрирегиональный культурный обмен входят и новые слои народной художественной культуры: в Китае, Японии и Вьетнаме имеют хождение народные анекдоты, составлявшие общее достояние фольклора этих стран и пришедшие в литературу во многом благодаря записям, обработке и издательским стараниям того же Фэн Мэн-луна (его собрание «Палата смеха»).
Завоевавшие Китай в XVII в. маньчжуры создали в первой половине того же столетия собственную литературу, однако она с самого зарождения находилась под мощным влиянием китайской культуры, которая в значительной мере подавляла своеобразие еще очень слабой письменности маньчжуров, подвергавшихся фактической ассимиляции со стороны побежденных. Тем не менее, в XVIII столетии у маньчжур наблюдаются попытки опереться на песенный фольклор для создания своей письменной поэзии. Маньчжурской литературе этого времени свойствен синкретизм, для нее характерны исторические хроники и буддийские тексты. Но наряду с этим на маньчжурский язык переводятся сочинения китайского мыслителя Сюй Гуан-ци (1552—1610) и китайские романы XVII—XVIII вв.
Типично средневековыми оставались в XVIII столетии литературы народов Центральной Азии – Монголии и Тибета. Но и здесь характерен рост взаимодействия литератур, способствующий нарушению их средневековой замкнутости. В монгольской литературе усиливается тибетское влияние, в частности, рассказов индотибетского происхождения, а к концу XVIII в. появляется драматургия. В условиях кочевого феодализма и засилия ламаизма возникает обширная религиозная буддийская литература интерпретаторского характера; светская словесность представлена в основном историческими хрониками. Одновременно сказываются связи монгольской литературы с китайской, которые находят наиболее яркое выражение в интенсивной переводческой деятельности. Как уже говорилось, в XVIII в. появляются первые переводы китайских романов, а они, по словам Б. Я. Владимирцова, «всегда передаются превосходным и легким монгольским языком, привлекают монголов прежде всего своей фабулой». Эти переводы сыграли определенную роль в становлении монгольской прозы XIX в. Однако в XVIII в. они еще не привели к созданию оригинального романа.
В Тибете при господстве буддийской теократии, культивировавшей литературу религиозного содержания, делаются лишь первые попытки создания светских произведений, причем в этом начавшемся процессе секуляризации литературы важную роль играла традиция народного творчества.
Сложная и пестрая картина литератур восточноазиатского историко-культурного региона в XVIII в. характеризуется, при сохранении средневековых черт, развитием новых тенденций, связанных с переходом от Средневековья к Новому времени, что и позволяет исследователям искать черты сходства с явлениями эпохи Просвещения в Европе.
Типологические параллели здесь условны, относительны, но безусловен вклад литератур Китая, Японии, Вьетнама и Кореи в мировой литературный процесс: в XVIII в. здесь были созданы художественные ценности, сопоставимые по своему значению с достижениями европейских литератур.
*Глава первая*
ЯПОНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
КРИЗИС ФЕОДАЛИЗМА И ЕГО ИДЕОЛОГИИ
В XVIII в. в Японии резко обострился кризис феодальной системы. Становление первоначальных форм капиталистического уклада, рост городов, обнищание деревни – процесс, начавшийся еще в предыдущем столетии, но не представлявший тогда серьезной угрозы феодализму, в XVIII в. привели к новому соотношению сил в японском обществе.
Господство феодалов, основанное на натуральном хозяйстве, поколебалось в результате неуклонного развития товарно-денежных отношений. Главенствующее положение в городах фактически начинает занимать торгово-ростовщическая буржуазия, владевшая огромным капиталом и земельной собственностью. Низшее, среднее дворянство неуклонно разорялось, попадая в финансовую зависимость от торгового капитала, и самураи были вынуждены предпочитать уже невоенные профессии – учителей, врачей и т. д. А крестьяне уходили в город и становились ремесленниками и – в редких случаях – купцами. Происходил интенсивный процессе перегруппировки классов и сословий в жесткой структуре феодальной Японии, делившей весь народ на самураев, крестьян, ремесленников и купцов (по нисходящей шкале их предполагаемой значимости в жизни государства). Времена менялись: торговцы начали возвышаться над самураями и даймё – феодальными князьями. Глубокие изменения происходят в настроениях крестьян – основного класса феодальной Японии. Резкое ухудшение условий жизни вызывает бурные народные волнения, каких не знала предшествующая история токугавского абсолютизма. В неурожайных 80-х годах в стране каждый год возникало в среднем 14 крестьянских волнений (за все предшествующее столетие их насчитывалось 165). В эти годы участились и восстания городской бедноты. В 1772 г. в самой сёгунской столице Эдо поднялся «рисовый бунт»: восставшие громили склады, дома сборщиков налогов и богачей, поднявших цены на рис.
Антифеодальное движение крестьян и городских низов подрывало устои существующего строя. Происходили большие сдвиги в самом народном сознании, освобождавшемся от многовековых религиозных предрассудков и привычки к повиновению. Бунтующие крестьяне и представители городских низов сжигали не только дома богачей, но и святые алтари и статуи Будды. «В народе говорят: „Буддийское духовенство и самураи – это собаки и скот, это те, кто не трудится, а лишь пожирает возделанное чужими руками“», – так пишет выдающийся мыслитель XVIII в. Андо Сёэки (1707—1763) в книге «Подлинные законы природы» (1755). В ней также содержится намек на существование в то время тайных организаций противников существующего строя, отвергавших указания и предписания конфуцианских совершенномудрых. В 1769—1770 гг. были изданы указы, запрещающие крестьянам создавать организации, устраивать собрания и т. д.
В этих условиях усиливающейся антифеодальной борьбы все силы правящего класса были направлены на борьбу за сохранение существующего строя. Предпринимались меры, ограничивающие рост экономического могущества торгового капитала. Неоконфуцианство, ставшее официальной идеологией токугавского режима, усиленно проповедовало извечность сословной иерархической системы. Зарождение нового встречало сильное сопротивление феодальной реакции.
И все-таки токугавское правительство вынуждено было приспосабливаться к новым историческим условиям. В 1720 г., через 90 лет после запрещения «варварских книг» в 1630 г., был нздан закон о разрешении ввоза европейских книг, преимущественно из Голландии, по прикладным наукам (астрономии, медицине и т. д.). Изучение западной науки, санкционированное сверху, преследовало цель укрепления феодального государства, которое рассчитывало быстро ликвидировать отсталость страны путем освоения достижений западных наук. Однако функции западной науки были строго ограничены: она представляла лишь прикладной интерес и вовсе не должна была касаться внутренней жизни восточного человека. Западной философии, выдвигавшей личность на первое место, противопоставляется лозунг: «Мораль Востока – техника Запада». Ввоз в Японию западной общественной и философской литературы по-прежнему находился под запретом.
И тем не менее Нидерланды, уже пережившие буржуазную революцию, вместе с картами и глобусами принесли в Японию и новые идеи. Во второй половине XVIII в. во многих районах Японии возникает школа так называемых «рангакуся» (голландоведов), сыгравшая важную роль в развитии общественной и научной мысли страны. В 1773 г. была опубликована работа Мотосукэ Сукэнори «Теория ясного понимания естественного закона Солнца», в которой излагалась теория Коперника. С достижениями мировой медицины того времени знакомит японских читателей выдающийся ученый, врач Сугита Гэмпаку (1733—1817) в работе «Новая книга по анатомии» (1755).
Расширение кругозора способствовало тому, что средневековый человек начал постепенно освобождаться от феодальных догм и предрассудков. Он стал рассматривать себя в единстве со всем миром, тогда как кругозор самураев – представителей привилегированных слоев феодального общества – обычно не выходил за пределы их собственных княжеств, не говоря уже о целом мире.
Один из выдающихся рангакуся, Хонда Тосиаки (1744—1821), изучив голландскую карту мира, понял, что Япония в конечном итоге лишь маленький остров в обширном мире. В 60-х годах он открыл собственную школу, где преподавал географию, геодезию, астрономию, математику.
Развитие естественных наук содействовало становлению материалистического мировоззрения у японских мыслителей. Важным, хотя и далеко не сразу признанным памятником общественной философской мысли Японии XVIII в. был уже упомянутый труд Андо Сёэки «Подлинные законы природы», фактически противостоявший тысячелетнему господству конфуцианства и буддизма, а также синтоистского мистицизма.
Андо Сёэки родился в семье ронина – деклассированного самурая, занявшегося врачеванием в Эдо. Проводя много времени в процветающем портовом городе Нагасаки, Андо Сёэки, обладавший обширными знаниями в области японской и китайской философии и литературы, собирал и изучал все доступные ему сведения о Западе, пытался, хотя и безуспешно, выехать за границу. Его книга, состоящая из ста глав, представляет собой энциклопедический труд по важнейшим отраслям человеческих знаний – философии, филологии, учению о государстве, религии, экономике, медицине, агрономии, метеорологии и т. д.
В общей системе взглядов Андо Сёэки большое место занимает философия природы. Он отстаивает идею познаваемости окружающего мира, ставит в центр своих размышлений реальность вещей и утверждает материальное как первооснову всего мироздания. Исследуя природу, он оперирует понятием «госэй» (взаимосвязь и взаимообусловленность явлений), выдвигает идею «самодвижения материи», несущей в себе жизнь.
Из философии природы Андо Сёэки логически вытекают его радикальные социально-политические воззрения, в том числе антиклерикальные. Противопоставление современному ему обществу мудрой организации природы – таков исходный пункт социологической концепции японского философа, во многом перекликающейся с идеями древнего и средневекового даосизма.
Андо Сёэки показывает, что в природе все явления находятся в естественном единстве и взаимообусловленности, однако традиционные мудрецы вопреки этому закону поставили одних людей выше других. Так возникла противоестественная система феодальной иерархии и имущественного неравенства. Она была связана с конфуцианством, но в том же конфуцианстве Андо Сёэки умел находить и позитивные идеи – например, он считал труд на земле главным условием жизни человека. Он не признавал для неработающих права на существование, беспощадно обличал систему феодальной иерархии, критиковал буддизм и конфуцианство как апологию эксплуататорского общества. Конфуцианских «совершенномудрых» и буддистов он называет «конским навозом», оговариваясь тут же, что даже «навозом нельзя назвать их, так как от навоза есть польза». В своей ненависти к буддийским бонзам Андо Сёэки близок, как отмечают исследователи, к антиклерикальной борьбе французских материалистов.
Есть в работах Андо Сёэки и явные переклички с трудами прогрессивных китайских мыслителей XVII в., например, Ван Фучжи. По мнению японского философа, противоречия современного общества можно разрешить только путем подчинения всей жизни общества разумным законам природы. Отсюда – его призыв к возврату в естественное состояние, когда люди все сообща возделывали землю.
Так или иначе во взглядах и в самом стиле мышления Андо Сёэки можно обнаружить черты, общие для просветительского сознания. Порою они близки к «естественной теории» Руссо, хотя представления о «естественном человеке» и «естественной свободе» японский мыслитель мог скорее заимствовать у философов-даосов, в частности у Чжуан-цзы (III в. до н. э.).
Мировосприятие Сиба Кокана (1738—1818) – ученого рангакуся, одного из основателей школы европейской живописи (ёга) в Японии, так же как и его старшего современника Андо Сёэки, связано с идеями Нового времени. Горячий сторонник гелиоцентрической теории Коперника, он не только высмеивал средневековое мышление, но и утверждал, что «начиная с Сына Неба (т. е. императора) и сёгуна и кончая париями и нищими, все одинаково люди». Перед смертью он сказал: «Прожив 70 с лишним лет, я впервые узнал, что такое человек... У Вселенной нет ни начала, ни конца. Рождается бесчисленное множество людей, и среди них я – неповторимое, единственное я».
Эта идея резко противостоит традиционному мышлению, как конфуцианскому, так и буддийскому. В творчество наиболее передовых мыслителей XVIII в. приходит осознание закономерности жизненного устройства, в котором человек как индивидуум занимает одно из главных мест. Однако жесточайшая военно-феодальная реакция не способствовала развитию нового миросозерцания. Труды Андо Сёэки почти не были известны современникам.
Социально-исторические взгляды большинства рангакуся противоречивы и половинчаты. Даже такой вольнодумец, как Хонда Тосиаки, считал необходимым по-прежнему сохранять деление общества по принципу феодальной иерархии.
В том же столетии среди торговой буржуазии распространилась так называемая сингаку – наука сердца, или тёнингаку – наука горожан, возникшая еще во второй половине XVII в. Основоположник этой «коммерческой этики» Исида Байган (1685—1744) осмелился ставить на одну доску бусидо (путь самурая) и сёниндо (путь торговца), доказывая, что купцам тоже свойственны великодушие и справедливость. Но, требуя от горожан рассудительности, правдивости и призывая их отказаться от чрезмерного стремления к наживе, чтобы достичь идеала «совершенного человека», Байган эклектически соединял элементы конфуцианства, буддизма и синтоизма, в то же время философия сингаку ставила целью оправдать деятельность торгово-ростовщической буржуазии, ненависть к которой была весьма сильной среди нищающего самурайства, городской бедноты и крестьянства. Японская художественная литература XVIII в. развивается, испытывая на себе воздействие всех общественно-идеологических тенденций своего времени. В ней мы увидим не только новые картины действительности, находящейся в разладе с охранительной идеологией токугавского абсолютизма, но и произведения, связанные своими корнями с господствующей конфуцианской литературной традицией.
СМЕНА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИДЕАЛАХ
В японской литературе XVIII в. сосуществуют три главных художественно-идеологических течения: кангакуха (школа китайского учения), кокугакуха (школа национального учения), тёнин бунгаку (литература горожан). В их сложном взаимодействии и взаимоотталкивании отразилось своеобразие историко-литературного процесса Японии рассматриваемого периода. Идейно-эстетическая борьба, начавшаяся еще в предыдущем столетии с образованием школы китайского учения и школы национального учения, широко развернулась в XVIII в. Если деятельность приверженцев китайской науки шла преимущественно в русле официальных доктрин, то национальная, или японская, наука была направлена против неоконфуцианства – главной идеологической основы токугавского режима.
Засилье конфуцианства привело к преклонению перед всем китайским и презрению к своему национальному. Дело дошло до того, что некоторые японские конфуцианцы восприняли от китайцев пренебрежительное название Японии – Тои (страна восточных варваров).
Школа китайского учения не только изучала философию и литературу Китая, но и подражала им. Стихи на китайском языке (канси) японцы писали еще с VIII в. (антология «Кайфусо», 751 г.), но тогда в этих стихах еще сохранялся японский колорит. Теперь же подражатели добивались полного воспроизведения законов китайской поэтики и воспевали только то, что было освящено литературной традицией Китая.
Ученые-конфуцианцы, исходя из дидактических задач искусства как неукоснительного следования Дао (Пути), полностью игнорировали естественные чувства человека, которому, как они считали, не подобало открыто выражать эмоции и страсти. В своих стихах они используют стереотипные образы, трафаретные выражения, заимствованные из китайской поэзии. Например, Муро Кюсо (1657—1734) воспевает японскую речку Кандагава, прибегая исключительно к китайским образам.
Однако новые веяния времени коснулись и традиционной поэзии на китайском языке. Предпринимаются попытки приблизить ее к человеку, к его внутреннему миру. Так, согласно мнению Гион Нанкай (1677—1751), одного из крупнейших поэтов, писавших в манере канси, выраженному в его трактате «Открытие источников поэзии» (1765), «таинственное свойство» поэзии заключается не в том, что она объясняет нравственные принципы, а в том, что она есть «песня, передающая чувства человека». Гион Нанкай предпочитает безличным стихам поэзию, отражающую глубину человеческих чувств. Негодование Эмура Хоккай (1713—1788) по поводу тех, кто сочиняет «легкомысленные стихи в доме свиданий», не возымело особого действия. Литература на китайском языке все более тяготеет к сфере человеческих чувств и постепенно отходит от традиционной регламентации, сковывающей творческое воображение. Заметно сближение поэзии канси с национальной поэзией хайкай, тесно связанной с повседневной жизнью и отличающейся большей свободой выражения поэтических чувств.
В этих условиях крупнейший ученый китайской школы Араи Хакусэки (1657—1725) прославился не столько как автор традиционного сборника «Поэтические произведения Хакусэки» (1711), сколько сочинениями, в которых он стремился раскрыть новое. Исходя из тезиса основателя неоконфуцианства Чжу Си «доискиваться до законов вещей» (кюри), Хакусэки проявляет глубокий интерес к современной ему жизни и становится одним из зачинателей «западной науки» в Японии. Как советник сёгунского правительства, он получал сведения о Европе от голландской миссии, беседовал с европейскими миссионерами. Он написал ряд сочинений, среди них наиболее важное – «Записки о Западе» (1709), где приводится рассказ миссионера-итальянца Сидотти о том, что в некоторых европейских странах победил республиканский строй и глава государства, а также чиновники избираются народом. Не исключено, что именно из-за этого отрывка «Записки» Хакусэки оставались неопубликованными до 1882 г.
Хакусэки обращается и к наименее развитому в средневековой литературе стран Дальнего Востока жанру автобиографии. В этом отразился возрастающий интерес писателей к личности, в том числе к собственной личности. В книге воспоминаний Хакусэки «Записки о сломанном и сожженном хворосте» (1716), хотя она еще не свободна от конфуцианских идей, проявилось глубокое внимание к частной жизни человека. Примечательно также, что книга Хакусэки написана не на китайском, как писалось подавляющее большинство подобных произведений, а на родном языке.

Кацусика Хокусай.
Гравюра из серии «36 видов Фудзи».
Смена художественных взглядов нашла свое отражение и в творчестве поэтов – приверженцев школы национальной науки. Они резко противопоставили себя конфуцианским литературным традициям и черпали вдохновение в национальной древности, ратуя за восстановление синто в его первозданной чистоте. Их умонастроению был особенно созвучен мир поэтической антологии «Манъёсю» (VIII в.), в которой отразился, по их мнению, истинно японский душевный склад, неразрывно связанный с синтоизмом. Заново открывая для себя «Манъёсю» и осмысливая идеалы, запечатленные в этой антологии, поэты возрождали древнюю национальную поэзию вака (букв. – японские песни).
Но крайности сходятся. Подобно литераторам конфуцианского толка, занимавшимся копированием китайских литературных образцов, поэты школы национальной науки, преклоняясь перед собственными литературными традициями, также подражали древним авторам. Их взгляды на миссию поэта традиционны. Поэзия существует для них прежде всего как средство воплощения националистических воззрений и воспитания верноподданнического духа.
Такая творческая установка, разумеется, сковывала развитие поэзии века.
Достаточно естественное в принципе обращение к японской древности нередко оборачивалось проповедью национальной исключительности японцев. Центром земли они теперь объявляют уже не Китай, а собственную страну. Школа национальной науки восстанавливала всю легендарную историю древней Японии, начало которой якобы было положено семью поколениями небесных богов и пятью поколениями земных богов, и тем самым превращала историю в миф.
Глубокой приверженностью к традициям «Манъёсю» отмечено творчество Када-но Адзумамаро (1668—1736), одного из основателей школы национальной науки. Считая, что японскому поэту необходимо избрать свой путь, а не идти по следам «китайских диковинных птиц, которых в Японии нет», т. е. конфуцианской мудрости, Када-но Адзумамаро стремится воскресить сокровенную суть японского национального характера, воплощенную в «Манъёсю». Поэт считает, что суть японца раскрывается в понятиях «мужество», «воинственность». И хотя сборник стихов Када-но Адзумамаро по аналогии с «Манъёсю» («Мириады листьев») назван «Собрание весенних листьев» (1795), а весна в Японии, как и во многих других странах, символизирует любовь, в этой книге нет места любовной лирике, так как высокое человеческое чувство связано, по мнению автора, не с любовью к женщине, а с мужеством сурового воина.
Отношение Камо Мабути (1696—1769) к наследию «Манъёсю» также страдает односторонностью. Он стремится полностью восстановить дух этой классической антологии, но опять-таки считает, что он воплощен не в любви, а в воинственной простоте. Камо Мабути подражал и языку, и стилю «Манъёсю». Такое формальное следование за классикой, естественно, сковывало развитие поэтической индивидуальности. «Сборник стихов Камо Мабути», изданный в 1791 г., не выходит за рамки старой поэтической традиции. Современная писателю жизнь почти не вторгается в поэзию. Заслуга поэта состояла скорее в его глубоком исследовании национальной классики, представленном прежде всего в труде «Размышления о „Манъёсю“» (1768).
Возвеличение воинственного начала в японской литературе прошлого вызвало протест даже среди самих приверженцев школы национальной науки. Так, Када-но Аримаро (1706—1751) в «Восьми трактатах о национальной песне» (1742) выступил не только против официальных конфуцианских воззрений на литературу как на средство поощрения добра и наказания зла, но и против тех своих соратников, которые подчиняли изучение древней поэзии националистическим целям. Он отстаивал право поэтов писать стихи о любви.
Большой интерес представляют эстетические трактаты Мотоори Норинага (1730—1801), крупнейшего представителя национальной школы, в которых автор не только раскрывает самобытность древней японской культуры, но и обосновывает свое толкование моно-но аварэ (скрытое очарование вещей) – эстетической категории, служащей основой для понимания прекрасного в японской поэтике.
Подлинная поэзия, по мнению Норинага, отражает глубину человеческих чувств, поэтому на первое место он выдвигает классику хэйанской эпохи (IX—XII вв.), особенно роман «Гэндзи моногатари», возвеличивающую красоту женственности, а не грубую мужскую силу.

Судзуки Харунобу. Летний полдень
Гравюра XVIII в.
В книге «Жемчужина „Гэндзи моногатари“» (1799) Норинага утверждает, что моно-но аварэ является сущностью прозы. Необходимо пояснить, что слово «аварэ» этимологически связано с междометием, выражающим восторг. Восхищение естественным проявлением «вещей» («моно»), по мысли Норинага, и есть суть этой категории традиционной японской эстетики.
Вопреки тысячелетней традиции Мотоори Норинага утверждает в качестве главной художественной ценности сферу человеческих чувств и переживаний и стремится освободить литературу от нормативов конфуцианской этики, видевшей в поэзии лишь средство поучения. Развивая идею Када-но Аримаро, ратовавшего в «Восьми трактатах о национальной песне» за отделение поэзии от господствующей религии и политики, Норинага утверждает, что искусство должно жить своими законами. Например, в работе «Суть творчества Мурасаки Сикибу» (1763), посвященной автору «Гэндзи моногатари», Норинага пишет: «Бывает так: что дурно в обычных [т. е. конфуцианских] книгах, напротив, хорошо в поэзии и прозе. Бывает и наоборот... Всякие представления о хорошем и дурном изменяются в зависимости от взглядов художника, времени и места [...] Для конфуцианства и буддизма дурно, когда человек следует велению собственного сердца, а хорошо, когда он подавляет его [...] Такое понятие о добре и зле неприемлемо для литературы, в которой хорошо то, что соответствует человеческой натуре, и, наоборот, дурно то, что противоречит ей. Печалиться, когда у людей горе, веселиться, когда у них радость, – это и означает жить согласно натуре и принципу «скрытого очарования вещей». Человек, подавляющий свое чувство и не знающий «скрытого очарования вещей», равнодушен к людским горестям и печалям. Это дурной человек... Литература повествует о «скрытом очаровании вещей», дабы довести до читателя его суть».
Явно подхватывая идеи китайских философов XVI в. Ван Ян-мина, Ли Чжи и Хэ Синь-иня, первый из которых был особенно популярен в Японии, Мотоори Норинага говорит о полноценности человека, имеющего «настоящее сердце», а такое сердце «имеют все люди». Он противопоставляет господствующей науке, изучающей природу человеческих отношений в духе конфуцианства, ценность человеческого чувства, раскрывающегося в естественности его величия. «Вглядываясь в человеческую душу изнутри, – пишет он, – мы обнаруживаем, что все люди бывают беспомощны, как дети. Книги чужой страны (т. е. конфуцианские) не обращают на это внимания и описывают лишь внешнюю видимость мудрствования. Наша литература повествует о правде человеческой души, как есть в жизни, поэтому некоторым она кажется неискусной».
В книге «Бамбуковая корзина» («Тамакацума», 1794) Норинага яростно нападает на конфуцианский ригоризм и ханжество, считая их противоречащими природе человека. Сфера проявления «скрытого очарования вещей» не ограничивается для него областью дивной природы, обладающей самостоятельной ценностью, напротив, человеку с его земными радостями отводится главное место. «Желание поесть вкусно, иметь шелковые платья, хорошее жилье, драгоценности, быть уважаемыми, жить долго – это естественные человеческие стремления, – говорит Норинага. – Однако принято считать, что все это дурно... и многие делают вид, будто они ничего не желают. Но это давно надоевшая ложь. Когда «мудрецы» созерцают луну и цветы, их лица преображаются от очарования, но, когда они, встречая красавицу, проходят мимо, будто бы не замечая ее, разве это искренно!.. Восхищаться красотой природы и не замечать прелести женщины – так не бывает с человеческой душой. Это глубокая фальшь!»
Высшим проявлением «скрытого очарования вещей» Норинага считает всепокоряющую любовь и резко возражает своему учителю Камо Мабути, прославлявшему «мужское», самурайское начало древней японской поэзии. Изображая смерть воина в бою, писатель обычно воспевает лишь его мужество и тем самым, по мысли Норинага, искажает правду жизни. Если взглянуть в душу умирающего воина, то становится очевидным, что он вовсе не лишен человеческих слабостей. Его влечет к родным местам, к матери, он тоскует по жене и детям, т. е. испытывает чувства, «неподобающие» истинному самураю, но на самом деле вполне естественные. Нет чувства сильнее любви, именно в любви и выявляется, по мысли Норинага, истинный смысл поэзии.
Утверждая, что «сущность вещей» женственна, Норинага противопоставляет гармоническую красоту внешним знакам славы, силы и ложной значительности. Не случайно он считает образцом подлинной литературы роман «Гэндзи моногатари», приковавший внимание к человеческой личности не в ложно героическом обличье, а в естественности ее индивидуального существования.