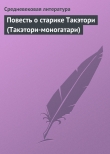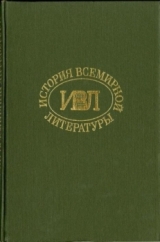
Текст книги "История всемирной литературы Т.5"
Автор книги: Георгий Бердников
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 89 (всего у книги 105 страниц)
ЛИТЕРАТУРЫ ЮЖНОГО СУЛАВЕСИ
Религиозная общность и общность исторических судеб способствовали и в известной мере определяли в XVIII в. характер тесных культурных связей малайцев и бугийцев. Малайский язык часто выступает на Южном Сулавеси в привычной для него роли языка-посредника, и такие произведения, как «Роман об Александре», «Сказки попугая» или история вознесения Мухаммада, были переведены на бугийский не с арабского или персидского, а с малайского языка.
В значительно более популярных собственно бугийских сборниках поучений (латоа) раскрывается идеология развитого военно-демократического общества, обладающего политическими, правовыми и этическими традициями и не склонного ими поступаться. Печать своеобразия лежит и на многочисленных историко-генеалогических произведениях, которые писались при дворах Ваджо, Соппенга, Луву и других княжеств, где роль литературного языка играл бугийский язык. Из этих произведений наиболее известны доведенные до XVIII в. так называемые «Хроники Ваджо». Деловитость и отстраненность – вот что в первую очередь привлекает в этом произведении, безымянные авторы которого скрупулезно перечисляют рождения, смерти и брачные союзы членов царствующего дома, суммарно отмечают их заслуги или конспективно описывают их деятельность. Читая о том, что Ла Сале то Тэнри во время своего царствования повелел жителям Ваджо купить тысячу ружей и научиться стрелять из них, приказал построить в Ваджо пороховые погреба, велел выбелить стены мечети и покрыть ее досками, а также пристроить к ней минарет, был первым арумматоа (звание правителя Ваджо), в честь которого стали бить в барабаны и тарелки и т. д., мы ждем исходящей от самого автора хвалы мудрому и благочестивому государю, но не находим ее. Бесполезно искать и хоть какого-нибудь данного задним числом объяснения неудачи, которая постигла правителя Ваджо, пытавшегося захватить Гоа – голландский оплот на Южном Сулавеси. «Хроники» и в этом случае ограничиваются бесстрастным сообщением: «Было сражение между голландцами и людьми Ваджо. Люди Ваджо были разбиты со всем своим подкреплением. Один Пилла и прикрывал отступление воинов Ваджо. И арумматоа покинул Гоа и отправился восвояси».
Лишь изредка авторы ваджоского историко-генеалогического сочинения приоткрывают для нас облик героев своего повествования. Замечателен в этом отношении диалог одного из ваджоских мужей совета (арубеттемпола) и кадия Боне, который просит ваджосца не мстить его землякам за то, что отряд Боне перешел во время описанных выше военных действий на сторону голландцев:
«И сказал кадий Боне: „Окажи нам милость и прими этот ничтожный подарок – тридцать черных буйволов – и пусть твое войско уйдет от нас, потому что арумменге (сановник из Боне) приказал мне передать тебе верные слова, которые не будут забыты: всех бонесцев, находящихся ныне в Джумпанданге, следует отныне почитать за голландцев“.»
И сказал арубеттемпола: «Возьми назад свои дары. Послушай только, что я скажу тебе: а если бонесцы, которые сейчас находятся на Макассарской земле, вернутся домой, не забудешь ли ты о том, что они голландцы?»
Кадий Боне сказал: «Пусть мы лишимся радостей этого и будущего мира вплоть до воскресения из мертвых, если мы примем за своих тех бонесцев, что обретаются в Макассарской земле. Если мы нарушим наше слово, пусть будем мы извергнуты из числа последователей Пророка!»
Арубеттемпола сказал: «Всевышний слышал твои слова, и его пророк – свидетель их“».
И здесь авторы сочинения ни словом не обмолвились о каре, которая по справедливости должна была бы постичь клятвопреступника, ибо в скором времени в Боне с распростертыми объятиями приняли родичей, вернувшихся домой после окончания военных действий.
Сказанное никоим образом не означает, что лаконичность и сдержанность были определяющими чертами бугийской литературы XVIII в. Достаточно лишь обратиться к спискам «И Ла Галиго», важнейшего памятника бугийского эпоса, чтобы очутиться в совершенно ином, обстоятельнейшим образом описанном и чудно украшенном мире, обитатели которого одержимы могучими страстями и не стремятся скрывать их от своих друзей и врагов. Разумеется, следует иметь в виду, что XVIII век – лишь верхняя граница составления списков, доносящих до нас более или менее крупные фрагменты огромного цикла, устное бытование которого, по-видимому, завершалось к тому времени, когда бугийским языком занялись голландские ученые, т. е. к XIX в.
Исповедовавшийся бугийцами ислам долгое время не мешал существованию местного языческого жречества. Обязанности жрецов нередко выполняли знатные женщины, они же составляли основную часть грамотеев, способных разобраться в рукописях «И Ла Галиго», которым приписывались магические свойства. Особым пиететом первоначально пользовалась мифологическая заставка «И Ла Галиго» – рассказ о том, как Вершителю Судеб, повелителю Верхнего мира (наряду с ним существовал Нижний мир – Перетиви, где правил младший брат и шурин Вершителя Судеб), была однажды подсказана благая мысль, которой он поспешил поделиться со своей женой: «Дату Палинге, моя дорогая, разве трудно нам послать (вниз) наше дитя, чтобы отпрыск дерева, носящего мое имя, оставил после себя потомство и земля стала бы обитаемой, а под небом больше не было бы пустоты. Моя дорогая, мы не боги, если под небом нет людей, взывающих к облакам». Мысль эта оказывается осуществленной, и Батара Гуру, тезка яванского Шивы-Будды и старший сын Вершителя Судеб, создает между Верхним и Нижним миром землю, затем он населяет ее и, сочетавшись браком со своей кузиной, старшей дочерью повелителя Нижнего мира, основывает царскую династию в Луву – наиболее древней исторической области Южного Сулавеси, бывшей в свое время, по-видимому, центром местной индуизированной цивилизации.
Главным героем «И Ла Галиго» выступает, однако, не демиург Батара Гуру, а его внук, бесстрашный мореплаватель Саверигадинг, история которого, по словам голландского исследователя Р. Керна, «в известной мере есть история всего бугийского народа, избороздившего столько морей, прежде чем обрести свое нынешнее пристанище». Саверигадинг живет в то время, когда земля еще свободно сообщается с Верхним и Нижним миром, и пространство, в котором действует этот герой, включает в себя соответственно оба эти мира, а также мир теней; путешествия бугийского Одиссея могут рассматриваться как разбившаяся на множество эпизодов брачная поездка, а в самом Саверигадинге, предоставляющем обычно своим соратникам возможность таскать каштаны из огня, гораздо больше от чародея, чем от богатыря. Короче говоря, многие черты сближают «И Ла Галиго» с архаическими формами «догосударственного эпоса», столь многим обязанного мифу. В то же время «лувуцентризм»
эпопеи, богатырская солидарность спутников Саверигадинга, исторические приметы, которыми, правда, в очень умеренной степени наделены страны, посещаемые Саверигадингом, говорят как будто о том, что бугийская эпопея являет собой интереснейший пример перехода от мифологического к классическому эпосу.
Исторический эпос бугийцев также принимает, вероятно, письменную форму не позже XVIII в., но по мощности звучания он как будто слабее «И Ла Галиго». Так, за пределами одного из бугийских княжеств – Боне – оставалась, по-видимому, неизвестна «Песня о Длинноволосом князе» – большая эпическая поэма (толо) об Арупалакке – князе Боне, вступившем на путь союза с Нидерландской Ост-Индской компанией и оказавшем ей немалую помощь во время колониальных войн последней трети XVII в. Бугийские поэмы отличаются строгим силлабизмом и обилием тропов.
Существовал исторический эпос и у родственных бугийцам макассарцев. К нему относится, например, историко-романическая поэма о богатыре с острова Сумбава Дату Мусенге, который, отказавшись отдать голландскому губернатору свое боевое оружие и молодую жену, убивает красавицу с ее полного согласия и героически гибнет в неравном бою с посланными против него макассарскими вельможами. Однако в XVIII в. макассарские поэмы, для которых, в отличие от бугийских, характерно неравносложие соизмеримых строк, бытовали, наверное, лишь в устной форме. Письменная словесность макассарцев состояла преимущественно из многочисленных переводов с малайского (народные романы) и арабского (дидактические и богословские произведения, порой суфийского плана), из хрестоматий, включавших в себя различные сведения правового, политического и нравоучительного типа, а также из историко-генеалогических сочинений, весьма близких по характеру к бугийским.
АЧЕХСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (СЕВЕРНАЯ СУМАТРА)
Вплоть до конца XVII в. ачехский язык был преимущественно языком устного народного творчества, а функции литературного языка в Ачехе выполнял малайский. Однако, по мере ослабления межостровных связей и изоляции слабеющего султаната Ачех, здесь все большее влияние начинает приобретать местный язык. Первоначально к нему прибегали преимущественно переводчики иноязычных ученых произведений, переводившие прозой и не решавшиеся отойти от буквы оригинала. Но мощная народно-поэтическая традиция ачехцев все более решительно давала о себе знать, и в XVIII в. поэмы, написанные народным моноримным восьмистопным стихом, берут верх над прозаическими сочинениями.
Многие из этих поэм в основе своей имеют иноязычный литературный памятник, но пропущенный через призму народной традиции. Малайские народные романы, попав в ачехскую народную среду благодаря устному пересказу какого-нибудь грамотея, начинали свою вторую жизнь сперва в прозаической форме, а затем в качестве народной песни, пока усилия книжников не возвращали их в круг письменной, но уже ачехской литературы. Таким образом, возникло, по-видимому, немало ачехских поэм религиозного содержания, то более близких к оригиналу («Слово о Мекке и Медине», ряд поэм о Мухаммаде и его сподвижниках), то довольно далеко от них отошедших, например «Слово о наби Усохе», посвященное жизнеописанию пророка Юсуфа (Иосиф).
Гордившиеся своим мусульманским благочестием образованные ачехцы обращались и к поэмам о домусульманских временах, «когда люди умели летать». Порою корни этих поэм обнаруживаются без особого труда: например, в «Песне о Чинтабухан» можно узнать малайский «Шаир о Кен Тамбухан», восходящий, в свою очередь, к яванским истокам. В нем рассказывается, как царица-мать казнит неугодную ей невестку, что влечет за собой самоубийство сына, однако Шива-Будда повелевает воскресить влюбленных и возводит их впоследствии на престол. Гораздо сложнее, например, проблема происхождения «Песни о Малеме Диве». Лежащий в ее основе сюжет о браке царевича и дочери повелителя воздушного царства популярен не только у ачехцев, но и у соседних малайцев, минагкабау и батаков; он прослеживается в начале относящейся к XVII в. «Повести об Ачехе», там, где идет речь об основании местной царской династии. Есть основания предполагать, что «Песня о Малеме Диве» – поздний ачехский вариант праиндонезийского мифологического эпоса того же типа, что и «И Ла Галиго».
Восхищаясь героической поэзией ачехцев, X. Снук Хюргронье писал о невозмутимой объективности ачехских сказителей, об их превосходном владении материалом, тонком чувстве трагического и комического, о той лаконичности и верности натуре, которая свойственна их описаниям. Сказанное в значительной мере может быть отнесено к «Песне о Малеме Даганге». Эта поэма посвящена походу ачехской эскадры против коварного язычника Си Уджута. Си Уджут с его бесчисленным флотом, в сущности, собирательный образ ачехских противников в XVII в., недаром он именуется то раджой Джохора или Малакки, то повелителем Гоа, а его воинов поэт иногда называет «голландскими безбожниками». В то же время в изображении врагов в известной степени сказались и мифологические представления – так, географическое название Гоа (ачех. грот, пещера) обыгрывается в поэме как подземный тоннель, через который флот Си Уджута попадает из потустороннего мира в мир людей.
Анализ поэмы позволяет сделать вывод, что ее историческим зерном является предпринятый в 1615 г. морской поход против Джохора, целью которого было наказать джохорского султана за его недопустимые заигрывания с португальцами. Разумеется, в поэме поход спровоцирован грабежом и зверствами Си Уджута, когда же злодей попадает в конце концов в плен к ачехцам, его предают казни после того, как он категорически отказывается бросить поклонение «солнцу и пророку Моисею». Важно отметить, что поэма никоим образом не представляет собой панегирика самому мощному из ачехских монархов Искандару Младшему (годы царств. – 1607—1636), возглавлявшему карательный поход против Си Уджута. В ходе кампании Искандар не раз проявляет робость и малодушие и навлекает на себя насмешки своего юного флотоводца Малема Даганга, который совершает чудеса храбрости плечом к плечу со своими боевыми соратниками – пидирским воеводой, а также раджой Раденом – старшим братом Си Уджута, прибывшим в Ачех для того, чтобы обратиться в истинную веру, т. е. ислам.
Отсутствие многих характерных для народного героического эпоса тропов, религиозная окраска поэмы и ее растянутая вводная часть, в которой описывается, как Искандар собирает ополчение, – все это наводит на мысль, что «Песня о Малеме Даганге», при всех ее явных связях с народной традицией, – авторское произведение.
К авторским произведениям следует отнести и замечательную героическую поэму – «Песню о Почуте Мухаммате». Исторической основой этой поэмы послужила междоусобная война, покончившая с установившимся было в Ачехе двоевластием и увенчавшаяся единодержавием Алауддина Джохана Чаха (1735—1760). Соперник Алауддина Сайид Джамал аль-Алам (Поте Джемалой) был побежден в результате военной кампании, развернутой против него младшим братом Алауддина – талантливым дипломатом и организатором Почутом Мухамматом. Очевидец этих бурных событий Лебе Бе’ах изложил их «опытному в сложении историй о раджах» Тыку Лам Рукаму, и этот сведущий в мусульманской книжной премудрости опытный бард и талантливый сочинитель, питавший живой интерес к судьбе родины, создал в результате поэму, в которой блестящие эпические описания сочетаются с безупречными, с ораторской точки зрения, монологами и мастерскими диалогами, а традиционные батальные сцены – с беспощадными описаниями ужасов войны и бедствий, которые она несет простолюдинам. Особую часть поэмы составляет история воеводы Пангулее Пынароэ. Названый сын Поте Джемалоя, Пангулее Пынароэ, постепенно поддается вкрадчивым уговорам Почута Мухаммата и обращает оружие против своего благодетеля; сыграв решающую роль в победе над Поте Джемалоем, он выслушивает его горькую отповедь и гибнет, сраженный тенью ветки, перебитой пулей потомка пророка.
ЛИТЕРАТУРА НА МАЛАЙСКОМ ЯЗЫКЕ И НА ЯЗЫКЕ МИНАНГКАБАУ
Несмотря на ослабление связей между народами архипелага, малайский язык и в XVIII в. пытается выполнять затруднительные для него в новых условиях обязанности языка-посредника. В этом убеждает, например, «Повесть о покойном султане Ачеха», представляющая собой сокращенное прозаическое переложение на малайском языке «Песни о покойном Мекута Аламе». Без сомнения, не на одних лишь местных ревнителей ислама были рассчитаны и богословские работы жившего в Палембанге Кемаса Мухаммада ибн Ахмада (1719—1763), автора повести о чудесах и деяниях его учителя – мединского мистика Мухаммада Самана (1719—1775). То же можно сказать и о трудах его земляка Абд ас-Самада аль-Палембани, который в 60-х годах написал в Мекке малайскоязычный трактат о единобожии, а в 70-х годах, не покидая святой земли, снискал себе известность как переводчик и комментатор Газали и автор ряда других работ.
Среди памятников малайской историографии XVIII в. заметное место занимает такое произведение, как «Кедахские родословия», или «Повесть о Меронг Махавангсе». Эта книга, созданная в захудалом малайском княжестве, долгие годы находившемся в вассальной зависимости от Сиама, повествует о том, как визир Оттоманской Порты (Рума) основал Кедах, а его потомки положили начало близлежащему Сиаму, Патани, Пераку. Далее речь идет о свержении с престола правнука Меронга, пристрастившегося к человечине, о том, как новым царем Кедаха стал его сын, избранный на царство мудрым слоном, а Кедах оказывается обращен в ислам по инициативе багдадского шейха Абдуллы Ямани, перед тем поступившего на службу к Отцу Зла – Иблису, чтобы своими глазами увидеть, каким образом тот вводит людей в грех. Легендарный характер этого памятника не могут замаскировать ни колофон, включающий список правителей Кедаха, ни предисловие и второе название, скопированные с «Малайских родословий», и вряд ли следует искать следы эзоповского языка в образах, созданных народной фантазией и разумением местных книжников.
Совсем другого рода памятники представляют собой «Повесть о государстве Патани» и «Миса Мелаю». Первый из них – гетерогенное анонимное произведение, наиболее яркая (и самая значительная по объему) часть которого, как полагают издатели текста, приняла окончательную форму не ранее 1720 г. В этой части содержится рассказ о самом блестящем периоде истории Патани – небольшого княжества на северо-восточном побережье Малаккского полуострова, столица которого в XVI—XVII вв. была одним из самых бойких портов Юго-Восточной Азии. Исторические предания, лежащие в основе первой части «Повести», поражают не полетом фантазии, а той ясностью, с которой в них отражается страшноватая жизнь малайского средневекового города, и прежде всего двора. При всей своей откровенности безымянный автор весьма последовательно прославляет царствование так называемой Местной династии и в значительной мере добивается создания цельного произведения, искусно компонуя и перерабатывая известные ему устные источники.
«Миса Мелаю» охватывает период с 1742 по 1778 г, на который приходятся годы царствования султана Искандара (1752—1765), наиболее благополучного из государей Перака (султанат на западном побережье Малакки). Литературный талант автора – Раджи Чулана, отпрыска перакского царствующего дома, – и его природная наблюдательность сказываются и в описаниях политической истории Перака: междоусобиц, конфликтов с голландцами, деятельности султана Искандара, – и в изложении менее значительных событий придворной жизни Перака, крайне интересных для современного читателя. Придворный литератор не поднимается, однако, над своим временем – так, судьба Сити Сары, мечтавшей о соединении с любимым человеком, а попавшей вместо этого в султанский гарем, привлекает внимание Раджи Чулана лишь потому, что несчастная женщина оказалась предметом соперничества двух перакских вельмож.
Органическую часть сочинения Раджи Чулана составляет шаир об увеселительной морской прогулке султана Искандара. Как и остальные малайские шаиры, он состоит из четверостиший, где в каждой строке от восьми до двенадцати слогов, и скреплены эти стихи четверной конечной рифмой. В XVIII в. было создано, по всей вероятности, немало романических шаиров, а также ряд аллегорических шаиров из жизни животных, неоднократно расценивавшихся как шутливые отголоски романических шаиров. Без сомнения, в это же время появляются и некоторые малайские народные романы, в которых, по словам крупнейшего английского малаиста Р. О. Уинстедта, «царевичи или царевны неземного происхождения благополучно выходят из ловушек, расставленных на их пути демонами, великанами или людьми, а неуязвимые герои побеждают чудовищ с помощью лука Арджуны или меча Яфета, похищают невест из неприступных замков и разгадывают сложные загадки благодаря магическому дару, полученному ими от фей, духов, гениев, индуистских или мусульманских мудрецов».
Малайская литература была издавна более других литератур региона открыта для иностранных и иноязычных влияний. В XVIII в. она не утрачивает этого свойства. Не исключено, что именно малайско-бугийские контакты привели к тому, что малайская историография по примеру бугийской начинает все больше ориентироваться на реальность. Не убывает, а, может быть, возрастает в XVIII в. циркуляция малайскоязычной романической литературы, восходящей к яванским источникам. Наконец, в XVIII в. приобщаются к литературе минангкабау – западносуматранские горцы, исламизированные лишь в XVII—XVIII вв. Долгое время передававшиеся изустно исторические предания, эпические сказания минангкабау начинают записываться. Влияние малайского литературного языка, близость диалектов минангкабау к малайским диалектам и особенно правописания, присущего всем языкам, пользующимся арабской графикой, приводят к тому, что язык местных литературных памятников являет собой широчайшую гамму переходных форм, то более, то менее удаляющихся от малайского литературного языка.
Не позднее XVIII в. принимает законченную форму наиболее знаменитая эпическая поэма минангкабау – «Чиндуа Мато», дошедшая до нас, как и все остальные произведения традиционной литературы минангкабау, лишь в рукописях XIX в. «Чиндуа Мато» значительно ближе к классическому эпосу, чем бугийский «И Ла Галиго». В основе его прослеживается опять-таки мотив брачной поездки, совершаемой на этот раз не самим женихом – высокорожденным Данг Туанку, а его молочным братом и «вторым я» Чиндуа Мато, который тайно увез невесту Данг Туанку от владетельного Имбанга Джайи, заполучившего было ее в жены при помощи обмана. Крушение планов Имбанга Джайи, завершающееся его гибелью от руки Чиндуа Мато, это не столько поражение «врага», «чужого» (Имбанг Джайя лишен каких-либо демонических черт и может рассматриваться как минангкабау), сколько наказание нарушителя правовой нормы. Недаром выяснению вопроса о виновности Имбанга Джайи уделено чрезвычайно много места. «Эпическое время» в эпосе – время господства материнско-родовых институтов, время относительной изоляции минангкабау от внешнего мира, время, доминантами которого считаются общественная гармония, дух взаимных обсуждений, острое осознание взаимопроникающих категорий «возможного» и «должного».
Именно минангкабау написал интересную «Повесть о Находе Муде», которую до недавнего времени считали мемуарами, образцом реализма и новой реалистической стилистики. Автором этого произведения, переведенного в XIX в. на английский и французский языки, был Лауддин, писец английской фактории в Лайсе, который посвятил свою книгу жизнеописанию своей семьи, а в первую очередь главе семьи – Находе Муде, рачительному и осторожному торговцу перцем. Еще отец Находы Муды порвал связь с Западной Суматрой, и родиной для него, как и для его сына, с тех пор стала округа, в которой он жил, а земляками – соседствующие с ним малайские и минангкабауские купцы-судовладельцы, среди которых был весьма силен дух артельности. Более широкий патриотизм нашему герою по существу неизвестен: когда Рату Багус Буанг поднимает на Западной Яве восстание против официального сюзерена Находы Муды – бантамского султана – и присылает своего эмиссара в Семангку, южносуматранскую область, где обосновалась семья Находы Муды, тот держит совет со своими товарищами-купцами и без лишних эмоций высказывается: «Думаю я, господа мои, пока держится бантамский султан и пока не пала Компания в Батавии, не стоит нам слушаться Рату Багус Буанга... Полагаю я, что не справиться с Бантамом Рату Багус Буангу, как он ни смел и ни тверд, потому что Батавия стеной стоит за султана».
Однако ни расчетливость, ни безукоризненная линия поведения по отношению к власть предержащим не спасает богатого купца, облеченного доверием султана, от зависти и наветов служащих компании, а затем от ареста и конфискации имущества. Напрасно Находа Муда высказывает своим сыновьям, посаженным под арест вместе с ним, надежду на мудрость божественного провидения и помощь могущественных заступников. Сыновья не могут с ним согласиться: «Если сошлют они нас на острова Дамар, кто там поможет нам? Целые дни напролет будем мы вить там канаты, отец. Кто знает, что они еще учинят с тобой и куда они отправят всю нашу родню, уж не обратят ли они нас в рабство? А уж имущества твоего, отец, тебе наверняка больше не видать! Бог весть, сколько ты еще проживешь на свете – может долго, а может нет, а ведь нам четверым маяться там всю жизнь». И Находа Муда с сыновьями, перебив команду, захватывает стоящий на рейде корабль, на котором их держали пленниками, и возглавляют нападение на малочисленный голландский гарнизон, находящийся в Семангке. Покинув Семангку, участники восстания просят затем у английских властей разрешения поселиться в подконтрольной им части Суматры, и Находа Муда умирает, так и не дождавшись благоприятного решения вопроса.
Нельзя не отметить, однако, что при всем своеобразии произведения Лауддина в основе своей оно сочетает черты родового (историко-генеалогического) предания и историко-романического «искусственного эпоса», а язык «Повести о Находа Муде» в целом не выходит из русла сдержанного описательного стиля, свойственного малайскоязычным родословиям. Таким образом, даже самая динамичная из литератур Индонезийского архипелага и Малакки стояла в конце XVIII в. лишь на пороге перемен, которые ожидали ее в XIX в.