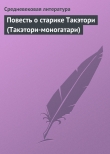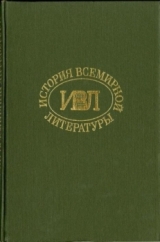
Текст книги "История всемирной литературы Т.5"
Автор книги: Георгий Бердников
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 105 страниц)
ЛИРИКА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ВЕКА.
ГЮНТЕР. БРОКЕС. ГАГЕДОРН
На общем неярком фоне немецкой литературы первых десятилетий века самую заметную роль наряду с Готшедом играют поэты. В творчестве Гюнтера, Брокеса, Гагедорна, как и в лирике немецко-швейцарского поэта Галлера, разными гранями отразилась переломная эпоха в развитии немецкого общества. Еще живы традиции XVII в., весом и значим авторитет Гофмансвальдау и Грифиуса, далеко не сразу преодолеваются мироощущение и художественные формы барокко. Но уже побеждает новый взгляд на мир, на природу и человека.
Но если Брокес, Гагедорн, Галлер – каждый в отдельности – раскрывают какую-то одну грань в этом процессе формирования поэзии Нового времени, то творчество Гюнтера как бы концентрирует в себе трагические коллизии переходной эпохи, отражает напряженные поэтические поиски в разных направлениях. И может быть, только ранняя смерть помешала ему полным голосом произнести новое слово.
Короткая жизнь Иоганна Кристиана Гюнтера (1695—1723) была очень трудной. Современники не восприняли всерьез его незаурядный поэтический талант. Для коронованных меценатов он был слишком самостоятелен и недостаточно сервилен; поклонники поэзии, воспитанные на художественных образцах XVII в., не понимали его новаторства. Представители утверждавшейся школы разума не прощали Гюнтеру его приверженности к барокко, его фантазии, вольности в языке и стихосложении. Он оказался на стыке двух времен, органически связанных между собой и одновременно противостоящих друг другу по тональности, по мировосприятию и самоощущению человека в его взаимоотношениях с миром. Поэтому Гюнтер разделил судьбу всех художников промежуточного периода: он протянул какие-то, подчас незаметные, но достаточно прочные нити от века уходящего к будущему, которого ему самому не дано было увидеть.
Художественные искания Гюнтера отражены и в жанровом многообразии его поэзии. Он словно пробует свои силы, обращаясь и к типичным жанрам XVII в., и к таким, в которых наиболее полно чувствуется его демократический характер, его тяготение к ясному, общепонятийному выражению мысли и чувства. Он пишет застольные песни, сатиры; большое место в его наследии занимают послания и оды; в его творчестве можно встретить мотивы галантной поэзии и анакреонтической лирики. А «Ода принцу Евгению» по случаю заключенного в 1718 г. мира (между Австрией, Венецией и Турцией) является образцом героической лирики. В отличие от традиционных панегириков Гюнтер придал оде эпическую масштабность, изобразив победу над Турцией как знаменательное событие национальной истории.
В гимназические годы Гюнтер написал драму «Ревность и раскаяние Теодозио» (1715) – произведение, в котором чувствуется рука поэта, а не драматурга. Уже в лирике студенческих лет (проведенных в Виттенберге, 1715—:1717 гг.) заметны поиски собственной, наиболее близкой молодому поэту темы и своего, особого выражения. В его студенческих песнях поражают контрасты тона и настроения: веселая удаль молодости, остро напряженное ощущение жизни, почти ренессансное восприятие плотских радостей. И все это переливается в мысль о скоротечности этих радостей, о неизбежном конце; возникает почти апокалиптический образ смерти. Наследуя традиции барочной лирики, обращаясь к кругу античных образов, наиболее популярных в XVII в., Гюнтер по-своему воспринимает и опыт духовной песни (П. Герхардт), прежде всего мотив погружения в глубины своего «я». Это проявляется у Гюнтера в подчеркнуто личностном характере его творчества. Вместе с тем экспрессивные образы его стихотворений – непосредственная реакция поэта на окружающую жизнь, в которой сталкивалось прекрасное и устрашающее, радость и тоска.
Пребывание в Лейпциге (1717—1718) расширило круг интересов молодого поэта. Он знакомится с трудами философа X. Вольфа, читает античных авторов, переводит Анакреонта и неолатинского поэта XVI в. И. Секунда, пишет сам анакреонтические стихи. Все это накладывает отпечаток на его творчество, но вместе с тем не лишает его самобытности.
Поэтично описание радостей жизни у Гюнтера. Он увлеченно передает игру и фантазию любви – «самого живого чувства» – и лукаво замечает в стихотворении «Свадебная шутка», что любовь для него вовсе не посторонняя тема: он хорошо знает ее нрав и смело может давать советы, как ее завоевать, советы, полные задора.
В декларациях любви у поэта, однако, не просто восторг наивно-мудрого Анакреонта: через обнаженное чувство раскрывается глубокий смысл существования человека, некий невидимый фундамент его жизни. Здесь сочетается осмысление мира в его иррациональной основе и размышления наделенного разумом человека над своим единством с природой, над теми благами, которыми он обладает. Гюнтер как бы начинает сложный мотив, который много позднее, в конце XVIII в., будет подхвачен первыми немецкими романтиками.
Раскованность, внутреннее раскрепощение человека, осознающего и ощущающего свой духовный мир, сквозит во многих стихотворениях поэта, отражается в их тематике, в художественных приемах. Человек у него – частица божественного мира, но частица одухотворенная,
которая понимает свою связь с создателем, которая должна верить, надеяться – словом, жить, повторяя своей жизнью все многообразие мироздания в миниатюре. Очень показательно в этом отношении одно из ранних стихотворений Гюнтера, «Вечерняя песнь». Это разговор человека с богом, поражающий исключительной вольностью, но не вольностью безбожника. Перед нами свободная игра ума религиозного в самой основе, растворяющегося в том вечном, что его сотворило, но именно поэтому не знающего никаких преград. Это уже заявляет о себе человеческий разум, хотя и скованный еще старыми догмами.
Правда, барочные мотивы в лирике Гюнтера достаточно сильны и звучат не менее увлекательно, чем новые, еще до конца не определившиеся. Возникает греза усталого путника о покое, томительное стремление к пробуждению человека, как бы придавленного затянувшимся тяжким сном, мечта о прекрасном, которого не обрести в мире неправды и страданий, пока не придет добрая и всесильная смерть и не скажет: «Довольно». Но однажды она придет, и тогда все сбудется:
Час придет,
и алоэ зацветет,
И на пальмах плод созреет,
Горечь горя потускнеет,
И печаль моя пройдет,
И желанный час пробьет,
Наконец, мой час придет.
(«Ария утешения»)
В мечтах Гюнтера о свершении всего доброго есть и мечта об освобождении в самом конкретном, социальном смысле, правда облеченная в религиозную оболочку. «Наконец, поднимается спаситель, который свергает иго рабства». Демократические настроения поэта проявляются очень явственно. Он остро ощущает несправедливость общественного устройства, болезненно реагирует на контраст между богатством и бедностью, с горечью осознает собственное приниженное положение небогатого и незнатного среди тех, кто ценит только золото. Размышляя об изменчивости женского сердца, он опасается, что соперник может оказаться одетым в дорогой камзол, его удручает, что кошелек перевешивает все другие достоинства. Поэт постоянно помнит о своей нелегкой судьбе, и потому так тяжела была бы для него измена любимой: «Я унижен и беден и всеми оставлен, и так много врагов, которые ненавидят мою правду...». Но «своя правда», что-то сокровенное, для него дороже богатства; он никогда не продаст и не разменяет ее на звонкую монету. Гюнтер откровенно выражает презрение к тому, что в современном ему мире дает силу и власть: «Люблю лишь то, что мне желанно, и звоном кошелька меня не соблазнить». Поэт на своем опыте познал, как безысходна в его время участь талантливого человека. После неудачной попытки обосноваться при дворе саксонского курфюрста он с горечью признавался в послании к своей преданной возлюбленной Леоноре: «Мудрость не приносит хлеба, труд не радует, и гонит нас божий гнев...». Он до конца оставался свободным от презираемых им соблазнов роскоши, с мудрой стойкостью переносил неприятности. Однако они оказались сильнее его. В 1723 г., ослабленный лишениями, тяжело переживая проклятие отца, который отказался от сына-поэта, Гюнтер заболел и умер.
Стихотворения Леоноре разных лет (1715—1720) – трагедийная повесть о несостоявшемся счастье, от первого поэтического порыва до последнего, прощального поэтического послания, в котором он возвращает данное слово, ибо «утрачены силы, мужество, юность»; невзгоды сломили его, он устал от собственных жалоб и лишь молит бога о великом покое.
Но отношение к богу не было у Гюнтера однозначным. В стихотворениях 1720 г. звучат сомнение и ропот. «Что делать мне, с чего начать? В чем утешенье и спасенье?» – спрашивает поэт и не находит ответа. Он обращается к богу: «Ах, боже мой, боже мой, помилуй!» И тут же бросает ему вызов своим сомнением. «Что значит бог? Что значит „мой“? Что значит „помиловать“?» Гюнтер далек от атеизма, более того, он мыслит в категориях XVII в.: предустановленное богом не может быть постигнуто разумом. Но, даже принимая этот тезис, он как бы вызывает бога на спор, требует от него объяснения.
И в его последних стихах звучит умиротворение, согласие с богом и божественным миропорядком, но согласие «великодушно терпеливого» человека. Одно из поздних стихотворений так и называется – «Великодушное терпение». Это не просто смирение, не пассивное состояние, это путь человека к желанному идеалу, путь веры. Нужно верить, что бури и молнии принесут в мир очищение и ясность: «Потерпи! Ведь после бури воздух чище и ясней!»
Поэзия Гюнтера – комплекс разных идей, еще смутных и не очень устоявшихся, разных настроений – живого, искреннего, непосредственного жизнелюбия и примиренной созерцательности. Все это теснейшим образом сплетено в ярких, полнокровных метафорах, в неоднозначных образах, характерных для немецкой литературы рубежа двух эпох. И вместе с тем остро и экспрессивно реагируя на тогдашнюю немецкую действительность, он по праву может считаться наиболее национальным среди поэтов первой половины XVIII в. Утверждая новый взгляд на задачи поэзии, отстаивая право поэта на независимость от сильных мира, Гюнтер делал первый шаг по пути к просветительской концепции поэта – проповедника идей разума.
Поэтические образы последних лет, исполненные философских обобщений, тонкий анализ чувств, контрасты грусти и негодования, мотивы сожаления и неудовлетворенности – все это роднит Гюнтера с будущим немецким сентиментализмом, с молодыми героями «Бури и натиска», которые выступят в Германии спустя десятилетия. И в мыслях о грядущих «бурях и молниях», и в «покаянных размышлениях» (одноименном стихотворении) о том, как много он увидел на земле с самого рождения, чувствуется «мученик мятежный» – прямой прототип того, кого позднее увековечит Гете в своем страдающем герое, выходце из германского третьего сословия. Однако в отличие от него лирический герой Гюнтера осмысляет свои бедствия в категориях барокко.
В России лирика Гюнтера привлекла внимание молодого М. В. Ломоносова, оказав известное влияние на его раннее, отмеченное чертами барокко творчество.
Бертольд Генрих Брокес (1680—1747) также начинает свой творческий путь в традиции барокко, по своему стилю примыкая к поэзии Второй Силезской школы. Считая себя учеником Гофмансвальдау и Лоэнштейна, он гордится своим переводом поэмы Марино «Избиение младенцев в Вифлееме» (1715). Ту же традицию непосредственно продолжает текст оратории «Иисус, замученный за грехи мира» (1712). В этой оратории, как и в ранних стихах, проявляются характерные черты барокко: изложение напряженно-драматично, построено на контрастах, изобилует оксюморонами («горькая радость», «светлый мрак», «ужасающе прекрасный»). Образы эти вполне соответствуют содержанию сочинений Брокеса. Он писал о тяжелом положении своей родины после Тридцатилетней войны. Потому у него даже эпистолы в честь высокопоставленных покровителей содержат картины, полные жутких, выпукло очерченных подробностей. Так, новорожденному принцу Леопольду поэт преподносит послание (1716), в котором представлен символический образ женщины «с онемевшей шеей, со спутанными волосами, распухшими веками, за которыми в слезах тонул тоскливый взгляд». Подробно выписывает поэт, как из «полостей сердца» вырывается хриплый вздох, прерываемый рыданиями, – это Германия, раздробленная, истерзанная войной. Лишь в заключительных стихах высказывается надежда на то, что юному Леопольду удастся утешить страдающую Германию.
В зрелом творчестве Брокеса традиция барочной лирики переосмысляется и преодолевается в духе новых идей века, учение Лейбница о предустановленной гармонии нашло у Брокеса художественное воплощение в его главном поэтическом труде – серии сборников стихотворений под общим заглавием «Земное удовольствие в боге» (1721—1728). Заглавие раскрывало идейный замысел поэта: представить богатство и красоту окружающего мира, величие природы, более того – всей Вселенной и тем самым утвердить всемогущество и непревзойденное дарование творца этого мира. Как известно, в качестве одного из доказательств бытия божия в теологических спорах часто выдвигалось именно совершенство природы – якобы это совершенство предполагает искусного создателя.
Но объективно лирика Брокеса служила прославлению самой природы. Живописуя «лучший из миров» в духе Лейбница, Брокес во многом противостоит иррационализму христианской догмы. Великолепие окружающего мира, «земные удовольствия», которые доставляет жизнь, меньше всего уживаются у него с надеждами на загробное блаженство.
Эпиграфом к одной из поэм («Солнце») он ставит библейские слова: «Сладостен свет, и радостно глазам видеть солнце». Вся поэма – ликующий гимн светилу, источнику всей жизни на земле, всех красок природы. Многие страницы Брокеса блистают этими красками. Мы видим, как восходящее солнце радостно рассеивает «мрачнейшую черноту ночи», как вспыхивает заря, освещает росу, пурпурными и золотистыми лучами вторгается в серебристо-серую даль, а на сапфире неба возникают розы, золото, пламя...
В историю немецкой лирики Брокес входит как один из первых мастеров пейзажа. Но это не только описательная поэзия. Брокес – один из тех, кто стоит у истоков немецкой философской лирики. Школа барочной поэзии выработала у него умение зрительно представить мир. Но над картиной он всегда размышляет. Он не просто перечисляет приметы видимого мира, он их концентрирует, как бы нанизывает на главный стержень, и этим стержнем всегда является мысль, хотя современному читателю она может иногда показаться тривиальной.
Есть у него и очень наивные рассуждения о пользе овощей, животных, домашней птицы. Но это тоже в духе века – понятие разумности, в интерпретации X. Вольфа, часто означало практическую целесообразность, пользу в самом ее обыденном смысле. Подобные стихи Брокеса часто граничат с так называемой научной поэзией, весьма распространенной в XVIII в. Изображая в стихах движение светил по небу, поэт сообщает о том, что он знаком с учением Коперника: прославляя величие Творца, он не склонен спорить с астрономией.
Художественный опыт Брокеса скромен, но он был важен как ступень в развитии немецкой поэзии от XVII к XVIII в. Его творчество – это трансформация барокко под влиянием нового мировосприятия.
Произведения Фридриха Гагедорна (1708—1754) представляют иную грань и вместе с тем новый этап в развитии ранней немецкой лирики. Он решительнее, чем Брокес, порывает с традицией барокко. Поэтический язык точнее, строже: его не привлекают ни пышные метафоры, ни риторические восклицания. Ему ближе стиль классицистической поэзии, любимый поэт его – Опиц. Основным настроением и тематикой поэзия Гагедорна напоминает искусство рококо с одним, однако, существенным отличием. Как и Брокес, он связан не с придворными кругами, не с резиденцией, а с Гамбургом – бюргерским городом, старинным торговым центром с его особым укладом жизни, характерным для немецких вольных городов. Но в отличие от Брокеса он довольно равнодушен к религиозным идеям, хотя и переводит «Молитву» А. Попа. Гагедорн склоняется к деизму в его умеренном варианте (Шефтсбери).
Популярность Гагедорну принесли его анакреонтические стихи (сборники 1729, 1738, 1742 гг.). Оптимизм Лейбница, Вольфа, Шефтсбери преломляется у поэта своеобразно: «мудрость – это знание того, как быть счастливым». В сравнении с Брокесом резко меняются акценты: поэта интересует не столько внешний мир, Вселенная, природа, сколько сам человек и его маленький внутренний мир, круг близких ему по духу друзей. И поэт, чтобы раскрыть свой мир, не должен ни от кого зависеть. Гагедорн, как и Гюнтер, отвергает сервилизм, считая личную свободу главным условием духовного развития. «Настоящее счастье – не принадлежать ни к какому сословию», – восклицает он. Поэтому понятие свободы лишено у него политического смысла. Поэт хочет наслаждаться жизнью; вино и любовь – излюбленные темы его поэтических миниатюр. При этом гамбургское рококо Гагедорна отнюдь не противостоит бюргерской умеренности и добропорядочности. Переводчик Горация, Гагедорн оставался и сам поэтом «золотой середины». От дворянского рококо отделяла его и тема дружбы, товарищества: «без друзей нет жизни. Надо с кем-то делить свое сердце, свои заботы, свои шутки, свой смех и слезы». Иногда понятие дружбы у Гагедорна приобретало широкий общественный смысл. В стихотворении «Блаженство» он писал о солидарности всех людей, «граждан мира».
Так разные мотивы в поэзии Гагедорна отражали черты нового мироощущения, связанного с освобождением от средневековых церковных догм. По отдельным стихотворениям можно судить, что в рамках еще неподвижного феодального мира начинался процесс освобождения человеческой личности. Поэт почти не касался главных тем Нового времени. Прославление радости жизни в его творчестве односторонне и неглубоко. В то же время, отвергая всякую печаль и всякие страдания, закрывая глаза на трагическое, неразрешенное, несовершенное, он обеднял картину мира. Как это и характерно для поэтов рококо, он тяготел к миниатюре, замыкался в узком кругу довольно однообразных тем и мотивов.
Творчество двух гамбургских поэтов намечает лишь некоторые направления лирики XVIII в. Но каждый из них вносит свой скромный вклад в развитие поэтического языка, расширяя его возможности. Тем самым деятельность Брокеса и Гагедорна продолжает языковую реформу Готшеда.
РАННЯЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ САТИРА
В отличие от эпохи Реформации (XVI в.) век Просвещения в Германии не привел к расцвету сатиры. Правда, уже на раннем этапе, в 30-е годы, выдвинулся талантливый писатель-сатирик Лисков, вслед за ним Рабенер, а в середине века широкое признание получила басня Геллерта. Но ни в одном из произведений этих авторов невозможно было обнаружить что-нибудь похожее на разящие удары Ульриха фон Гуттена. В какой-то мере здесь сказывалось давление цензуры и тяжелые условия политического гнета.
Как говорил Рабенер, в Германии не посмеешь сказать сельскому учителю того, что в Англии можно заставить выслушать лорда-епископа. И все же главная причина в том, что в стране «бывших сословий и неродившихся классов» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 3, с. 183) бюргерство не осознавало еще своих классовых интересов, третье сословие не конституировалось. В немецком обществе отсутствовали активные силы, и какими бы острыми ни были социальные противоречия, они не осознавались в полной мере. Века гнета выработали привычку принимать сущее за должное, уродство за норму. Все эти факторы во многом определяли судьбы немецкой сатиры: масштабы ее отвечали характеру общественной жизни эпохи.
Христиан Людвиг Лисков (1701—1760) публикует (чаще всего анонимно) свои основные сатирические произведения в 30-е годы. Предмет его насмешки – ложная ученость, крохоборство университетской науки, сервилизм, связанный с тупой приверженностью церковной догме. Такова его сатира «Брионтес Младший...» (1732), издевательское похвальное слово (в традиции похвальных слов XVI в.), адресованное реальному лицу – профессору из Галле Иоганну Филиппи. Лисков не рискует высмеивать деятелей более высокого ранга – когда он позднее, в 1749 г., задел саксонского вельможу графа Брюля, то незамедлительно попал в тюрьму. Но, высмеивая университетского ученого-юриста, он касается типических явлений своего времени – ведь не только Филиппи писал оды на выздоровление короля, и не он один всякую науку сводил к церковным авторитетам.
Вместе с тем этот пример точно очерчивает и границы сатиры Лискова. Она адресована узкому кругу немногочисленной тогда интеллигенции, не касается широких тем, которые могли волновать читателя из народа. Программное его выступление – «Превосходство и необходимость жалких писак, основательно доказываемые ***» (1734) – обращено непосредственно к писателю и ставит задачи сатиры в самой общей форме. По примеру «Писем темных людей» Лисков рассуждает о пользе жалких писак, «уберегающих общество от всего разумного»... Именно из этого сочинения явствует, что Лисков понимал смысл сатиры значительно шире в сравнении с тем, как это представлено в его творчестве. Биограф Лискова сообщает, что некоторые его сатиры были уничтожены после смерти писателя.
Готлиб Вильгельм Рабенер (1714—1771) пользовался более широкой известностью, чем Лисков. Позиция его была несравненно умереннее, да и вел он себя осторожнее. Но слово его было обращено к иному читателю. Более того, он видел смысл своей деятельности в том, чтобы способствовать воспитанию немцев. «Я пишу не для педантов, а для целого света», – говорил Рабенер.
Как и для других ранних просветителей, универсальным критерием для Рабенера является разум (в его словаре слово «разумный» одно из наиболее часто употребляемых), при этом разум, обязательно соединенный с моралью. Вместе с тем Рабенер понимал, что категория разума, так возвышенно представленная в философии его времени, совсем иначе осмысливается в повседневном быту немецкого бюргера, приобретает корыстно-эгоистический смысл, приравнивается к денежному расчету. В «Опыте немецкого словаря» Рабенера дан остроумный комментарий к слову «рассудок»: «Человек без рассудка – это не кто иной, как бедняк. Он может быть честным, ученым, остроумным – одним словом, искуснейшим и полезнейшим человеком в городе, но никто ему не поможет: он лишен рассудка, ибо у него нет денег».
Сатира для Рабенера неотделима от морали. По роду своей служебной деятельности (он был чиновником налогового ведомства в Саксонии) ему доводилось сталкиваться с людьми разных сословий и наблюдать многие темные стороны жизни. В сатирах своих он, однако, касается преимущественно быта. Более того, в работе «О злоупотреблении сатирой» (1751) он считает неуместной критику властей и религии (возможно, это была форма самозащиты). Он позволял себе критиковать не социальные явления, а человеческие слабости помещика или священника, нарушающих свой моральный долг. Главные объекты его сатиры – чванство, педантизм, жадность, сутяжничество, шарлатанство, порочные методы воспитания молодых людей, оторванность немецкой школы с ее греко-латинскими премудростями от реальных запросов жизни. Здесь он предваряет важную для XVIII в. тему, которую позднее развивали Ленц в «Домашнем учителе» и Фонвизин в «Недоросле».
Иногда Рабенер поднимал шум по пустячному поводу, но, как правильно замечает советский исследователь, «самое умеренное осмеяние самых ничтожных явлений приобретало значение протеста против застойных, провинциальных форм жизни» (М. Л. Тронская).
Как художник Рабенер связан с традицией очерка, получившего распространение на страницах нравоучительных журналов. Писатель при этом стремился к созданию характеров. Упреки критики в односторонности этих характеров, обычно представленных какой-то ведущей чертой, не всегда учитывают своеобразие сатирического жанра. Например, «Маленький роман между молодой вдовой священника и господином кандидатом богословия» («Сатирические письма», 1752), состоящий всего из нескольких писем, достаточно выпукло рисует каждого из участников этой переписки. Сюжет незамысловат: вдова замышляет женить на себе «кандидата» и, предполагая, что может отпугнуть его своим ребенком, спешит сделать в одном из писем успокоительную приписку: «От моего покойного мужа, упокой господи его душу, у меня единственный ребенок, и бедная крошка все время болеет, так что, пожалуй, долго не проживет».
Для понимания национального своеобразия и всей сложности и противоречивости развития немецкой идеологии середины XVIII в. много дает знакомство с деятельностью Христиана Фюрхтеготта Геллерта (1715—1769).
Талантливый баснописец, автор нескольких комедий и романа «Жизнь шведской графини фон Г. ** ...» (1746—1748), он наиболее отчетливо и последовательно представляет в середине века идеологию немецкого бюргера в его исторической ограниченности и консервативной застойности.
Одну из своих лекций по морали, которые он читал в Лейпциге, Геллерт посвятил пагубным последствиям вольномыслия. С фанатической прямолинейностью ставит он знак равенства между свободомыслием, безбожием, эгоизмом и развратом. «Следуй природе, наслаждайся всем, что она тебе дает для наслаждения... мысли свободно и не обращая внимания на дураков...» – эти строки поэт сначала вкладывает в уста «вольнодумца» (в стихотворении под тем же названием), а потом сам цитирует их в лекции как некую программу свободомыслия своего времени. Для таких людей, по мнению Геллерта, нет ни добра, ни зла, их закон – себялюбие, им все позволено, и на всякий запрет они смотрят, как на глупость, трусость и суеверие. Поэтому Геллерт настойчиво предостерегает против «остроумия какого-нибудь Ла Меттри» или «софистики Бейля». Не предлагая никаких контраргументов против названных мыслителей, он настоятельно убеждает слушателей не поддаваться их влиянию. Геллерт объясняет, что их «нечистый дух» действует настолько тонко, что не сразу раскрывается вся его ужасная сущность. Поэтому не надо брать книги опасных авторов в руки, не следует внимать их насмешкам над религией; вообще лучше всего ни с какими деистами не иметь дела.
Понятие разума, программное для просветителей XVIII в., расшифровывалось Геллертом в аспекте подчеркнуто консервативном. Попутно ставились под сомнение характерное для просветителей обращение к природе, идеал естественности, обычно противопоставлявшийся испорченности и жестокой бесчеловечности светского общества. Геллерт преподносил это обращение к природе как потворство грубым инстинктам, как проявление аморального эгоизма. В автобиографии «Поэзия и правда» Гете иронически вспоминает о лекциях Геллерта и приводит резкие слова одного иностранца по его адресу: «Не мешайте ему воспитывать простофиль!»
И все же Геллерт – единственный немецкий писатель первой половины XVIII в., которого читают и в наше время: его «Басни и рассказы» (1746—1748) продолжают переиздаваться, вошли в школьные хрестоматии. Немецкие историки литературы называют его даже «народным писателем», имея в виду популярность его басен в широких читательских кругах.
Басенный жанр вызывал у немецких просветителей большой интерес. Брейтингер в «Критической поэтике» (1740) рассматривал басню как один из важнейших жанров литературы. Начиная с 1725 г. в разных городах страны появлялись сборники переводных и оригинальных басен; получили известность басни Лафонтена. Традицию Лафонтена развивал на немецкой почве Гагедорн. Его «Опыты стихотворных басен и рассказов» (1738) уже подготавливали ту форму басни, которую разрабатывал Геллерт. Но в отличие от Гагедорна Геллерт отказывается от переложения традиционных сюжетов, почти не пользуется образами животных, черпая материал из реальных обстоятельств окружающего социального быта. Басня Геллерта – маленькое повествование, часто это бытовой эпизод или исторический анекдот, но подробно рассказанный. Не всегда уловима грань между басней и рассказом в стихах. Повествование у Геллерта не ограничивалось изложением какой-либо моральной притчи, а нередко содержало большую сюжетную историю, что позволяло даже инсценировать рассказ и ставить его на сцене. Такова трагически-сентиментальная история «Инкле и Ярико». Англичанина Инкле, потерпевшего кораблекрушение у берегов Америки, спасает индианка Ярико, а он, взяв ее с собой в Европу, продает доро́гой работорговцу. Поэт негодует, называет англичанина варваром, который жестоко надругался над любовью и верностью преданной ему девушки.
Геллерт не касается политических проблем, сатира его нацелена на исправление нравов. Он осуждает вероломство, жадность, хвастовство, лесть, неблагодарность, но и ханженство, внешнее благочестие. Нравственный пафос нередко заводит баснописца дальше тех умеренных целей, которые он перед собой ставит. Как наблюдательный художник, он видит пустоту, ничтожество, паразитизм дворянства и моральное превосходство человека-труженика. Во многих баснях-рассказах Геллерт славит труд простого человека. В басне «Легковая лошадь» короткий диалог между рысаком и лошадью, которая тянет на пашне плуг, завершается обстоятельным рассуждением поэта о «знатных бездельниках», которые с презрением относятся к труженикам, хотя все их благополучие зиждется на труде презираемых ими людей.
При всей узости своей общественной позиции Геллерт участвовал в нравственном воспитании народа, продолжая линию, намеченную Готшедом, нравоучительными журналами, Лисковым.