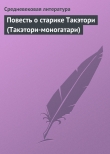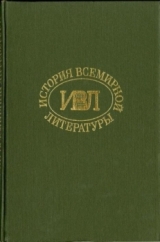
Текст книги "История всемирной литературы Т.5"
Автор книги: Георгий Бердников
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 88 (всего у книги 105 страниц)
В конце XVIII в. появляются первые произведения видного кхмерского поэта, замечательного мастера стиха Окня Кхлеанг Нонга, сановника и хрониста королевского двора, воспитателя принцев Анг Снгуона и Анг Дуонга. Время и место его рождения неизвестны. Он получил образование в Сиаме, затем вернулся в Кампучию и при нескольких правителях играл важную роль в политической и административной жизни страны. Творчество Нонга конца XVIII в. отражает общую картину литературной жизни страны того периода. Им было созданы в это время «Афористические поучения» («Тьбан сопхиасыт», 1790); написанный на один из сюжетов «50 джатк» стихотворный роман «Совершенство мудрости» («Понняса Сереса» 1797), а также роман «Выбор пути» («Лоуканайапака», 1794), основой которого послужила «Махасутха-джатака» из канонических «10 джатак». Герой этого романа – бодхисаттва – из десяти традиционных буддийских совершенств ищет и находит для себя высшее – мудрость Откликаясь на трудную политическую ситуацию в стране, Нонг призывает к мудрости и гибкости в управлении государством, в этом он видит путь к спасению нации. Но наиболее значительные и интересные произведения созданы им в первой половине XIX в.
В кхмерской литературе XVIII в. наметились тенденции к отходу от канонов классического Средневековья, получившие развитие в начале следующего столетия и реализованные в середине XIX в. в литературе Нового времени.
*Глава седьмая*
ЛИТЕРАТУРЫ ИНДОНЕЗИЙСКОГО АРХИПЕЛАГА И МАЛАККИ
НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
XVIII век был веком усиливавшегося обособления Нусантары (культурный регион, охватывающий Индонезийский архипелаг и Малаккский полуостров) от внешнего мира, и в первую очередь от мусульманской Индии и Ближнего Востока, игравших главную роль в процессе ее культурного формирования в XV—XVII вв. Это усиление культурной изоляции было связано с экспансией нидерландской Объединенной Ост-Индской компании, боровшейся за монополию в торговле пряностями. Эта борьба толкала чиновников Компании к расширению контролируемых ею территорий в Нусантаре, однако к исходу XVIII в. из всех Больших Зондских островов Компании удалось подчинить только Яву, где их основной некогда соперник – государство Матарам, вконец обескровленное «третьей войной за престолонаследие», распалось на две части: Суракарту и Джокьякарту.
Народы Нусантары – одни в большей, другие в меньшей степени – ощутили, как мир их дрогнул, стал уже и теснее. Меньше всего переменилась, пожалуй, жизнь сельской общины. Зато ощутила пределы своих возможностей местная аристократия с ее политическими амбициями: яванские войны и неудачная попытка бугийских князей установить, опираясь на свои дружины, контроль над берегами Малаккского пролива еще раз показали, что голландцы будут решительно противиться всякой попытке любого индонезийского государства изменить status quo или добиться гегемонии в том или ином районе. Заметно сузилось и поле деятельности поредевшего местного купечества, в первую очередь яванского.
В связи с общей ситуацией уже к концу XVII в. в Нусантаре замедляется процесс исламизации (официально ислам утвердился к этому времени почти на всей Яве, на большей части Суматры, полуострова Малакки и Южного Сулавеси и в прибрежных районах большинства остальных островов Индонезии, а население глубинных районов большинства островов исповедовало культы, в которых сочетались черты политеизма, культа предков, анимизма и т. д.). В то же время активность христианских миссионеров в Индонезии в XVIII в. была сравнительно невелика, так как руководство Объединенной Ост-Индской компании, стараясь избежать лишних трений с местным населением, намеренно сдерживало рвение миссионеров на Яве. Что же касается служащих Компании, они сами заимствовали многие внешние формы индонезийской культуры, и их быт в известной мере стал напоминать образ жизни яванского дворянства.
В политическом и экономическом отношении ущемленные, в культурном отношении предоставленные самим себе, народы Нусантары замыкаются в собственных пределах, обращаются к своим древним традициям, осмысливают и пересматривают накопленные ими за предшествующие столетия культурные ценности. Так, именно в это время, по мнению исследователей, возникло «благороднейшее проявление яванского художественного гения» – знаменитая среднеяванская школа батика, рисунка по ткани, воспроизводящего многообразные формы народного орнамента или сцены из представлений любимого детища индуяванской культуры – кукольно-теневого театра (ваянг пурво). Оживление местных культур идет рука об руку с активизацией местных литературных языков, до известной степени теснящих письменный малайский язык, который в XVI—XVII вв. становился универсальным средством выражения религиозной мысли и литературного вымысла во всей Нусантаре.
БАЛИЙСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ КРУГ(ОСТРОВА БАЛИ И ЛОМБОК)
Если некоторое обособление индонезийских культур как друг от друга, так и от внешних влияний было характерной чертой XVIII столетия, то балийская культура оказалась в этой ситуации уже в XVII в., когда балийцы, сохранив в массе своей верность «индубалийской религии», в известной мере противопоставили себя принявшим ислам народам Индонезии. Основным литературным ориентиром для балийцев по-прежнему оставалась занесенная туда главным образом в XIV в. древнеяванская литература. Не ограничиваясь подстрочными переводами древнеяванских поэм и популярной практикой их импровизированного парафраза с листа, балийцы начиная с XVII в. все более интенсивно осваивают находящиеся у них в обращении яванские материалы. Произведения яванской литературы перерабатываются, язык их под влиянием родственного балийского языка трансформируется, и в результате возникает своеобразная балийско-яванская литература, которую можно сравнить с литературой на итало-французском наречии, распространенном в Северной Италии в XI—XIII вв. Литература эта в XVIII в. развивается преимущественно при дворе государей Клунгкунга, почитавшихся верховными властителями Бали. Здесь же продолжает развиваться умолкшая было в XIV—XVI вв. литература на балийском языке, которая, однако, испытывала такое значительное влияние балийско-яванской литературы, что провести между ними грань порою представляется невозможным.
При всей проблематичности датировки балийских и балийско-яванских поэм мы можем предполагать, что некоторые из них появились в XVIII в. Героями поэм нередко оказываются знакомые по классической индийской литературе Арджуна, Бхима, Кунти, но сами эти произведения похожи скорее на балийские мифы. Такова, например, написанная не ранее XVIII в. балийско-яванская поэма «Бима на небе», в которой Бима (Бхима) отправляется на тот свет, чтобы спасти от мук своего отца Панду. Путешествие в загробный мир описывается и в некоторых других религиозно окрашенных балийско-яванских поэмах, относящихся, вероятно, к XVIII в.
Не в пример Яве на Бали не убывает в XVIII в. и популярность яванского романического эпоса о наследном принце (панджи), который под чужим именем странствует в поисках своей суженой. Вероятно, около этого времени обширные поэмы о панджи «Малат» и «Варгасари» принимают окончательную форму. Не ранее чем XVIII в. датируются и отдельные небольшие по объему балийско-яванские поэмы, относящиеся к тому же кругу; авторы этих поэм, как правило, не знали яванских реалий и строили свои произведения по образцу балийских волшебных сказок. Эти поэмы, в большинстве своем не отличающиеся значительными литературными достоинствами, легли в основу ряда представлений балийского театра масок и так называемой балийской оперы. Не исключено, что наряду с романическими поэмами, так или иначе связанными с яванской литературой, в XVIII в. появляются и первые плутовские поэмы («Чупак», «Эндер» и др.), написанные близким к народным поэтическим традициям стихом и обязанные своим происхождением исключительно балийскому фольклору.
Важная для выяснения характера балийской словесности проблема соотношения литературы и фольклора проясняется хотя бы на примере поэмы «И Багус Диарса», которая может рассматриваться как достаточно характерное для XVIII в. произведение. В поэме нетрудно усмотреть морфологические признаки волшебной сказки. При сравнении поэмы с народными сказками на ту же тему было отмечено, что неудачливый и сострадательный герой сказок наделяется в поэме обостренным чувством долга и презрения к земным благам, а его безымянный волшебный даритель, испражняющийся золотом, превращается в Шиву. Естественно предположить, что подобного рода изменениями «И Багус Диарса» обязан балийским книжникам, умело вставившим в пьесу описания загробной жизни праведников и грешников, а также короткое «зерцало», заимствованное из древнеяванской «Нитисастры». Важным представляется то, что именно Шива открывает герою глаза на злокозненные деяния его раджи:
Ты оттого так нищ и худ,
Что околпачил он тебя,
Всем подданным своим он враг.
И важно и то, что погибает раджа не от руки Багуса Диарсы, а от раны, нанесенной белым бесхвостым петушком, которого подарил Багусу Диарсе все тот же Шива. Таким образом, в поэме выражена убежденность в преступности «суда людского» над недостойным монархом – идея, находящая еще более яркое выражение в поэме о Джайя Пране.
Публикатор поэмы о Джайя Пране называет ее балладой, это определение не лишено оснований, если рассматривать народную балладу как сжатую и цельную песню с эпической сюжетной основой, но проникнутую лирическим настроением и драматизмом. Герои поэмы вводятся в повествование без лишних слов – едва мы успеваем узнать, что воспитанный при дворе Анак Агунга сирота, а Джайя Прана отличается старательностью, как Анак Агунг уже приказывает ему выбрать себе невесту среди своих подданных. Джайя Прана высматривает среди женщин, идущих на базар, Лайон Сари, дочь достойных родителей, девушку поистине сказочной красоты.
Анак Агунг, не сомневаясь в согласии родителей девушки, назначает день свадьбы, после чего весьма подробно описывается ритуал сватовства и предсвадебных церемоний. Но, увидев на свадьбе молодую, Анак Агунг хочет сделать ее своей наложницей и под ложным предлогом немедленно отправляет Джайя Прану в дальнюю экспедицию. Прибыв на место, юноша читает царское письмо, в котором сообщается, что он приговорен к смерти за то, что осмелился встать на пути у государя и взять в жены достойную лишь его красавицу. Вслед за тем Джайя Прану казнит один из его спутников; Лайон Сари, получив роковое известие, кончает с собой, а царь, узнав об этом, устраивает побоище среди своих подданных, а затем тоже накладывает на себя руки... Трагическая развязка поэмы до известной степени смягчается описанием апофеоза любящих в раю.
В XVIII в. на Бали создаются также многочисленные местные историко-генеалогические произведения, составляются обширные своды яванско-балийских религиозных текстов. Не ограничиваясь пределами Бали, яванско-балийская литературная традиция распространилась также и на соседний остров Ломбок, захваченный в XVIII в. балийцами. Культурное влияние балийцев затрагивает коренное население Ломбока – обратившихся в ислам сасаков, так что здесь возникает местная разновидность яванско-балийского литературного языка и своеобразная словесность, испытывавшая одновременно влияние балийской, исламизированной яванской и малайской литератур.
ЛИТЕРАТУРЫ ОСТРОВОВ ЯВА И МАДУРА
Языковая ситуация на Западной Яве, в землях, населенных сунданцами, в известной степени напоминает балийскую. В Черибоне и в Бантаме продолжается литературное творчество на яванском языке, здесь находят своих читателей и ценителей яванско-язычные поэмы о мусульманских святых, о вознесении Мухаммада на небо или о беседе пророка Нгисы (Иисуса) с царским черепом. Эта последняя представляет собой переложенную, вероятно, с малайского языка, мусульманскую легенду о царском черепе, рассказывающем Нгисе об адских муках, которые постигли его обладателя за пренебрежение ежедневными обязательными молитвами.
В то же время здесь оживляется и литературная деятельность на сунданском языке. Особое распространение получают здесь вавачан – исполнявшиеся нараспев, романические, а порой и религиозно-дидактические поэмы, выдержанные в заимствованных у яванцев размерах и представляющие собой обычно переложения яванских или малайскоязычных поэм и повестей. Графическая система, с помощью которой записывались эти поэмы, мелодии, на которые они исполнялись, были также яванскими. Процесс натурализации поэм развивался постепенно: по-видимому, лишь в конце XVIII в. в Чианджуре при дворе местного правителя начинают разрабатываться сунданские напевы к поэмам. Оригинальностью отличается относящееся к началу века написанное по-сундански прозаическое «Сказание о Варугагуру», представляющее собой смелую попытку привести в соответствие с коранической традицией династические предания раннесредневекового сунданского государства Паджаджаран.
«Большинство мадурских рукописей представляет собой переводы или адаптации яванских работ различного содержания», – справедливо отмечает голландский исследователь Э. Иленбек. Это неудивительно, поскольку история мадурцев издавна была тесно связана с историей яванцев. Однако мадурский фольклор оказал влияние на яванскоязычную литературу Восточной Явы, породив, например, волшебную прозаическую повесть «Сантри Гудиган», а мадурские книжники оставили потомству ряд интересных местных историй с самым подробным освещением мадурско-яванских связей и некоторые произведения романического эпоса с отчетливым историческим фоном.
В собственно яванской литературе XVIII в. продолжает существовать мусульманская традиция, хотя она уже не играет здесь такой роли, как в XVII в. Эта литература существует в уцелевших частично на побережье культурных центрах, ее распространяют бродячие проповедники, она множится в спертой фанатической атмосфере школ-монастырей (пондоков) – рассадников яванизированного ислама. Но если на побережье создаются сравнительно ортодоксальные аллегорические поэмы дидактического толка, стихотворные варианты хадисов, персоязычного индийского романа об Амире Хамзе или житий суфийских святых (например, Абд аль-Кадира Гилани), то в центре острова идеи ислама преображаются порой до неузнаваемости. Их можно обнаружить в сводных богословских трудах или в религиозно-философских поэмах, в которых суфийские представления пропущены через призму традиционного индуяванского мистицизма. Однако герои некоторых житий яванских мистических наставников гораздо больше напоминают колдунов, чем искателей божественного откровения, а известная история о том, как один из этих учителей, Сунан Бонанг, создает первый крис (специфический яванский кинжал с извилистым клинком) из своего фаллоса, явно обязана своим происхождением не миру ислама, а местной аграрной мифологии.
В высших кругах Картасуры ислам признавался скорее формально, и придворные литераторы стремились сохранить верность индуяванским традициям. Высказывалось предположение, что уже в конце XVIII в. в Картасуре начинают переводить на новояванский язык некоторые из древнеяванских поэм, а некий Картамурсадах в 1725 г. создает здесь «Маник Мойо», «мировую историю», в прологе которой действуют Шива-Будда, Вишну, Брахма и другие боги, подчиняющиеся законам яванского дуалистического мифа. Принадлежность автора к новой вере обнаруживается лишь в сообщении, что легендарный изобретатель яванской письменности Сангка-ади «принял ислам и приблизился к почитавшемуся им пророку». Несколько позже принимает окончательную форму и другое, совсем не мусульманское по духу произведение – «История земли яванской».
Начинающаяся с сотворения Адама «История земли яванской» доводится до 1743 г., когда государь Матарама Пакубувоно II (1725—1749), чудом удержавшийся на престоле во время так называемой китайской войны, покинул злополучную Картасуру и основал новую столицу – Суракарту. Можно думать, что весь «период Картасуры» описан в «Истории» придворным историографом Чарик Баджро, который дважды – в начале и в середине XVIII в. – дописывал свод и редактировал записи, относящиеся к более раннему периоду. Перед Чарик Баджро стояли трудные задачи: излагая драматические события яванской истории, он должен был, как отмечает голландский исследователь Б. Схрике, «привести эти события в соответствие с космическим порядком и моралью того времени, показать, что эти события – следствие неминуемых законов судьбы, что они были раз и навсегда предрешены и свершились по справедливому решению бога, на которое не приходится роптать». Одним из вопросов, наиболее важных для исследователей «Истории земли яванской», был и остается поэтому вопрос о характере мифологизации действительности в памятнике.
Так, в соответствии со средневековыми представлениями, положение человека в обществе объяснялось в первую очередь его происхождением, и поэтому без достаточных оснований взошедшие на престол государи вроде Амангкурата II (годы прав. 1677—1703) или Пакубувоно I (годы прав. 1705—1719) надеялись поднять свой успех родословной, восходящей по отцу к пророку Мухаммаду, а по матери к первому человеку – Адаму, а через него ко всем царским родам, правившим на Яве. Однако основателю династии мало блестящего происхождения – нужны еще заслуги одного из непосредственных предков героя, вызвавшие благоволение богов ко всему данному роду, и, наконец, духовное подвижничество, а точнее, предельная концентрация мысли на желаемом, с тем чтобы принявшая вид падучей звезды небесная благодать отметила собой избранника и обеспечила ему победу над врагами. Соответственно недостойное поведение государя приводит к утрате благодати, к возмездию, настигающему ее прежнего носителя или его потомство. Поэтому, рассказывая о миновавших катастрофах, средневековый яванский историк со спокойной совестью приписывает их недостаткам погибшего монарха. Например, в описании жестокого царствования Амангкурата I мы читаем: «И в ту пору изменился образ действий его величества, он перестал миловать своих подданных и, не уставая, принялся вершить зло. Его наместники, министры и родичи не могли уже быть уверены в завтрашнем дне, и от порядка не осталось и следа».
Эсхатологические настроения, лишь укреплявшиеся на Яве благодаря мусульманской литературе типа «Сообщения о Страшном Суде», особенно часто возникали здесь в то время, когда решался весьма сложный в условиях полигамии вопрос о престолонаследии. В 1749 г., после смерти всецело подчинившегося голландцам Пакубувоно II, оппозиционное мусульманское духовенство Явы объявило о наступлении четвертого, заключительного периода в циклической истории человечества. Однако предсказание не исполнилось. Следом за прекращением военных действий на Яве и установлением над ней колониального контроля голландцев наступил и период «яванского ренессанса», как его называют яванисты, имея в виду, разумеется, не процесс, аналогичный итальянскому Возрождению, а обращение местной придворной культуры к угасшим было древнеяванским традициям.
Имевшие хождение в период «яванского ренессанса» списки и переложения поэм на полузабытом древнеяванском языке (кави), как правило, изобиловали ошибками, однако какое значение это могло иметь для их обладателей?! Деяния предков, свободных и всемогущих, видели яванские поэты в героях «Махабхараты» и «Рамаяны», и они спешили ободрить общепонятным рассказом об их героических деяниях яванскую аристократию, к которой они принадлежали и сами. Первые новояванские поэмы появились на так называемом «приблизительном кави», в них подчас неверно истолковывались трудные места оригиналов, а размеры лишь по количеству слогов соответствовали древнеяванским, поскольку в новом яванском языке уже не было долгих слогов.
Особенно настоятельно требовали переложения на новояванский язык самые старые из поэм на кави. Поэтому среди наиболее известных произведений «яванского ренессанса» мы находим, например, относящийся к 1750 г. «Серат Ромо» (пересказ древнеяванской «Рамаяны» – X в.) и «Братаюдо» (пересказ «Бхаратаюдхи» – XII в.). Наиболее талантливые из этих новояванских переработок принадлежали, как принято думать, суракартскому поэту Йосодипуро-отцу (1729—1803), однако некоторые из них были, очевидно, перередактированы его сыном, поэтом Йосодипуро-сыном (ум. в 1842 г.). Нередко писались в это время и стихотворные моралистические поэмы, игравшие важную роль в воспитании молодых придворных, а то и будущих князей. Так, согласно яванской традиции, в 1789 г. Йосодипуро-отец создал «Панити састро» – обработку древнеяванской «Нитисастры»; ряд суракатских поэм, трактующих вопросы морали, общественного поведения, государственной политики, восходит к картасурским произведениям конца XVII – начала XVIII в. Как отмечает современный индонезийский историк Сумарсаид Муртоно, внимательное чтение этих поэм «раскрывает характерную для этого периода атмосферу неудовлетворенности, неуверенности, беспомощности перед лицом действительности, столь часто не дающей возможности последовать образцовым нормам поведения».
Взывая в трудное время к духам пращуров, придворные круги Суракарты не могли не вспомнить и о театре, составляющем неотъемлемую, если не самую важную часть традиционной яванской культуры. Так, мифологические пьесы ваянг пурво, до того преимущественно хранившиеся в памяти сменявших друг друга поколений кукольников, начинают записываться, а их каноническое содержание приобретает законченную и довольно сложную форму. Внимание двора к театру было так велико, что в разыгрывавшихся при дворе спектаклях принимали участие государи центральнояванских княжеств и их ближайшие родственники; они же нередко писали и новые пьесы, в которых тот или иной поворот в судьбах традиционных персонажей должен был споспешествовать соответствующим переменам в жизни отождествлявшихся с героями высоких особ. Предполагается, что в это же время устная традиция яванцев обогащается рядом новых театральных представлений, заключавших в себе обращенное к высшим слоям общества предупреждение «не угнетать простой люд». Так может быть истолкована, например, пьеса «Петрук на троне», в которой возмущение одного из божественных оруженосцев главного героя ставит в затруднительное положение весь стан его союзников (ситуация, в чем-то напоминающая «гнев Ахиллеса»).
О тесной связи между письменной традицией и театром говорит, в частности, «Деворучи» (1801), последняя, по всей вероятности, поэма Йосодипуро-отца. Сам Йосодипуро пишет, что он ставил перед собой цель заново изложить жизненные уроки, «столь картинно представленные в старой песне „Бхимасучи“». Известно, однако, что в репертуаре ваянг пурво сохранилась популярная пьеса аналогичного содержания, и можно предположить, что и устная (театральная), и письменная версии истории об откровении Бхимы (яв. Бимо) долгое время существовали параллельно и влияли друг на друга.
«Деворучи» многие десятилетия отводилась чрезвычайно важная роль в воспитании яванского дворянства. Завязка поэмы как будто отсылает нас к «Махабхарате». Действительно, Дрона был в «Махабхарате» наставником могучего Бхимы, а потом во время великого сражения пандавов и кауравов престарелый мудрец и его ученик оказались в разных лагерях. Однако в «Махабхарате» нет ни слова о том, как Дрона (яв. Дроно), заранее опасаясь за исход сражения, посылает Бимо на верную смерть с поручением найти источник живой воды, находящийся на горе Чандромуко. Именно эти поиски со всеми вытекающими из них последствиями и составляют содержание «Деворучи».
Напрасно братья уговаривают Бимо отказаться от безнадежного дела, ссылаясь на злокозненность Дроно и на смертельные опасности,
ожидающие героя в пути. Послушание наставнику и сознание огромной важности предстоящего дела захватили Бимо целиком. Преодолев бесчисленные препятствия, обшарив до последнего камушка все горные склоны, Бимо убеждается, что на горе нет никакого источника. И вот он опять у ног Дроно, и тот посылает его в новый путь, но на этот раз в правильном направлении – на дно океана. Вопреки советам ближних и недобрым предзнаменованиям Бимо отправляется на берег океана и, подавив в себе тоску, сомнения и любовь к дорогим для него людям, бросается в волны прибоя. В океанском безбрежье после поединка со свирепым морским змеем Бимо встречает наконец Деворучи, крошечного, не более мизинца, человечка, который открывает ему то, к чему он по существу стремился, ибо живая вода – это квинтэссенция жизни, самая ее суть.
Бимо по настоянию Деворучи входит в его левое ухо и, потерявшись в безграничном просторе, раскрывшемся перед ним, уловив в чередовании цветов, в многоцветном пламени борьбу уводящих от истины страстей и приобщающего к беспредельности, полного правды спокойствия, уяснив себе идентичность макрокосма и микрокосма, видит собственную душу и познает Божественное начало, которое Нельзя увидеть,
Оно не обладает очертаниями, формой,
Частями, внешностью
И (не ограничено каким-либо) местом.
Оно заключается только в тех, кто достиг знания,
Только таким образом действие его проявляется в мире.
Согласно дальнейшим пояснениям Деворучи, «поддерживающая сама себя жизнь, одушевляющая микрокосм, вечная и находящаяся превыше каких бы то ни было перемен, заключена в нас самих и не может быть разлучена с нами». Бимо в сущности своей равен Богу, и раз он осознал это, то практически он всесилен:
Все, что ты хочешь, – перед тобою,
Чего бы ты ни хотел – все к твоим услугам,
Все на свете
Подвластно тебе.
Поэма Йосодипуро достигает кульминации, когда речь заходит о беспредельных возможностях, заложенных внутри человека. Перед нами, как можно думать, мистическое произведение буддийского толка – недаром Деворучи и Бимо по традиции идентифицируются с Дхьяни Буддой – Ваджрочаной. Философия Йосодипуро явно может быть отнесена к тому роду мистицизма, который, по словам Н. И. Конрада, другим путем, нежели рационализм, но ведет «к освобождению человеческого сознания от власти догм, к выходу в сферу полной духовной, а значит, и творческой свободы». Нельзя, однако, не отметить, что утонченная поэзия Йосодипуро и его современников не столько «вызывала движение вперед человеческой мысли, общественной жизни; культуры, нации», сколько способствовала замыканию в себе.