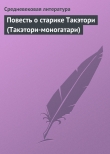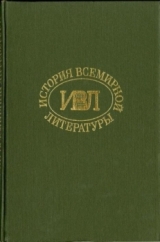
Текст книги "История всемирной литературы Т.5"
Автор книги: Георгий Бердников
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 72 (всего у книги 105 страниц)
ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
У истоков англоязычной канадской литературы, возникшей еще до 1763 г., так же как у истоков франко-канадской словесности, – записки путешественников, открывавших неведомые земли Нового Света. Относить их к канадской литературе можно лишь с большими оговорками: они принадлежали, как правило, не канадцам. В числе именитых гостей Канады находился, например, Джеймс Кук, чьи записки о третьем плавании (1776—1780) были опубликованы посмертно (1784).
Среди тех путешественников, которые не только писали о Канаде, но и связали с ней свою дальнейшую жизнь, следует назвать Александра Маккензи. Его записки «Путешествие из Монреаля по реке Св. Лаврентия через Североамериканский континент к Ледовитому и Тихому океанам в 1789 и 1793 гг.» были написаны в конце XVIII в. (изд. 1801). Автор записок, деятельный, волевой человек, хорошо сознавал свою цель – присоединить новые земли к британским владениям. Его «Путешествие» быстро приобрело популярность в Европе.
Наиболее значительным явлением англо-канадской литературы XVIII в. справедливо считается роман в письмах Фрэнсис Брук (1724—1789) «История Эмилии Монтегю» (1769, 4 т.). Англичанка по происхождению, Брук несколько лет прожила в Канаде, где и развертывается действие большей части ее произведения, которое принято называть первым канадским романом. Главная сюжетная линия книги связана с историей любви молодых англичан – Эмилии Монтегю и полковника Риверса, повстречавшихся в Канаде. В письмах Эмилии, ее будущего мужа и их друзей сквозит живой интерес к неведомой стране, восхищение величественной и суровой красотой ее природы.
Канадские критики не без основания замечали, что щедрое введение описаний природы и чужеземного быта, в которых романтическая патетика идет бок о бок с сухим деловитым слогом путеводителя, сближает роман Брук с записками путешественников. Подобно авторам путешествий, писательница стремится прежде всего дать людям Старого Света понятие о жизни в Северной Америке. Вера Брук в будущее Канады выражена в словах одного из ее героев: «Америка переживает период младенчества. Европа же – старости».
В юные годы Брук была членом литературного кружка С. Ричардсона, там, по всей вероятности, прониклась она идеями английского просветительства. Подобно просветителям, Брук прославляет добродетель, утверждает, что человек создан от природы слабым, но не порочным, ее герои рассуждают о решающей роли воспитания, которое развивает в человеке нравственные начала. Писательница осуждает всякого рода насилие над личностью (деспотизм правителей, самодурство отцов, религиозный гнет). Отшельничество, уход в монастырь, с ее точки зрения, противоречит самой природе человека, естественному стремлению к радости жизни. Герои Брук, осуждая абсолютную монархию и демократические формы правления, восхищаются умеренностью английских конституционных порядков и превозносят англиканскую религию как наиболее человечную.
Хотя возникновение и развитие сентиментализма в английской литературе не прошло бесследно для писательницы, в целом Брук ближе к Ричардсону, чем к сентиментализму. Подобно действующим лицам «Памелы» и «Клариссы», персонажи ее романа в достаточной мере рассудительны. Вместе с тем Брук делает шаг в сторону от нравственного ригоризма своего учителя. Ее положительные герои лишены чопорности ричардсоновских. Подлинная доброта великодушного, отзывчивого Риверса, человека не вполне безупречной нравственности, резко противостоит в романе показной добродетели сэра Джорджа, первого жениха Эмилии.
Особый интерес в книге Брук представляют страницы, посвященные аборигенам. В четвертом письме полковник Риверс рассказывает о нравах индейцев, к которым он случайно попал. Риверс очарован их песнями, музыкальностью языка. Большое впечатление производит на него отказ индейцев подчиняться предписаниям церкви новопришельцев. В другом письме Риверс цитирует разговор гурона с европейцем. На слова последнего, что ныне гуроны – подданные Франции, индеец гордо возражает: «Вы ошибаетесь, брат, мы не являемся ничьими подданными. Дикарь – самый свободный человек в мире». «И он сказал сущую правду, – комментирует Риверс, – ибо индейцы не благоговеют ни перед рангом, ни перед богатством».
Восхищаясь простотой и естественностью нравов аборигенов Америки, разумностью их правления («Нам бы в Англии такую систему», – шутливо восклицает Риверс), писательница, однако, не склонна идеализировать состояние первобытной дикости.
Таким образом, в первом англо-канадском романе, наряду с сильным европейским влиянием, появляются мотивы, которые в дальнейшем станут прочной принадлежностью литературной традиции: описание местной природы и сочувственное изображение коренных обитателей страны.
Описательность была свойственна не только прозе. В конце века появляются поэмы о канадской природе, созданные в соответствии с привычными образцами английской литературы. Таково, например, произведение Томаса Кери «Авраамовы поля» (1789, Квебек), где автор живописует край великих озер. В предисловии к поэме Кери признается, что подражал «Временам года» Дж. Томсона.
Особую ветвь англо-канадской словесности представляла литература областей, расположенных на побережье Атлантики, большая часть которых лишь со второй половины XIX в. стала провинциями Канады. После того как в 1755 г. французские фермеры-поселенцы были насильственно выселены из Акадии (ныне приморские провинции, главным образом Новая Шотландия), в этих краях появилось немало эмигрантов из Новой Англии. Приток новых поселенцев резко усилился после окончания войны американских колоний за свою независимость за счет лоялистов, т. е. тех, кто сохранял верность британской короне.
Лоялисты писали англофильские верноподданнические стихи и памфлеты, исполненные ненависти к американским революционерам. Потомки пуритан, покинувших в начале XVII в. родину, они отреклись от республиканских идеалов своих предков и оставались верными лишь догматике массачусетских «теократов» с их суровой кальвинистской доктриной порочности человека и учением о предопределении.
В поэзии лоялистов изредка возникают картины канадской природы, но чаще лоялисты обращаются к сатире и пытаются свести счеты с вождями американской революции. Характерным образцом такой сатиры, переходящей в пасквиль, является поэма Джекобса Бейли (1731—1808) «Джек Рейбл» (1776). Написанная стихами, напоминающими русский раешный стих, поэма насыщена выпадами против республиканцев, и особенно против Франклина, которого автор изображает богохульником и самодовольным шарлатаном.
Самой колоритной фигурой среди поэтов-лоялистов был Джонатан Оделл (1737—1818). Выходец из пуританской семьи, воспитанник университета, морской хирург, ставший позднее приходским священником, Оделл связал свою судьбу с противниками американской революции. В Новой Шотландии Оделл написал четыре сатирические поэмы, среди которых наиболее известная и наиболее злая озаглавлена «Американские времена» (1780). Стихи ее проникнуты яростной непримиримостью к убеждениям противника и грубыми выпадами против Вашингтона, Пейна и Джефферсона.
Таким образом, в течение XVIII в. англоканадская словесность остается на стадии подражания образцам высокоразвитой литературы метрополии и еще только начинает намечать свой круг тем и свою художественную манеру.
*Глава третья*
ЛИТЕРАТУРЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ
В колониальную эпоху литературы стран Латинской Америки развиваются спорадически, толчками. Плавного, непрерывного литературного процесса быть еще не может: слишком мало образованных людей в колониях, скудна культурная жизнь, и множество препон ей возводятся колониальными властями. Испания, как известно, запретила в своих заморских колониях публикацию романов. В Бразилии до начала XIX в. не было типографий, газет, журналов, университетов. Только достаточно богатый человек мог напечатать свою книгу в метрополии. Стихи бразильских поэтов распространялись в списках, терялись, забывались (так произошло со стихами интереснейшего поэта XVII в. Грегорио де Матоса, обнаруженными лишь в XIX в.). Поэтому история литературы имеет теперь в своем распоряжении сравнительно немногочисленные факты, разрозненные, отделенные друг от друга десятилетиями и огромными пространствами Нового Света.
Исторические обстоятельства сложились таким образом, что в XVIII в. только в португальской Бразилии смогло появиться оформившееся литературное течение, выдвинувшее поэтов мирового масштаба. В Испанской Америке литературное развитие задержалось и в XVIII в. проходило лишь подготовительные стадии, весьма важные для дальнейшего формирования национальных литератур, но еще не давшие художественных достижений.
Во второй половине XVIII в. немногие литературные произведения, написанные в испанских колониях, принадлежали главным образом к различным публицистическим жанрам и были связаны с движением за раскрепощение латиноамериканской мысли, с выработкой программы антиколониальной войны. Бунт разума против католической схоластики соединялся с борьбой за политическую независимость. Просветительские идеи в книгах ученых, историков, философов из испанских колоний служили приготовлению умов к будущей освободительной революции. Такой характер носила деятельность философов А. Альсате и Диаса де Гоморы (из провинции Новая Испания – т. е. будущая Мексика), пропагандистов европейской просветительской литературы Пабло де Олавиде (Перу) и Антонио Нариньо (Колумбия), осуществившего перевод «Общественного договора» Руссо.
Среди поэтов, связанных с этим философским движением, выделяется уроженец Гватемалы Рафаэль Ландивар (1731—1793). Его поэма «Сельская Мексика» (опубликована в Модене в 1781 г.), созданная на латыни, дает детальное описание естественного мира Нового Света: фауны, флоры, гор, рек, озер, водопадов, а также занятий и обычаев обитателей этих земель. Им особенно отмечены все те традиции, что сохранились в жизни Мексики и Гватемалы от доколониального прошлого. Классицистический жанр дидактической поэмы служит у Ландивара средством утверждения национальной самобытности его родины.
Бразилия в XVIII в. развивалась более быстрыми темпами, нежели испанские колонии. Открытие залежей драгоценных металлов и алмазов усилило приток иммигрантов в эту страну. Интенсивной становилась общественная жизнь. Многие колонисты посылали сыновей учиться в знаменитый португальский университет Коимбру, и те возвращались на родину, приобщившись к культурной атмосфере Европы. В свою очередь, молодые португальцы стремились получить назначение в колонию, о богатстве которой ходили легенды. В Бразилии не было инквизиции, и туда перебирались семьи, преследуемые инквизицией, свирепствовавшей в метрополии.
Освоение новых земель, защита их от нападений французов и голландцев способствовали сплочению населения колонии. Разумеется, общность интересов не могла сгладить и отменить социальные (прежде всего между рабовладельцами и рабами) и расовые (между белым, негритянским и индейским населением) противоречия. Но власть португальской администрации, налоги, уплачиваемые короне, вовсе не заботящейся о благосостоянии своих заморских подданных, воспринимались как тяжелое бремя людьми самых разных сословий. На протяжении всего XVIII в. в разных уголках Бразилии вспыхивают пока еще не объединенные и быстро подавленные очаги возмущения. Самым серьезным выражением стремления к освобождению от португальской тирании был заговор в провинции Минас-Жераис, известный под названием «Инконфиденсия минейра», в котором участвовали крупнейшие бразильские писатели XVIII в. Томас Антонио Гонзага и Клаудио Мануэл да Коста.
Нарастание освободительного движения в стране сопровождается формированием нового человеческого характера, нового типа – бразильца. В языке жителей колонии все больше накапливается слов из индейских и негритянских диалектов, и фонетически, и лексически бразильский диалект португальского языка все больше отдаляется от языка, на котором говорят в метрополии. Взаимопроникают и сплавляются обряды, обычаи, фольклор, принесенные белыми поселенцами из Европы, неграми – из Африки, индейцами – из родной сельвы. Появляются уже новые, чисто бразильские, праздники, обряды, песни, сказки, народные массовые театральные представления, соединяющие в себе пережитки европейского средневекового площадного театра и ритуальных игр негритянских и индейских племен. Под воздействием могучей и такой непохожей на европейскую природу Бразилии формируется новый эмоциональный склад. Жители Бразилии все острее чувствуют себя не португальцами, а людьми нового мира. Характерный факт: когда в 1724 г. в Бразилии была создана первая Академия (в городе Салвадоре-да-Баия), она была названа «Бразильской Академией забытых». Этим ее члены подчеркнули и свою особость, и неравноправное положение в сравнении с интеллигенцией метрополии. Своей задачей Академия сочла создание первой полной истории Бразилии. Иными словами, начинался медленный и трудный процесс самосознания складывающейся нации. Этот процесс и отражен в творчестве бразильских писателей, выдвинувшихся в конце XVIII в. В поэзии этого периода, если брать эту поэзию как целое, уже проступают черты особого, бразильского мироощущения.
Бразильских писателей второй половины XVIII в. (памятников литературы первой половины XVIII в. не сохранилось) обычно объединяют термином «Аркадия». Литературные общества «Аркадии», созданные по образцу римской Аркадии, существовали в Португалии и, возможно, в Бразилии. (Мнения исследователей относительно оформленности и сроков существования бразильской, так называемой «Заокеанской Аркадии», расходятся: некоторые историки полагают, что бразильская Аркадия «была не более чем узким дружеским кружком литераторов».) Независимо от формальной принадлежности к обществам Аркадии, все бразильские писатели воспринимали классицизм сквозь призму эстетики Аркадии. Собственно, эстетические нормы Аркадии и были в их представлении новой, классицистической эстетикой, борющейся с «темным стилем» барокко.
Важной и специфической чертой бразильской литературы этой эпохи была нерасчлененность эстетических тенденций. Нельзя выделить в бразильской литературе те направления, которые сталкиваются, борются, сменяют друг друга в европейских литературах: классицизм, сентиментализм, просветительский реализм, литература рококо, предромантизм, – хотя в бразильской поэзии есть следы влияний всех этих эстетических систем, иногда в зародышевой, иногда в более развернутой форме. Но речь может идти не об оформившихся литературных направлениях, а только о тенденциях, сталкивающихся, борющихся (чаще сосуществующих) или сменяющих друг друга в творчестве одного поэта. Это явление, причина которого коренится в недостаточной развитости художественного сознания, мы проследим далее на примере поэтического творчества Томаса Антонио Гонзаги.
Условия, в которых творили бразильские поэты второй половины XVIII в., весьма различны. Некоторые из них, например Жозе Базилио да Гама и Жозе де Санта-Рита Дуран, всю свою творческую жизнь прожили в Европе. Но впечатления, полученные в годы детства и юности, проведенные в Бразилии, оказались решающими для формирования их личности. Эпические поэмы «Уругвай» да Гамы и «Карамуру» Дурана не только воспевают события истории Бразилии, но и выражают то отношение к истории завоевания страны, которое характеризует бразильца как человека, уже ощущающего себя частью этой новой страны.
Все бразильские писатели этого времени находились под сильнейшим влиянием европейского Просвещения. Центральной идеей, заимствованной ими из просветительской идеологии, была идея «естественного человека». В свое время рассказы путешественников, колонистов, хронистов об индейцах Нового Света (и в особенности о бразильских индейцах, не создавших государств, подобных государствам инков, ацтеков или майя, а живших родовым строем) способствовали формированию представлений о свободном и счастливом «естественном состоянии» человека. Теперь эта идея возвращается к людям Нового Света и осмысляется ими в духе их стремлений к независимости, в духе рождающегося национального самосознания. «Естественное состояние» человека предстает в бразильской поэзии в двух образных претворениях: в идеализации индейца и в идеале пастушеской жизни на лоне природы, навеянном эстетикой Аркадии. Но в обоих случаях этот идеальный образ жизни противопоставлен городскому, где господствуют нравы и обычаи, вывезенные из метрополии; человек, живущий в согласии с законами природы, будь то реальный индеец или условный пастух, противопоставлен суетному, честолюбивому, порочному человеку Старого Света.
Идеальный «естественный человек» воплощен в образе бразильского индейца в эпической поэзии Жозе Базилио да Гамы (1741—1795) и Жозе де Санта-Рита Дурана (1722—1784). Да Гама был членом римской Аркадии и под воздействием ее эстетики начал поэму о попытке иезуитов основать государство в Южной Америке. В это время из Португалии были изгнаны иезуиты, преследовали и да Гаму. Чтобы оправдаться, он перестроил сюжет своей поэмы, превратив иезуитов в коварных заговорщиков, обманувших индейцев. Теперь «Уругвай», вышедший в 1769 г., рассказывал об испано-португальской военной экспедиции против иезуитов. Внутренний смысл поэмы, однако, не изменился. И в первой, и во второй редакции истинными героями оказались не иезуиты и не португальский военачальник Андрада, а индейцы, счастливо и мирно жившие до прихода завоевателей, а теперь предпочитающие смерть рабству. Речь индейского вождя, обращенная к португальцам, – идейный центр поэмы, и это подчеркнуто звучной выразительностью стиха. Со спокойным и гордым достоинством индеец говорит о праве исконных жителей Америки на родную землю, которую отнимают поработители. Хотя в поэму да Гамы внесены некоторые реальные черточки индейского быта (например, сцена колдовства), образы индейцев идеализированы в соответствии с просветительскими взглядами писателя.
Поэма Жозе де Санта-Рита Дурана «Карамуру» (1781) основана на полулегендарной истории португальского солдата Диого Алвареша Коррейи, в начале XVI в. отставшего от своего отряда и прожившего несколько лет среди индейцев. Здесь уже европеец оказывается способным приобщиться «естественному состоянию» человечества – он обретает покой и счастье в мирной жизни на лоне природы среди добрых и справедливых дикарей, в любви преданной жены-индианки. Когда Диого Алварешу представляется возможность вернуться на родину, он посещает Европу вместе с женой, удивляющей европейцев умом и благородством поведения. В обширной поэме Дурана, выдержанной в стиле камоэнсовской эпической традиции, большое место, однако, занимает дидактический элемент – скрупулезные описания растительного и животного мира Бразилии, свод всего, что к тому времени было известно о быте бразильцев.
Полнее и отчетливее всего своеобразие бразильской литературы XVIII в. раскрывается в творчестве Томаса Антонио Гонзаги (1744—1810). «Дирсеева Марилия» Гонзаги выдержала десятки изданий в Португалии и Бразилии, а также была издана на английском, французском, немецком, итальянском, испанском, русском и латинском языках. Одно из стихотворений Гонзаги перевел на русский язык А. С. Пушкин («С португальского»), видимо привлеченный сходством судьбы Гонзаги с судьбой поэтов-декабристов.
Томас Антонио Гонзага родился в Португалии, но отрочество провел в Бразилии. Окончив Коимбрский университет, он вернулся в Бразилию, где занимал высокий пост в колониальной администрации. Блестящий юрист, он написал две работы – «Трактат о естественном праве» и «Письмо о ростовщичестве», свидетельствующие о просветительской идейной ориентации Гонзаги (он выступает против вмешательства церкви в жизнь гражданского общества). В городе Вила-Рика, где служил Гонзага, собрался кружок литераторов. Близкий друг Гонзаги, поэт Клаудио Мануэл да Коста (1729—1769), еще в 1768 г. выпустил сборник стихов в духе португальской пасторальной лирики и был горячим сторонником классицистического идеала простого стиля, подражания древним и «улучшения вкуса» (об этом он специально говорит в прологе к своим стихам). Вероятно, он и познакомил Гонзагу с эстетикой Аркадии.
Сборник стихов Гонзаги «Дирсеева Марилия» (Дирсей – условное «аркадское» имя Гонзаги), первая часть которой вышла в 1792 г., – это лирическая история любви поэта к девушке Марии Доротее де Сейшас. Историки установили реальные биографические поводы чуть ли не каждой лиры (так называл Гонзага отдельные стихотворения) этого сборника. В стихах поэтов Аркадии женские образы – Низы, Амарилис, Анарды – бесплотны и чувства к ним также бесплотны и условны. Лирическое переживание Гонзаги всегда искренно и подлинно, в какие бы эстетические одежды оно ни облекалось.
В конце 80-х годов Гонзага и Клаудио Мануэл да Коста приняли участие в заговоре «Инконфиденсии минейры». Гонзага должен был стать автором законодательства независимой бразильской республики и, возможно, ее первым президентом. Но заговорщики были преданы и арестованы. Три года, пока длилось следствие, они провели в тюрьме. Не выдержав заключения, повесился в камере Клаудио Мануэл да Коста. Гонзага и в тюрьме писал стихи – они были впоследствии изданы как вторая часть «Дирсеевой Марилии» (1799).
Заговорщикам был вынесен смертный приговор, но королева помиловала Гонзагу и нескольких его товарищей, заменив им казнь ссылкой в Мозамбик. Там, после восемнадцати лет ссылки, Гонзага умер.
Первая часть «Дирсеевой Марилии» отвечает требованиям Аркадии. Поэтическая речь Гонзаги ясна и безыскусна: он не прибегает к стилистическим фигурам, не употребляет архаизмов или латинизмов. В стих допускаются лишь требуемые вкусом эпохи мифологические образы. Эмфаза достигается рефреном или повторами, что сближает стих с фольклорным. Большая часть лир первого сборника выдержана в духе пасторальной традиции: поэт как будто набрасывает на себя легкий пастушеский костюм.
Но природа у Гонзаги не только прекрасная и добрая (как это характерно для пасторали) – гораздо чаще она разумна, мудра. Склоняя Марилию к любви, поэт ссылается на требования и уроки мудрой природы. Сама красота в понимании Гонзаги – это разумность, соответствие законам природы. Анакреонтические мотивы его лирики пронизаны ощущением естественности наслаждения, согласности с природным порядком. Природа для Гонзаги не только пейзаж и прелести сельской жизни, но и универсум, включающий в себя и человека. Это мир, живущий по определенным, познаваемым нашим разумом законам. Такое понимание природы значительно глубже того, что свойственно обычно пасторальной поэзии. Гонзага включил в пастораль рационалистическую концепцию Нового времени.
Существенно также переосмысление, которому подвергает Гонзага этический идеал пасторали – беззаботность, неприхотливость, чистосердечие отношений. У Гонзаги этот идеал обретает конкретные социальные черты. Он сторонник собственности, но не богатства. Его цель – золотая середина, обеспечивающая довольство и свободу. Свои нравственные представления он выражает уже не от имени условного пастуха, а от собственного имени. Он гордится тем, что не собирал в «железных сундуках» золото и «на улице обращался со всеми как с равными». Этический идеал Гонзаги – культ семьи, глубоких и прочных чувств, умеренной и достойной жизни, чистой совести – сближает его с сентиментализмом.
Некоторые лиры Гонзаги свидетельствуют о том, что изящный, сладостный и лукавый мир рококо сохранял обаяние в глазах поэта. Радостная чувственность, которой не стыдится поэт, заставляет нас вспомнить о настроении, господствующем в лирике Парни. Тем не менее влияние рококо в поэзии Гонзаги как бы мимолетно. Не мгновение наслаждения, но прочная семейная идиллия представляется целью существования в центральных лирах «Дирсеевой Марилии». Лишь нерушимый союз скрашивает приход старости, одряхление, лишение плотских радостей. Поэтому и интонации стихов Гонзаги более серьезны, сдержанны, медлительны, ему, в общем, не свойственны легкая грациозность и ироничность стиха.
В нескольких лирах Гонзага рисует поразительные по пластической четкости и социальной конкретности картины промыслов и занятий населения Бразилии (добыча золота, производство сахара из тростника, расчистка джунглей под пашни и пр.). В эти же годы Клаудио Мануэл да Коста работал над поэмой «Вила Рика», в последней главе которой описывал еще более подробно, со всеми техническими деталями, труд своих соотечественников. Гонзага и да Коста не только прекрасно знали материальное бытие своих земляков, но и сделали художественное освоение этого бытия творческой задачей.
В 1835 г. была найдена и опубликована большая сатирическая поэма под заглавием «Чилийские письма», созданная в Вила Рике в 1783—1786 гг. Это сатира на тогдашнего губернатора провинции, написанная в виде посланий чилийца Критило к другу Доротеу. Установлению авторства поэмы посвящена огромная литература. Текст поэмы был сопоставлен с деловыми бумагами Гонзаги и с «Дирсеевой Марилией». Сейчас можно считать неоспоримым, что автором «Чилийских писем» был Гонзага, возможно, в сотрудничестве с да Костой и другим поэтом, Алваренгой Пейшоту.
Выраженные в «Чилийских письмах» взгляды на природу, государство, богатство, знатность, церковников дополняют наше представление о просветительском характере мировоззрения Гонзаги. В прологе к поэме он утверждает значение поэзии как средства просвещения людей: «Сила правды, бичуя одного, казнит и прочих». Человечество, «освободившись от ига тяжкого, воспрянет к свету».
Литературоведы часто рассматривают «Чилийские письма» как героикомическую поэму, обычную для сатиры XVIII в. Однако поэма Гонзаги отличается гораздо более широким и непосредственным охватом реальности: в ней освещены самые разные стороны колониальной жизни – налоговая политика и охота на беглых негров, организация армии и продажа откупов. Некоторые эпизоды поэмы настолько драматичны, что их трудно представить в героикомической поэме. Таковы сцены постройки тюрьмы и экзекуций, описание сбора недоимок, когда «входят в города солдаты и начинают стонать жители: одни вырывают сережки из ушей жен и дочерей, другие продают старых рабынь, нянчивших их в детстве». Комизм социальных противоречий переходит в драматизм. Так, первым деянием нового губернатора явилась постройка тюрьмы, роскошного здания с бесчисленными архитектурными украшениями. В этот дворец сажают беглых негров, не знавших в жизни ничего, кроме жалких хижин.
«Чилийские письма» отличаются от героикомической поэмы и строением сюжета. В героикомической поэме черты современности обычно угадываются сквозь особый сатирический сюжет, пародийно-исторический или фантастический. Сюжет «Чилийских писем» неукоснительно соответствует ходу реальных событий. Историки установили, что каждый эпизод поэмы основан на факте. Для раскрытия же сатирического отношения к факту поэт использует такой традиционный для сатиры XVIII в. прием, как развернутые сравнения, образующие юмористический план происходящего. («Ты видел щеголя, когда он входит в дом, где собирается ужинать и играть в карты, оставляя у дверей лошадей и лакеев и даже не вспомнив, что идет дождь и дует ветер? Вот так обошелся с нами наш губернатор».) Всегда конкретные, взятые из реального быта сравнения создают реалистическую основу сатиры. Обличительный пафос поэмы дополняется классицистической риторикой инвектив.
Бразильская литература XVIII в. уже подступала к историческому конфликту колониальной Бразилии. Если в эпической поэзии старших современников Гонзаги – да Гамы и Дурана – этот конфликт прятался за ширмой исторического прошлого, то в «Чилийских письмах» он выступал открыто, во всей остроте современности. Внешне – это конфликт между народом и плохим правителем. На деле – это конфликт между народом и всей системой колониального управления. В «Чилийских письмах» современная поэту действительность взята так широко, с такой точностью и серьезностью реалистического описания, с такой драматичностью, что это не вмещается в рамки героикомической поэмы. Это было то самое обращение к современной жизни, которое в других литературах создало реалистический роман Просвещения. Бразильская проза тогда еще не существовала, прозаическая традиция в португальской литературе тоже была очень слаба. По историческим условиям, по степени зрелости (вернее, незрелости) социальных отношений бразильская литература еще не могла так показать поведение человека в социальном мире, как это сделано в европейском просветительском романе. Но «Чилийские письма» и моменты в лирике Гонзаги, близкие этой поэме, играли для бразильского художественного сознания ту же историческую роль, что просветительский роман в европейских литературах.
Арест и тюремное заключение круто повернули творческую судьбу Гонзаги. Душевное потрясение, горчайший личный опыт внесли в его поэзию совсем новые мотивы, новое мировосприятие.
Стихи Гонзаги цензуровались, прежде чем выйти из тюрьмы и попасть в руки его друзей. Зная это, Гонзага рассчитывал, что и стихи могут помочь ему на судебном процессе. Отсюда – многочисленные заявления о невиновности, призывы к снисходительности властей. Но это лишь один, довольно поверхностный слой. Самое главное и значительное в стихах второй части «Дирсеевой Марилии» – новый лиризм. Пасторальный маскарад появляется всего в трех-четырех лирах второй части. Он всегда отнесен в прошлое как воспоминание о незабвенных счастливых временах. В стихах о настоящем поэт отказывается от всех условностей системы, прежде для него важной. Он совершенно забывает о пастухах, пастушках и их хижинах. И поэт-узник, и его далекая возлюбленная предстают реальными людьми с их реальными биографиями.
Точно воссоздана в стихах тюремная обстановка: сырые стены, копоть, которая заменяет узнику чернила, судья, ведущий «коварно и ловко» допрос, звяканье ключей, луч света, который на миг проникает в камеру, когда туда входит тюремщик. Смятение, боль души, буря внутри одинокого и страшащегося своей участи человека – самая яркая тема тюремных стихов. Борение страха и надежды вызывает образы, неизвестные дотоле бразильской поэзии и, в общем, чуждые классицизму. Это образы сна, видений, бреда. То эти видения ужасны – площадь, плаха, палач, то, наоборот, во сне или грезах приходят светлые картины свободы и счастья, горько контрастирующие с пробуждением. Одно из самых замечательных стихотворений, лира 60-я, начинается словами: «На ложе лягу, жесткое, как камень...». Во сне «тюремные утонут нары», и поэту снится его будущее, каким оно было бы, если бы не арест: свадьба, путешествие с любимой в родной город Баию. «Но «Слушай!» – часовой кричит уныло...», и узник просыпается... В этой лире с пронзительной тоской воплощена противоположность между сном и действительностью, мечтой и убивающей мечту реальностью.