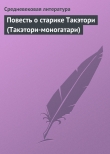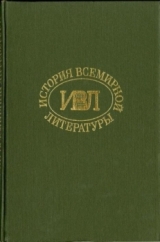
Текст книги "История всемирной литературы Т.5"
Автор книги: Георгий Бердников
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 84 (всего у книги 105 страниц)
ИНДО-МУСУЛЬМАНСКИЙ СИНТЕЗ. ПОЭЗИЯ УРДУ. ПОЭЗИЯ СИНДХИ
В XVIII в. окончательно формируется самая молодая из новоиндийских литератур – мусульманская литература Индии, язык которой получает именно в XVIII в. название «урду». Именно в эту пору литература урду встает как равная персоязычной литературе Индии и начинает постепенно вытеснять ее с литературной арены. Персидский теряет свое влияние, хотя и остается официальным языком Могольской империи вплоть до 1835 г.
Блестящим поэтом рубежа XVII—XVIII вв., завершившим ранний (деканский) период истории литературы урду, был Вали Аурангабади (годы жизни неизвестны) – «первый человек» («баба адам») в поэзии урду. Творчество Вали неразрывно связано с культурой фарси («Урфи, Анвари, Хагани // Поэзии законы мне передали в дар»; перевод Н. Глебова), с философией суфизма и со всем тем, что составляло литературно-эстетический комплекс персоязычной традиции, однако это первый индийский поэт («Вали, известен ты в Туране и Иране, но родина твоя, поэт, – Декан»; перевод Н. Глебова). Многие его стихи воспроизводят картины близкого ему Декана, а не далекого и неведомого Ирана, как того требовала персоязычная традиция, воспевают подвиги индусов – Рамы, Лакшманы и Арджуны, а не героев персидской литературы, язык его газелей прост и ясен, лексика базируется на местных диалектах, а не на арабо-персидской лексике. Разговорный «презренный» урду, этот площадной и базарный язык, звучал в его стихах так поэтично и музыкально («О свет очей, тебе письмо я написал ресницей, // Печать на нем поставил зрачком глаза»; перевод Г. Зографа), что покорил даже убежденных приверженцев персидского стиля при делийском дворе.
В течение XVIII столетия южноиндийские деканские княжества (Биджапур, Голконда) в результате непрекращающихся войн с маратхами, джатами, раджпутами окончательно теряют свое могущество, и мусульманский культурный центр снова перемещается в Дели. Делийская школа первоначально формируется в атмосфере могольского двора – центра дряхлеющей и гибнущей империи. Подчеркнутый интерес придворных поэтов к формальной стороне искусства и литературы, увлечение орнаментальной формой способствовали развитию поэзии усложненного стиля. На языке урду возникает в эти годы поэзия стиля накх-шикх (букв. – с головы до ног). Типологически этот стиль сходен с поэзией рити на брадже или пандит-кави на маратхи. Одно из названий поэзии рити – наик наика бхед (типы героев и героинь) – по сути означает то же, что накх-шикх. Содержание такого рода поэзии обычно представляет собой описание внешности какого-либо персонажа (чаще мифологического) в строгом соответствии с любовным этикетом и поэтическим каноном. Скажем, в любовном дуэте (тема – тайное свидание) может участвовать согласно традиции героиня строго определенной до мельчайших деталей внешности. Поэт из готового, сформировавшегося несколькими веками ранее «каталогизированного» канона избирает отдельную деталь – зрачок, локон, завитый строго определенным образом, ноготь на руке или ноге какого-либо определенного пальца, ухо или пупок – и языком сложных поэтических фигур, зафиксированных в трактатах по классической поэтике, демонстрация безукоризненного владения которыми и есть по существу цель поэта, создает свою вариацию – обычно отдельные замысловатые строфы (двустишия или четверостишия). Поэзию этих стилей роднит подчеркнутое внимание к формальной стороне стиха и восприятие поэтики как самостоятельной темы поэзии, в которой поэтическая фигура самоценна.
Немаловажную роль, однако, в формировании делийской школы сыграла и та свежая струя, которую принесли в Дели поэты Декана (в частности, Вали из Аурангабада), переселившиеся из южных княжеств в северную столицу. Становление поэзии нового стиля начиналось с простейших поэтических форм. Излюбленным жанром поэтов делийского двора, начавших писать на урду, была лирическая и лирико-философская газель (XVIII в. в поэзии урду обычно называют веком газели). Особенную популярность приобретает так называемая «пестрая газель», в которой чередуются строки на фарси и урду.
Крупнейшим поэтом того времени был Саддриддин Мухаммад Фаиз (годы жизни неизвестны) – потомок знатного иранского рода, знаток поэтики, прекрасно владевший арузом, автор газелей и маснави. Он не читал своих стихов при дворе и с гордостью писал о себе: «Я никому не воздавал хвалы в стихах, ибо это занятие всегда казалось мне близким попрошайничеству» (Перевод Н. Глебова). Быть может, поэтому его имени нет ни в одном тазкире (традиционная, официальная история литературы), а поэзия его стала известна лишь в 1946 г., после выхода в свет исследования видного индийского филолога Масуда Хасана Ризви. Фаиз был одним из первых поэтов урду, который видел ценность поэзии в том, насколько правдиво отображает она действительные события, а не воспроизводит традиционные сюжеты. Особенное внимание Фаиз обращал на поэтический слог и был одним из немногих поэтов того времени, которые стремились избежать стандартности метафор, сравнений и отвергал изощренную словесную эквилибристику во имя изящной простоты. Фаиз не был мусульманским ортодоксом и чтил обряды индусов так же, как установления ислама. В этом он был близок своему деканскому современнику Вали.
В 1714 г. Фаиз закончил свой первый диван. Его излюбленной формой стал назм, получивший широкое распространение в поэзии наших дней. Назм у Фаиза по форме похож на персидскую маснави (он состоит из двустиший с парной рифмой, связанных единством темы), но отличается меньшими размерами.
Сближение мусульманской и индусской традиции,
так ощутимо сказавшееся в литературе XVIII в., – одна из самых ярких черт поэзии Фаиза и других поэтов делийской школы. Влияние индусской поэзии на брадже играло здесь не последнюю роль. Образы и элементы индусской традиции (Кришна и Радха, павлин, лотос и величавый слон) органически сплелись в творчестве этого мусульманского индийского поэта с традицией арабо-персидской культуры (Фархад и Ширин, соловей и роза).
Вторжение в Индию Надир-шаха привело к падению Дели, который был разграблен и сожжен в 1783 г.
Культурный центр переместился в Лакнау. Литература урду лакнауского периода теряет радостные тона, отражая атмосферу гибели империи, грабительских набегов, разложения знати, разорения народа. «Другие раньше были времена, другие люди жили. Кто мог подумать, что можно жить, как мы живем» (перевод Н. Глебова), – писал Ходжа Мир Дард (1721—1785), один из поэтов того времени. Мир Дард продолжал линию тех поэтов урду, в творчестве которых ощущалась и мусульманская, и индусская традиции. Будучи суфием, он поклонялся индусской богине красноречия – Сарасвати, владел не только арузом, но и санскритской поэтикой, в частности аланкара (поэтическое украшение), среди которых предпочитал шлеш (игра слов) и ямак (употребление одного слова в разных значениях). Большую часть творчества Дарда составили газели. По канону газель – стихотворение о неразделенной любви, и в земном и в мистическом плане в нем должны звучать боль, страдание и слезы (Дард, псевдоним поэта, значит «боль»). Но печаль Дарда питала не только традиция. Трагическая действительность явно ощущалась под покровом традиционного мистицизма.
Куда ушли те дни, когда беспечно жизнь текла,
Когда душа была спокойна и ясен разум был?
Теперь брожу средь дорогих руин и слышу шепот вслед:
«Вот человек, чьи дом и сад я видел здесь совсем недавно».
(Перевод Н. Глебова)
В литературе лакнауского периода становится все более ощутимой склонность к орнаментальному, усложненному стилю. Умение создавать изысканные поэтические тропы нередко являлось единственной мерой таланта поэта. Даже в раннюю прозу на урду (агиографические сочинения, литературно обработанные дастаны – народные романы, восходящие к героическому и романическому эпосу) проникает усложненный поэтический стиль.
Литература урду в XVIII в. дала много поэтов, но не все из них так известны, как «шах газели» Мир Мухаммад Таки Мир (1725—1810). Свидетель крушения Дели, страданий и бед народа, Мир всю печаль времени вобрал в свою поэзию («Не называйте Мира поэтом. Книга его стихов – собрание печали мира», перевод Н. Глебова). Он создал шесть диванов на урду, несколько касыд, марсий и свыше двадцати маснави. Так же как Вали и Фаиз, он сочетал в своем творчестве персидскую и индийскую традиции («Не спрашивайте Мира, каким он молится богам. Уже давно // Он носит касты знак, в индусский ходит храм, забыв учение ислама»; перевод Н. Глебова). Признанный поэт лакнауского двора, он всегда подчеркивал, что пишет для народа («Моим стихом гордится знать. Но цель моя – с народом говорить»; перевод Н. Глебова), и стремился приблизить язык придворной высокой поэзии к народному. Лирико-философские газели Мира написаны в духе суфизма, но, так же как у Дарда, вдумчивый читатель увидит в них и приметы времени.
Вся жизнь подобна дождевому пузырьку,
Она подобна миражу в пустыне...
Я как факир пришел, благословляя всех.
И счастья всем желая, я ушел.
Я говорил всегда, что без тебя мне жизни нет,
Я верность клятве сохранил и доказал...
Спина согнулась, молодость ушла и одряхлело тело,
О чем тоскуешь ты, к чему теперь твоя печаль, поэт?
(Перевод Н. Глебова)
Развитие литературы и культуры Индии в Позднее Средневековье несет на себе, как уже несколько раз отмечалось, приметы сближения индо-мусульманских традиций, несмотря на непрекращавшуюся войну Аурангзеба и его преемников с сикхами и маратхами, не на живот, а на смерть боровшихся за освобождение своих земель, а в конечном счете за независимость индуистской культуры.
Как бы сложно ни складывались индо-мусульманские отношения и в XVIII в. и позднее, включая отношения государств, отношения индуизма и ислама, контаминация двух традиций и приметы этого процесса в архитектуре, живописи, литературе Индии – факт бесспорный. Он сказался и в присутствии облаченного в традиционные охровые одежды индуса-санъясина, восседающего на равных правах с суфием на миниатюрах могольской школы, и в присутствии изображения буддийского колеса Закона на мусульманских надгробиях, павильончиков
и кронштейнов, столь характерных для шиваитских храмов Юга Индии – в декоре мечетей и в смешении некоторых черт народных обычаев.
В литературе контаминация индо-мусульманских традиций сказалась в содержании, форме и даже в названии некоторых жанров. В такой, казалось бы, ярко выраженной индусской литературе, как маратхская, возникают интересные в этом плане жанры, во многом обязанные арабо-персидской литературе, что сказывается иногда даже в названии жанра. Маратхская историческая летопись, например, называется «бакхар» от персидского «кхабар» (информация, весть и т. д.), а одно из направлений городской поэзии – поэзией шахиров (от персидского – шахир, поэт). В литературе пенджаби возникает жанр «кисса» (персидское – «рассказ») – эпическая поэма с четким сюжетом, который мог быть заимствован из разных источников: из древнеиндийской («Наль и Дамаянти»), из арабской («Лейла и Меджнун»), из персидской («Фархад и Ширин») литератур.
Даже в южные литературы Индии, которые всегда представляли собой наиболее консервативный оплот индуизма, в XVIII в. проникает влияние ислама. Оно проявляется иначе, чем на Севере, – не в сближении, порой срастании элементов различных традиций, а в механическом наложении одной традиции на другую, при этом не затрагиваются ни религиозная философия, ни основные положения поэтики.
Наиболее известным тамильским поэтом-мусульманином был Умару Пулавар (р. в конце XVII в.). Ему принадлежит «Пурана о пророке Мухаммаде» – произведение, в котором своеобразно сочетаются традиционная индийская литературная форма древних памятников индуистской мысли – пурана (ср., например, «Вишну-пурана», «Маркандея-пурана») и учение Корана. Жизнеописание Мухаммада в этой пуране дается на фоне типичного южноиндийского пейзажа со многими местными реалиями. Пейзаж Тамилнада играл в древнетамильской поэзии важную, сущностную роль. Видимо, эта традиция оказалась в данном случае более сильной, чем законы арабо-персидской культуры, предписывающие поэзии традиционный пейзаж Ближнего Востока с его характерными реалиями. Персоязычные поэты Индии, например, обычно писали о пейзажах Ирана, никогда ими не виданных. Инерция этой традиции сказывается и в наши дни, тем более интересны отступления от нее в XVIII в.
Самым ярким примером индо-мусульманского синтеза в литературе XVIII в. была поэзия на языке синдхи. Синд – колыбель древнейшей индийской культуры. Именно здесь, в долине реки Инд (откуда Синд получил свое название), была открыта древнейшая мировая цивилизация, относящаяся к III тыс. до н. э. Многие пласты индийской культуры от древнейших до ведийского, буддийского (в особенности) и индуистского формировали культуру и литературу этой области, ныне отошедшей к Пакистану. Сюда стекались и здесь оседали исконные жители Индии – раджпуты, белуджи, джаты, богатейшие фольклорные традиции которых живут и сегодня. С VII в., т. е. много раньше, чем на Севере Индии, в Синде появляются арабы. Вместе с ними, т. е. тоже раньше, чем в центральных областях будущей Могольской империи, сюда проникает ислам, который к XI в. окончательно побеждает индуизм. В XVIII в. почти 90% населения Синда исповедует ислам.
Современный язык синдхи пользуется арабским письмом, грамматика его восходит к санскриту, свыше 60% словарного состава – санскритского происхождения, остальная лексика складывалась из разновременных арабо-персидских заимствований.
В литературе используются формы арабо-персидской поэзии – маснави, газель, касыда, рубаи, – которые часто создаются в индийской метрике – доха, соратха, чаупаи.
В XVIII столетии, в пору крушения Империи Великих Моголов, Синд (он входил в состав империи с момента ее образования) оставался одной из немногих областей Индии, где авторитет ислама вследствие ряда объективных исторических причин не утратил прежней силы. Муллы, шейхи, устады (толкователи Корана) и нищие дервиши еще обладали в тех землях непререкаемым авторитетом и своеобразной властью. Религиозно-философская лирика на языке синдхи в XVIII в. еще сохранила полноту эмоциональной напряженности мистического чувства и возвышенную чистоту веры. Шах Абдулла Латиф (1689/90—1752) – великий поэт Синда – был последним истинно средневековым поэтом, отразившим своей личностью и поэзией эпоху «великой святости» восточного средневекового общества с его статикой и устремленностью внутрь. До сих пор его стихи воспринимаются как своего рода «священное писание» и являются неотъемлемой частью духовной жизни народа, их цитируют, читают в поэтических собраниях, обсуждают и комментируют. Литература о Латифе огромна, но до последнего времени она, так же как его стихи, была мало известна за пределами Синда.
Латиф принадлежал к древнему роду Саидов, давших Синду много поэтов. Он был человеком образованным, хорошо знал как мусульманскую традицию, так и индусскую. Предпочтение, однако, поэт отдавал Корану, маснави суфийского поэта XIII в. Руми и стихам своего прадеда Шах Карима. Латиф не записывал стихов, подобно большинству средневековых поэтов, он пел их, часто обращаясь к традиционным индусским мелодиям, или сочинял музыку сам. Его стихи, составившие впоследствии знаменитую «Рисало» («<Книгу> посланий»), были записаны после смерти поэта, а систематизированы по темам и циклам в наше время. Их систематизация в ныне публикуемых «Рисало» произвольна, как и авторство отдельных фрагментов, поскольку Латиф часто пел стихи своего прадеда как свои. «Рисало» обращена к богу, единому, всемогущему, «целителю всех бед» и «врачевателю всех ран». Постоянное эмоциональное ударение Латиф, как и всякий суфий, делает на единобожии, неделимости «вездесущего». Это составляет центральную и главную мысль всего произведения, реализованную в ярких, необычных образах: например, людей «как бы рассеченных надвое», потому что духом они «обняли фальшь двойственности».
Суфийская философия и символика составляют основу поэзии Латифа, которая представляет собой своеобразную песнь страстной, мистически возвышенной любви к единственному «Возлюбленному» (стремление души к абсолюту). Поэт подчеркивает ничтожность человека в сравнении с величием и полнотой божества. Отсюда – трагический мотив невозможности счастливого земного удела и стремление к Вечному. Любовь – для него лишь средство приблизиться к сиянию Вечной Красоты, но не слиться с ней, как часто мечтали об этом индусские бхакты. «Рисало» Латифа воспринимается в Синде не просто как литературное произведение, а почти как откровение.
Исступленная любовь поэта может быть сопоставима с мистической страстностью, которую испытывает мусульманин во время праздника шахсей-вахсей. Высшим пределом любви Латиф считает смерть во имя Всевышнего (быть жертвой «убийства, совершенного Возлюбленным, – мольба мученика»), смерть не мгновенную, а мучительно долгую, ибо только в миг предсмертного мучения ощущается физический переход в лоно божества, а это единственное, что дано почувствовать земному человеку, поскольку, «что и как за порогом», людям не ведомо. Отсюда – воспевание своеобразного «крестного пути» и «крестных мук» во имя любви, но не к человечеству, а к богу, образы эшафота, виселицы, смертных мук, петли, крепче которой обнять шею не может ни один любовник, и т. д.
Когда Любовь берет в свою руку нож,
Пусть не будет он острым. Пусть будет
Он тупым, и тогда
Руку Возлюбленного ты дольше будешь ощущать...
Знаешь ли ты о любви, – что и как?
(«Тяжелый путь»)
Поэзия Латифа не была бы в народе так популярна, если бы он создал только «Рисало». Большую любовь снискали его поэтические вариации на темы народных баллад о несчастных влюбленных – «Сасуи и Пунхун», «Сухини и Мехар», «Момул и Рано», «Лила и Чанесар», «Марун и Умар», известные в народе задолго до прихода мусульман (обращение к пластам доисламской культуры характерно для XVIII в.). Все сюжеты, к которым обращался Латиф, трагичны. Влюбленные разлучаются и гибнут или от тоски и горя, или от козней злых завистников, как погибла, например, Сухини («Сухини и Мехар»). Она была раджпуткой, дочерью богатого искусного горшечника, и жила на берегу широкой реки. Мехар – сыном богатого негоцианта, мусульманином. Они страстно полюбили друг друга, но их брак, согласно обычаям, был невозможен. Каждую ночь отважная девушка садилась в обожженный глиняный кувшин и тайно переправлялась через реку, на противоположном берегу которой Мехар, нанявшийся в пастухи к ее отцу (мехар значит пастух) пас стада. В пути ей светили «горящие любовью глаза пастуха». Тайные встречи любовников продолжались до той роковой ночи, когда родители Сухини в надежде образумить дочь подменили кувшин из обожженной глины необожженным. Сухини, зная, что ей грозит смерть, отправилась своим обычным «путем любви» и погибла. Вода просочилась через необожженную глину, кувшин наполнился водой и утонул.
В своих балладах Латиф сосредоточивает внимание на трагических ситуациях, на душевном состоянии героини в критический момент ее жизни. Его вариации на эти сюжеты, как правило, представляют собой женские плачи или беседы страдающей героини (обычно героини, а не героя) с поэтом. Латиф никогда не говорит о счастливых днях и не рассказывает историю влюбленных – в Синде каждый знает их с детства. Поэма «Сухини и Мехар», например, начинается с того момента, когда Сухини отправляется в необожженном кувшине на верную смерть и обращает миру свой плач о горькой судьбе. Во всех поэмах Латифа звучит своеобразное наставление, в котором соединились индуистский универсализм в духе веданты (соединение в смерти как стремление к мировой гармонии) и суфийский мотив неразделенной любви, стремления души к Вечному Возлюбленному, утешителю в безрадостности посюстороннего.
Однако если «Рисало» построена на чисто религиозных медитациях, то в поэмах о влюбленных мистические размышления поэта смягчены теплотой земных человеческих чувств. Лейтмотив «Рисало» – молчи, терпи, храни любовь в сердце. В любовных поэмах, наоборот, жалоба выливается в трогательные плачи, и героиня страдает скорее не оттого, что ей не приблизиться к божеству, сколько оттого, что ее покинул земной возлюбленный.
В земном кувшине храню я образ моего пастуха,
Как разбить кувшин, в нем вся моя жизнь...
(«Сухини и Мехар»)
Нехорошо говорить о своем горе,
Но как удержать его в сердце...
Я спала, и во мне росла
Лиана моего любимого.
Для плотской боли, для скорбной боли
Я знала...
(«Сасуи и Пунхун»)
Латиф строит свои поэмы на оппозициях злого земного мира и милосердия бога; любви сиюминутной и любви бесконечной; жизни мгновенной и жизни вечной. Образы его поэм двузначны: пастух – он же Пастырь, кувшин (кстати, традиционный образ индуизма) и конкретное понятие (кувшин, в котором переправлялась через реку Сухини, например), и символ посюстороннего, временного (он легко бьется) земного бытия, наполненного божественной сущностью, т. е. душой. Ожидание дождя в деревне – это и реальная картина деревенского быта, и вместе с тем дождь – космическая сила жизни в цикле существования Вселенной. Если «Рисало» – вся в области духа, то в любовных поэмах присутствуют явные приметы быта и реального земного окружения – мастерская горшечника, высохшее русло реки, пустыня, засохшие деревья и т. д.