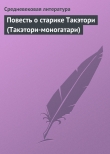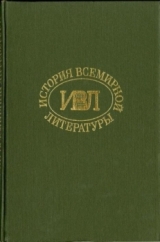
Текст книги "История всемирной литературы Т.5"
Автор книги: Георгий Бердников
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 90 (всего у книги 105 страниц)
*Глава восьмая*
ФИЛИППИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
В XVIII в. на Филиппинских островах усилилось политическое и экономическое господство католической церкви. В руках монашеских орденов сосредоточились огромные земельные и денежные богатства, часто использовавшиеся в ростовщических целях. Колонизаторы захватывали новые и новые общинные земли и закрепощали филиппинское крестьянство. В результате учащаются стихийные разрозненные выступления крестьян, вылившиеся в 1762—1764 гг. в мощное восстание. За восстанием последовали первые «либеральные» реформы, приведшие к образованию местного, филиппинского, духовенства, а в дальнейшем – и светской интеллигенции из числа местных жителей.
В 80-х годах XVIII в. началось приобщение филиппинцев к достижениям испанской культуры, литературы, науки, языку, что в какой-то мере открыло доступ нарождавшейся филиппинской интеллигенции к европейской цивилизации. К середине XVIII в. латинизированные испанцами филиппинские письменности окончательно вытеснили доиспанское филиппинское слоговое письмо; к этому времени не без участия монахов были утрачены, по-видимому, и многочисленные тексты произведений филиппинской средневековой литературы (эпос, народные песни).
Книжная продукция на Филиппинах была для Юго-Восточной Азии весьма значительной: к 1800 г. только в типографии Университета св. Фомы в Маниле было напечатано около 500 названий книг на испанском и тагальском языках. Это были почти исключительно сборники молитв, учебники христианского вероучения и проповеди. С литературной точки зрения наиболее важными из этих произведений следует признать пасьоны (страсти) – религиозные поэмы, посвященные жизни Христа, его крестным мукам и воскрешению. Как правило, пасьоны представляли собой адаптации или переводы испанских оригиналов на тагальский язык. Первый такой филиппинский пасьон – «Страсти господа бога нашего Иисуса Христа» – был написан Гаспаром Акино де Беленом и опубликован в 1704 г. Стихотворный размер, избранный де Беленом, – восьмисложное пятистишие – подчеркивает родство пасьона с тагальской народной поэзией. О народных корнях поэмы говорит и ее безыскусный, ясный и точный язык. Образ Христа максимально «очеловечен»; он предстает перед читателем или слушателем как воплощение доброты, благожелательности, простодушия.
Вам же я оставляю
[Мою] дружбу, которой нет границ,
Носите [ее] в сердцах своих,
Неуклонно подражайте
Дорогому для вас примеру, –
с этими словами тагальский Христос обращается к апостолам во время тайной вечери. Произведение Гаспара Акино де Белена породило множество подражаний на различных языках народов Филиппин, из которых первым можно считать тагалоязычный пасьон Луиса Гиана, опубликованный в 1750 г. Пасьоны охотно инсценировались, составляя особый, восходящий к испанским средневековым ауто жанр театральных представлений (сенакуло). Сенакуло исполнялись во время великого поста, они были настолько популярны, что простые крестьяне часто знали их текст наизусть.
Наряду с сенакуло популярнейшим видом театральных спектаклей на Филиппинах были так называемые моро-моро, составляющие основную часть репертуара тагалоязычного Комического театра, открытого в Маниле в 1790 г. Моро-моро – это светские драматические представления с пением и танцами. В них разыгрывались кровопролитные сражения между христианизированными филиппинцами и неизменно злоумышляющими против них южнофилиппинскими мусульманами (моро), одновременно в эту рамку заключались и любовные приключения какого-нибудь знатного христианина и не менее знатной мусульманки. Первую постановку моро-моро принято относить к 1637 г., когда была захвачена мусульманская крепость Илиган на острове Минданао. Не вызывает сомнения, что моро-моро, связанные с традицией испанского народного театра, теснейшим образом соотносятся также с дохристианской культурой Филиппин (так, бисайские моро-моро хореографически весьма напоминают яванские танцы-пантомимы, что говорит, возможно, о контактах Филиппин с индуизированной Явой).
Литературной основой моро-моро нередко служили произведения филиппинского балладного эпоса – куридо (корридо) и авит. Как замечает современный филиппинский исследователь Б. С. Медина, «авит написан обычно двенадцатисложным размером и исполняется в темпе анданте, поведение его персонажей не выходит за пределы возможного, в то время как в корридо используется, как правило, восьмисложный стих и они поются в темпе аллегро, герои же их преимущественно оказываются участниками фантастических приключений». Приведенная классификация, несомненно, позднего происхождения, в обиходе оба термина нередко сталкиваются, и анонимную, как большинство произведений этого жанра, восьмисложную поэму «Птица Адарна» называют то куридо, то авитом.
Рассматривая состав произведений, относящихся к этим жанрам, мы обнаруживаем среди них ряд произведений на библейские сюжеты или на сюжеты из житий («Адам и Ева», «Саул и Давид», «Святая Рехина», «Святая Ана»), дидактические поэмы и даже одно землеописание. Однако большинство авитов и куридо посвящены бранным подвигам и любовным приключениям, совершающимся храбрыми и высокородными героями в отдаленных экзотических странах, будь то Франция, Арагон, Греция, Москобия или какая-нибудь вовсе не существующая Бребания. Разнообразные поэмы – «Бернардо Карпио», «Семь инфантов Лары», «Альмансор», «Клодовео», «Персибаль», «Роберто эль-Дьябло», «Бланка Флор» – связаны с испано-европейским эпосом или со средневековыми рыцарскими романами, что заставляет именно здесь искать истоки филиппинской эпико-героической традиции.
Толчком к формированию филиппинских авитов и куридо послужили, по-видимому, испанские средневековые романсы, лиро-эпические песни, «разлившиеся», по словам Р. Менендеса Пидаля, по всем морям и землям, по которым протянулась испанская империя, и включившие в себя «романы о Тристане, Ланселоте, Дидоне и Энее, об Александре Великом, о Прокле и Филомеле, Тарквинии и Лукреции, Парисе и Елене и другие, в которых получила отзвук новеллистика Средних веков и эпохи Возрождения». В этих романсах христианизированным филиппинцам импонировало многое – сюжетика, как можно полагать, типологически близкая их собственному героико-авантюрному эпосу; ослепительный европейский антураж – мраморные лестницы дворцов, шелк и бархат одежды, золотая насечка рыцарских доспехов; пафос борьбы с «неверными» – исламизированными обитателями Минданао и островов Сулу, ставшими врагами христианизированных филиппинцев; простота изобразительных средств и, наконец, песенная форма исполнения, которая напоминала филиппинцам способ исполнения их собственных эпических поэм. В итоге пройдя, возможно, стадию устного бытования, испанские романсы возродились в виде авитов и куридо на ряде языков народов Филиппин. При этом они обрели иное метрическое обличие с нерегулярным первое время размером, колеблющимся от восьмисложного к одиннадцатисложному и во многом близким размеру малайских пантунов и шаиров. В то же время они стали сентиментальнее и дидактичнее, более метафоричны и аллегоричны по языку, чем их европейские прототипы. В результате авиты и куридо по существу обрели вид произведений филиппинского фольклора, о чем красноречивее всего говорит, может быть, обилие эпических «общих мест», переходящих из одной поэмы в другую (описание ссоры героя и его сюзерена, внешности героя и героини и т. д.).
Трудно сказать, распространялись ли филиппинские авиты и куридо в списках или только исполнялись устно. Во всяком случае первые их публикации относятся лишь к концу XVIII в. Но в это же время появляется все больше авторских произведений. Ряд куридо (например, знаменитые «Бернардо Карпио», «Родриго де Вильяс», «Десять пэров Франции»), а также несколько моро-моро («Междоусобная война в Гранаде», «Зачарованная королева, или Насильственный брак» и др.) связываются с именем Хосе де ла Круса (Хусенга Сисиу, 1746—1829), видного тагалоязычного поэта XVIII в. Хусенг Сисиу оставил после себя несколько лирических стихотворений – явление редкое для филиппинской литературы XVIII в. Одно из стихотворений Сисиу – «Кольцо любви» – интересно тем, что оно, по мнению некоторых исследователей, напоминает утонченное стихотворение-загадку – поэтический жанр, весьма популярный в тагальском фольклоре:
О, как жаль пропавшей любви!
Ведь кольцо, упавшее в море, не вернешь!
Если бы тебе было суждено найти его,
Я подождал бы, пока наступит отлив.
Мягкую насмешку над аксиомами христианской религии содержит другое лирическое стихотворение Сисиу:
Не разочаровывай меня, говоря,
Что ты должна спросить совета у родителей.
Разве Христос не предложил
Рая Димасу, хотя у него тоже были отец с матерыо.
(Димас – один из разбойников, распятых вместе с Христом).
К началу века относится творчество первого тагальского поэта – Пелипе де Хесуса. Он отходит от макаронической поэзии предшествующего периода. Дошедшее до нас оригинальное произведение этого поэта представляет собой стихотворное приложение к тагальскому переводу «Повести о Варлааме и Иоасафе»
(1712). Эта пространная (в 46 катренов) поэма написана восьмисложным стихом, столь характерным для народной поэзии аустронезийцев, и содержит высоконравственные советы и рекомендации читателям романа. Свободно и непринужденно поэт пользуется тагальским языком со всем его метафорическим богатством для выражения достаточно новой для его земляков и современников христианской морали.
Кроме известных поэтов (П. де Хесуса, Х. Сисиу, А. Сорильи), очевидно, были и другие. Так, к середине XVIII в. относится сочинение (опубл. 1895) монаха-августинца Франсиско Бенкучильо (1710—1776) «Искусство тагальской поэзии» (1759). К сожалению, оно пока не изучено.
Картина филиппинской литературы XVIII в. была бы неполной, если бы мы умолчали о немногих прозаических произведениях того периода. Как и в XVII в., продолжают переводиться на местные языки сборники молитв (новены), катехизисы, библейские притчи. Особый интерес в этом потоке духовной прозы представляет собой, однако, упоминавшийся тагальский перевод «Повести о Варлааме и Иоасафе», сделанный миссионером Антонио де Борха (выдержал два издания – в 1708 и 1712 гг.). Ясное, спокойное, хотя и изобилующее длиннотами произведение Антонио де Борхи может рассматриваться как первая попытка нащупать стиль новой тагальской прозы, получившей дальнейшее развитие лишь в следующем веке. Следом за тагальским переводом «Повести о Варлааме и Иоасафе» в свет выходит илоканское переложение того же произведения, выполненное Аугустином Мехией. В 1734 г. впервые была издана средневековая бисайская дидактическая поэма «Лагда» (переиздана в 1746) – правила поведения молодежи, написанные на языке лейте-самар и восходящие к испанским оригиналам.
Следует отметить и самые значительные лингвистические работы того периода. Именно в в этих трудах зафиксированы образцы филиппинского фольклора (пословицы и поговорки, легенды, сказки, песни, загадки). К таким исследованиям относятся грамматики тагальского языка Гаспара де Сан-Агустина (изд. 1703, 1787), Себастьяна де Тотанеса (1745, 1796, 1850, 1865) и знаменитый «Словарь тагальского языка» Хуана Хосе Носеды и Педро де Сан-Лукара (1754, переизд. 1832 и 1860).
В XVIII в. в филиппинской литературе возникают такие эпико-драматические жанры, как пасьон, куридо, авит, подготовившие прогресс филиппинской литературы в XIX в.
РАЗДЕЛ ДЕСЯТЫЙ
-=ЛИТЕРАТУРЫ ВОСТОЧНОЙ, ЮГО-ВОСТОЧНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ=-
ВВЕДЕНИЕ
К восточноазиатскому историко-культурному региону в XVIII в., как и в предыдущие века, следует отнести не только народы Дальнего Востока: китайский, корейский и японский, но и народы Центральной Азии (монгольский и тибетский), а также вьетнамский, хотя Вьетнам находится в Юго-Восточной Азии. Эти страны издавна были связаны с Восточной Азией, особенно с Китаем в историческом и культурном планах, как было уже показано в предыдущих томах «Истории всемирной литературы». В развитии литератур Восточной Азии переход от XVII к XVIII в. происходил сравнительно плавно, эволюционировали многие из тех тенденций, которые существовали там ранее.
В XVIII в. становится все более ощутимым, сравнительно с XVII в., отставание стран Восточной Азии (как в социально-экономическом, так и в культурном отношениях) от передовых стран Европы, что было следствием целого ряда причин. Маньчжурское завоевание Китая в XVII в., сопровождавшееся опустошением кочевниками всей страны, прервало и замедлило намечавшиеся тенденции предбуржуазного развития, и они с трудом восстанавливались в XVIII в. Маньчжурский сюзеренитет над Кореей и постоянная военная угроза сказались также на исторических судьбах корейского народа в этот период. Продолжавшаяся в XVIII в. агрессивная политика маньчжурской (цинской) империи привела после ряда войн к захвату Монголии и почти полному истреблению народа Ойратского ханства (оставшиеся 30—40 тыс. из 600 тыс. человек спаслись бегством в Россию и расселились в Астраханских степях).
Маньчжуры установили также контроль над Тибетом, сохранив, однако, там автономную власть далай-ламы. В конце XVIII в. маньчжуро-китайские войска предприняли попытку поработить и Вьетнам, но потерпели неудачу.
В XVIII в. в дальневосточных странах происходит консервация феодально-деспотического строя, соединившего классовый гнет с гнетом национальным. Многочисленные крестьянские восстания в Китае, Корее, Японии, вооруженные народные выступления во Вьетнаме, вылившиеся в крестьянскую войну под руководством братьев Тэйшонов, свидетельствовали о кризисных явлениях в феодальных обществах этого региона.
Феодальные деспотии, существовавшие в этих странах и располагавшие мощным бюрократическим аппаратом, были сильнейшим тормозом на пути становления буржуазных отношений, хотя феодалы не могли совсем остановить процесс роста товарно-денежного оборота, торгово-ростовщического капитала (особенно в Китае и Японии), ремесленного и мануфактурного производства.
Такому сдерживанию социально-экономического развития и сохранению феодального строя способствовала политика самоизоляции от внешнего мира, прежде всего – от европейских держав, осуществлявшаяся правителями Японии, Китая и Кореи (хотя Вьетнам, да и некоторые из упомянутых стран, в XVIII в. поддерживали временами контакты с Западной Европой). Эта политика в известной мере препятствовала колониальному порабощению дальневосточных стран. Одновременно в реакционно-клерикальных кругах Западной Европы наблюдается настороженное отношение к идеологическим веяниям с Дальнего Востока: так в 1742 г. была обнародована булла папы римского, направленная против конфуцианства и попыток иезуитов соединить в миссионерских целях идеи христианства и конфуцианства. В то же время ряд европейских мыслителей XVIII в. проявлял интерес к Китаю и Японии, наблюдалось увлечение изобразительным искусством и предметами художественного ремесла дальневосточных стран; начиналось развитие европейской ориенталистики.
Несколько иначе складывались отношения стран Дальнего Востока с Россией. Уже начало XVIII в. характеризовалось настойчивыми попытками русских установить дипломатические и торговые связи с Китаем, Японией, интересом к их культуре. В России начинается изучение японского языка: указом Петра I в 1702 г. японцу Дэмбэю было поручено обучать русских «робят» японскому языку, а в 1736 г. при Петербургской Академии наук основали школу японского языка. В Пекине обосновывается Русская духовная миссия, из числа сотрудников которой вышли первые в России знатоки Китая и его культуры.
Заметное влияние на литературное развитие стран региона оказывали возникшие здесь передовые идейные течения, которые были направлены против схоластической науки и воплощали в себе стремление к знаниям, преобразованию общества на справедливых началах, острую социальную критику. Эти течения, как правило, не отвергали конфуцианства, а стремились использовать его позитивные начала или же сосуществовали с конфуцианством (речь не идет о Тибете и Монголии, где продолжал господствовать ламаизм). Перемены, происходившие в конфуцианстве, были столь разительны, что ретрограды с тревогою говорили о его упадке. Несмотря на противодействие феодальных властей, в Китае, Японии, Корее, Вьетнаме отмечался интерес к европейской культуре, науке, особенно естествознанию (отдельные подобные случаи наблюдаются и в Монголии). Этот интерес, возникший еще на рубеже XVI—XVII вв., был заметен лишь у ограниченного круга образованных людей, но все же он имел важные последствия, подтачивая замкнутость восточноазиатских культур и стимулируя развитие естественных наук в самих странах Дальнего Востока и Вьетнама. Уже созревшее сознание важности этих контактов выразил замечательный корейский мыслитель, ученый и писатель Пак Чивон: «Наша страна лежит в окраинных землях востока, а Европа – на крайнем западе. Как бы хотелось, чтобы хоть раз встретились люди крайнего востока и крайнего запада».
В XVIII в. процесс ознакомления с европейской наукой происходил наиболее активно в Японии, куда с 1720 г. было разрешено ввозить иностранные книги – преимущественно голландские, а через несколько десятилетий сложилась целая школа «рангакуся» – «голландоведов». В других же странах региона, например, во Вьетнаме, европейская книга была редкостью, о чем писал в середине XVIII в. видный поэт и ученый Ле Куй Дон.
Завязывались первые связи с Европой и в области художественной литературы (ранее переводились только книги религиозного, а также научного содержания). Хотя эти литературные контакты были единичны, в них улавливается некоторая закономерность. В Японии переводились «Путешествия Гулливера» Свифта, во Вьетнаме – «Телемак» Фенелона. Показательно, что произведения, положившие начало контактам европейских и дальневосточных литератур, принадлежали или веку Просвещения или предпросветительскому этапу литературного развития.
Тенденция к разностороннему познанию мира, в том числе к накоплению практически полезных сведений, характерная в XVIII в. для духовной жизни стран Дальнего Востока и Вьетнама, отразилась и в художественной литературе. Резко расширяется круг тем и героев, писатели смелее обличают пороки общества, изображают быт и житейские ситуации, все больше внимания уделяют человеческой личности. С этим связано и развитие жанров в литературах.
Ряд исследователей склонен рассматривать названные явления как типологически близкие европейскому Просвещению; другие, напротив, считают, что они не выходят за пределы Средневековья. Несомненно, однако, что литературы дальневосточного культурного круга проходят в это время этап перехода от Средневековья к Новому времени и в них намечаются тенденции, сопоставимые одновременно с чертами Ренессанса и Просвещения. Постепенно ко второй половине XIX в. просветительские тенденции утверждаются во многих странах Востока. Но в XVIII в. они не складываются в целостную систему, во всяком случае еще не создают того решительного идейного перелома, которым отмечено и Просвещение на Западе в XVIII в. и просветительство на Востоке конца XIX – начала XX вв.
Процесс эмансипации литературы на разговорных языках, в XVII—XVIII вв. выдвинувшейся на передний план в большинстве дальневосточных стран, встречает у верхов все возрастающее противодействие. Стремясь привлечь к себе прозаиков и поэтов, толкая их к официально признанным идеям и жанрам, правители одновременно выступают в роли откровенных гонителей национальных литератур, повелевая сжигать неугодные книги, а заодно – деревянные доски, с которых они печатались. В Китае была учреждена настоящая «литературная инквизиция», жертвами которой стали прежде всего произведения философско-исторической прозы, а также художественные повествования, объявлявшиеся аморальными. Более спокойно этот процесс протекает в XVIII в. в Корее, хотя высокомерное отношение верхов к национальной литературе сохраняется и там. В Японии литература на родном языке утвердила себя гораздо раньше, полное запрещение ее было уже немыслимым, но и здесь цензурные гонения проводились с большим размахом. Как и в Китае, Корее, запреты тут налагались на целые (обычно простонародные) жанры: не разрешалось печатать сборники сярэбон – городских юморесок и сатирических рассказов; жестоко каралось создание и распространение «безнравственных» сочинений о самоубийстве влюбленных – к ним среди других были причислены и творения знаменитого драматурга XVII—XVIII вв. Тикамацу Мондзаэмона.
В противовес демократическим тенденциям феодальное государство стремилось поддержать литературу угодную ему, нередко проявляя при этом и недальновидность и вынужденную терпимость. В китайской литературе, например, появляется герой, который выступает против нападок на конфуцианскую ортодоксию, но вместе с тем интересуется «еретической» западной наукой, а также весьма склонен к эротике.
В произведениях, тяготеющих к официозной тенденции, проявляются ханьско-маньчжурские великодержавные идеи. Таков, например, роман китайского писателя Ту Шэня «История книжного червя», в котором изображен маньчжурский военачальник, подавивший восстание народности мяо на юге Китая и сражавшийся с «аннамскими пиратами», – видимо, вьетнамскими повстанцами. Аналогичные черты насаждаются и в других литературах, например, в японской, где активно культивируются произведения, воспевающие самурайский дух.
Несмотря на все это, в большинстве литератур Дальнего Востока XVIII в. продолжали усиливаться тенденции, свидетельствовавшие о нарастании новых важных качеств, зародившихся еще в XVII в.
Много общего наблюдается в четырех близких по своему общественно-экономическому развитию и культуре странах – Китае, Корее, Японии и Вьетнаме. Происходили изменения в идейной и художественной структуре литератур, нарушался их средневековый стереотип, хотя эта эволюция и не приводила, как правило, к полному разрушению системы средневековых жанров. Перемены сводились к тому, что на передний план выдвигались новые жанры, или те, которые ранее находились в тени. Старые жанры иногда претерпевали внутренние изменения: например, корейская повесть, как правило анонимная, проникается явным интересом к человеческой личности, в том числе незаметной и угнетенной, вьетнамская поэтесса Хо Суан Хыонг смело привносит в высокие жанры классической поэзии элементы народной городской культуры.
Основным прозаическим жанром в китайской литературе XVIII в. становится роман, который уже в значительной мере отходит от традиции исторических эпопей и повествовательного фольклора. Прозаические полотна наполняются семейно-бытовой тематикой – об этом свидетельствует лучший китайский роман XVIII в. «Сон в красном тереме», развивающий достижения романа конца XVI – XVII вв. Автор «Сна в красном тереме» Цао Сюэ-цинь при всей своей приверженности даосизму и буддизму отражал в романе процесс становления в человеке новых черт, в конечном итоге не соответствующих феодальным установлениям. На основе предшествующих сатирико-фантастических произведений возникает сатирический роман – «Неофициальная история конфуцианцев» У Цзин-цзы. В силу внутренних процессов и благодаря знакомству с литературой Китая, в XVII—XVIII вв. формируется семейно-бытовая проза в Корее.
Возникает роман и во Вьетнаме (на ханване – местном варианте китайского письменного языка, грамматика и лексика которого следовали архаическим нормам). Внешне он связан с традицией исторических сочинений и дальневосточных романов, хотя трактует крупные события своего времени и в нем изображены исторически достоверные лица. Вьетнамские романисты, несомненно, находились под воздействием китайских историко-героических эпопей XIV—XVII вв., но в отличие от авторов этих эпопей рисовали не отдаленные времена, а события, свидетелями которых были они сами. Образы их героев свободны от приукрашивания, их произведения приобретают черты актуального политического романа. Активно развивается роман в Японии, где на рубеже XVIII—XIX вв. творит известный романист Такидзава Бакин.
Но для Кореи и, особенно, Вьетнама роман еще не столь характерен; наиболее известные художественные достижения этих стран представлены в жанрах корейской повести и вьетнамской повествовательной поэмы (последняя тоже связана с китайским романом, например охотно заимствует сюжеты из него). В этих жанрах видна тенденция к самоутверждению личности, которое в феодальных обществах Востока, особенно жестоко подавлявших индивидуальное начало, было сопряжено с огромными препятствиями. Углубленное внимание к переживаниям человека, его внутреннему миру проявляется и в китайском семейно-бытовом романе, и в корейской прозе, а во вьетнамской литературе возникает даже особый жанр лирической поэмы (нгэм). Во Вьетнаме, в отличие от стран Восточной Азии, существовала развитая традиция больших стихотворных жанров; в этом отношении вьетнамская литература стоит ближе к другим литературам Юго-Восточной Азии, с которыми ее роднит и близость фольклорных традиций.
Постепенное осознание ценности индивидуального опыта, стремление познать мир ярко проявились в многочисленных произведениях дневникового, мемуарного и очеркового жанров,
в описаниях путешествий – особенно в литературах Кореи и Вьетнама. Примечательно, что эти путешествия иногда предпринимаются в Европу, но главным образом в страны региона – Китай и Японию, которые на Дальнем Востоке нередко служили и посредниками в знакомстве с Европой.
Даже в малых формах лирической поэзии, особенно скованной традициями и правилами, ощущается стремление нарушать каноны, отображать конкретные явления, а не обобщенную сущность. Некоторые застывшие было символы оживают, обретая вновь свою метафорическую природу и истинную, а не сугубо условную поэтичность. Поэзия на живых разговорных языках, набирающаяся сил в немалой мере благодаря фольклору и городской культуре, принесла в литературу свежесть тем и образов, нередко идущих от обыденной жизни, которая оставалась ранее за пределами поэтического видения. Обогащенная этими новыми чертами поэзия Японии, Вьетнама, Кореи и выдвигает такие замечательные фигуры, как Нгуен Зу или Ёса Буссон, которых называют в числе классиков мировой литературы.
Во всех дальневосточных литературах в XVIII в. усиливаются антифеодальные тенденции. Так, писатели Китая, Кореи и Вьетнама подвергают резкой критике экзаменационную систему, посредством которой формировался чиновничий аппарат, самих чиновников, невежественных и алчных, творящих беззакония. Деспотизм, подавление личности, приверженность к схоластике с невиданной дотоле остротой запечатлены и в романе «Неофициальная история конфуцианцев» китайского писателя У Цзин-цзы, и в новеллах корейского писателя и мыслителя Пак Чивона, и в сатире японского писателя и мыслителя Андо Сёэки, который выразительно назвал свое острое обличительное произведение «Повестью о мире беззакония». Начинается критический пересмотр некогда бесспорных истин и принципов.
Для литературы Китая XVIII в., продолжавшего страдать под маньчжурским игом, характерна антиманьчжурская направленность, часто скрываемая и выступавшая в форме идеализации национального прошлого. Эти настроения иногда ощущаются также в Корее и Вьетнаме, которые были объектом постоянных посягательств со стороны цинского Китая, а также в Монголии, попавшей под маньчжуро-китайское владычество. Кроме того, в литературах Китая и особенно Кореи, подвергавшихся нападению Японии, заметна и антияпонская тенденция.
С процессом эмансипации человеческой личности связано создание в литературах Дальнего Востока впечатляющих женских образов, а также появление замечательных писательниц. Среди последователей выдающегося китайского поэта и новеллиста XVIII в. Юань Мэя было немало женщин. В Корее того времени на родном языке писали главным образом женщины, чьи имена, к сожалению, не сохранились. Великими писательницами по праву называют во Вьетнаме Доан Тхи Дьем и «царицу вьетнамской поэзии» Хо Суан Хыонг.
Литература на китайском письменном языке (вэньянь) также оказывается перед необходимостью перемен. Эти произведения, создававшиеся в разных государствах Дальнего Востока и во Вьетнаме, лишь спорадически становились известны за пределами соответствующих стран. Однако легче всего литературные контакты осуществлялись именно в тех жанрах, которые создавались на этой «дальневосточной латыни». Так, в XVIII в. вьетнамский мыслитель, эрудит и поэт Ле Куй Дон, прибыв с посольством к маньчжурскому двору, обменивался стихами на вэньяне с вельможами двора и с корейским послом, знаменитым ученым и поэтом Хон Гэхи; тот даже предпослал свое предисловие сборнику стихов Ле Куй Дона.
Во всех странах Дальнего Востока произведения на архаизированном китайском языке были наиболее традиционной частью литературы, поскольку они сознательно ориентировались на установленные много веков назад каноны. Но в этих же произведениях порой громче всего звучали гражданские (обличительные и утопические) мотивы, связанные с лучшими традициями конфуцианства. Огромное количество создавшихся в XVIII в. эпигонских сочинений и просто школярских упражнений (умение сочинять стихи было одним из требований на экзаменах для чиновников) не раз высмеивалось самими представителями литературы на китайском письменном языке. «Их подражанья зависти не стоят, они способны вызвать только стыд», – писал, например, Пак Чивон. Государство поощряло эти упражнения, стремилось с их помощью воспрепятствовать новым литературным веяниям. Однако китайская классика недаром в течение веков вливалась животворной силой в творчество дальневосточных народов; она порождала отнюдь не только бесконечные перепевы, более или менее умелые. Пристальное внимание к угнетенному человеку, идущее по крайней мере от танских поэтов (Ду Фу, Бо Цзюй-и и др.), оказалось созвучным передовым поэтам XVIII в., которые развивали мотивы социального протеста и защиты человеческого достоинства, пытались творчески подойти к традициям прошлого. Свою критику они направляли против бессмысленного эпигонства и эстетства, стремились расширить тематику стихов; в высокую поэзию все смелее входила обыденная жизнь.
Если до XVII в. в межнациональные взаимосвязи была включена только высокая литература на общерегиональном архаизованном литературном языке вэньяне (старокитайском), который в Японии назывался камбун, в Корее – ханмун и во Вьетнаме – ханван, то в XVII в. и особенно в XVIII в. большую роль в этом процессе начинает играть китайская повествовательная проза, написанная языком, близким к разговорному. Во всех странах Дальнего Востока образованные читатели свободно могли читать литературу на вэньяне без перевода на национальные языки, но с произведениями на живом китайском языке дело обстояло иначе. Интерес к повествовательной прозе Китая – явлению в целом демократическому и прогрессивному – в Японии и Корее привел к появлению переводов и переложений. При этом характерно, что, интересуясь повествовательной прозой, японцы, издавали в оригинале в конце XVII – начале XVIII вв. раннесредневековые китайские сборники рассказов о чудесах («Записки о поисках духов» Гань Бао и их продолжение, приписываемое Тао Юань-мину, изд. в 1699 г.; «Описание удивительного» Жэнь Фана, изд. в 1716 г.), а переводили позднесредневековые эпопеи и романы, отдавая явное предпочтение произведениям историко-военного характера («Повествование о периоде Отдельных царств» – перевод 1703, 1712 гг.; «Рассказы о военных событиях времен Южных и Северных династий» – 1705 г.; «Повествование о доблестных героях» – о борьбе китайцев с монголами в XIV в. и установлении национальной династии Мин – 1705 г.) и особо – авантюрно-героическим. Первое место по числу переводов и изданий такого рода в Японии XVIII в. занимает бесспорно эпопея Ши Най-аня «Речные заводи», разные варианты которой переводились и издавались в 1727, 1728 и 1757 гг. Большой интерес к этому раннему роману вызвало и появление национальных его переложений, так, в 1770 г. выходит из печати первая часть «Речных заводей правящей династии», а в 1793 г. «Женские речные заводи» – произведения уже собственно японской литературы. Японские читатели XVIII в. увлекались и фантастическим романом У Чэн-эня «Путешествие на Запад» (XVI в.)