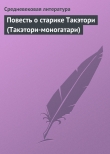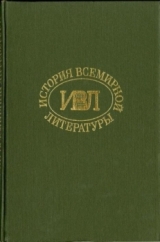
Текст книги "История всемирной литературы Т.5"
Автор книги: Георгий Бердников
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 105 страниц)
Но Людовико Муратори был не только эстетиком. Будучи, подобно Джанноне и Гравине, убежденным противником теократии, он не остался в стороне от развернувшейся в его время политической борьбы. Критике церковного абсолютизма, разоблачению религиозных предрассудков, замутивших духовную основу первоначального христианства, проповеди веротерпимости и принципов своего рода «христианского социализма» посвящены такие значительные нравственно-философские работы Муратори, как «Трактат о христианском милосердии» (1723), «Нравственная философия» (1735), «Счастливое христианство» (1743—1749) и др. Произведения эти имели широкий общественный резонанс и навлекли на автора яростные нападки иезуитов, требовавших включения его произведений в пресловутый «Индекс запрещенных книг». Муратори был обвинен в насаждении особой, «гражданской ереси», именуемой также «мураторианской», и в 1740—1741 гг. с трудом избежал отлучения от церкви. От участи Джанноне его спасло только личное вмешательство «либерального» папы Бенедикта XIV (того самого, которому Вольтер посвятил «Магомета»), заявившего, что «творения великих людей не запрещаются».
Подобно всем просветителям XVIII в., Муратори считал, что произведения литературы и искусства призваны содействовать социальному прогрессу. Отвергая как безыдейные и безнравственные поэзию и театр барокко, он стремился противопоставить им литературу, являющуюся общественной школой истинной и неизменной морали, отвечающей требованиям не столько некоей абстрактной этики или традиционной христианской религии (как пытаются доказать некоторые зарубежные ученые), сколько той самой «гражданской ереси», которой были проникнуты все его произведения. Именно такая литература, а не власть государей должна была, по мнению Муратори, преобразовать и сплотить всю Италию. Еще в 1703 г. он опубликовал «Первый проект Литературной республики», которая, по его замыслу, должна была, в отличие от Аркадии и других итальянских академий, «занимающихся вздорными проблемами и всяческой ерундой», содействовать новому возрождению итальянской национальной культуры, объединив «всех видных литераторов Италии, к каким бы социальным слоям они ни принадлежали».
Создать такого рода «республику» Муратори, разумеется, не удалось, но его собственная деятельность в немалой мере содействовала формированию в Италии нового, национального сознания. Поборник разума и «хорошего вкуса» оказался старательным издателем и исследователем исторических документов, сочетая картезианский рационализм с тем своеобразным историзмом, который был одним из характернейших признаков раннего итальянского Просвещения. Осуществленное Муратори фундаментальное двадцативосьмитомное издание «Итальянские историки» (1733—1751) содержало наряду со старинными хрониками записи народных легенд и песен, тексты неизданных литературных произведений, относящихся к VI—XVI вв., а также различного рода свидетельства, проливающие свет на материальную и духовную жизнь средневековой Италии.
Как рационалист XVIII в., Муратори ясно отдавал себе отчет в том, что публикуемые им материалы изобиловали «сказками и баснями». Однако это его не смущало. По-рационалистически четко отделяя историческую истину от поэтических вымыслов в том «обширном переплетении правды и лжи», которое несла с собой «традиция темного народа», Муратори вместе с тем склонен был анализировать саму эту традицию как важнейший исторический факт, усматривая в народных легендах и преданиях не просто пустые басни, а художественное преломление действительности в самосознании нации на определенной стадии ее исторического развития. Для своего времени такая точка зрения была достаточно новаторской, и именно с ней оказался связан один из самых существенных вкладов раннего итальянского Просвещения в последующее развитие европейской культуры.
Основные исторические сочинения Муратори примечательны прежде всего тем, что в них давалась значительно более объективная оценка средневековой культуры, чем та, которая содержалась в книгах французских просветителей, склонных, по словам Ф. Энгельса, смотреть на все европейское средневековье, «как на простой перерыв в ходе истории, вызванный тысячелетним всеобщим варварством» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 21, с. 287). В отличие от более радикальных мыслителей, «которые во Франции просвещали головы для приближавшейся революции» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 20, с. 16), ранние итальянские просветители связывали свои представления о торжестве разума не столько с социально-политическими преобразованиями и будущим третьего сословия, сколько с тем культурным и национальным подъемом, который пережила их страна в прошлом. Вот почему итальянские средние века были для Муратори не только, как он писал, «варварской и страшной эпохой» расцвета феодализма, но и эпохой, отмеченной «большой доблестью и блистательными подвигами», эпохой городских демократий XIII—XIV вв., а также Данте, Петрарки, Боккаччо, подготовивших культурный расцвет XVI столетия и оказавших на новейшую европейскую культуру – Муратори особенно на этом настаивал – ничуть не меньшее влияние, нежели греко-римская античность. Просветительский историзм в Италии питался национальным сознанием и вместе с тем содействовал его дальнейшему формированию.

Дж. Вико
Гравюра Ф. Сессонэ
Неразвитость в Италии первой половины XVIII в. новых, капиталистических отношений обусловила не только слабые, но и некоторые сильные стороны раннего итальянского Просвещения. Не чувствуя поддержки уверенной в своем будущем буржуазии, ранние просветители в Италии редко заходили в борьбе против феодальной системы дальше критики мирских притязаний папства на государственную власть; их произведениям не был свойствен пафос политически революционных идеалов. Но зато у них отсутствовали и третьесословные, буржуазные иллюзии. Современную им действительность первые просветители Италии нередко оценивали трезвее и историчнее, чем самые просвещенные умы Франции и Англии. Сами не отдавая себе в том отчета, они смотрели на окружающий мир глазами не рвущегося к власти буржуа, а угнетенного трудового люда. Вот почему им порой удавалось, опережая современную им метафизическую философию и эстетику, высказывать поражающие своей глубиной суждения о созидательной роли народных масс в истории общества и в истории поэзии. Первая половина XVIII столетия в литературе Италии была не только временем Гравины, Джанноне, Муратори – это было также время Джамбаттисты Вико, мыслителя, у которого, как писал К. Маркс, «содержатся в зародыше Вольф («Гомер»), Нибур («История римских царей»), основы сравнительного языкознания (хотя и в фантастическом виде) и вообще немало проблесков гениальности» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 30, с. 512).
Джамбаттиста Вико (1668—1744) всю жизнь провел в Неаполе. Около пятидесяти лет он преподавал в тамошнем университете право и там же в 1725 г. опубликовал первое издание своего главного труда «Основания новой науки об общей природе наций». Над этим трудом Вико работал до конца своих дней. Третье, расширенное и существенно переработанное издание «Новой науки» увидело свет в 1744 г., когда ее автора уже не было в живых.
Несмотря на несколько архаичный и барочный стиль изложения, изобилующий сложными метафорами и аллегориями, труд Вико действительно закладывал основы совершенно новой науки. За несколько лет до того, как Вольтер ввел этот термин – «философия истории», убежденный противник картезианского рационализма Вико создал оригинальную философскую теорию развития человечества, включив в нее то, что мы назвали бы теперь элементами исторической мифологии, исторической поэтики и исторической эстетики. Именно историзм с неотделимой от него стихийной диалектикой больше всего отличал «Новую науку» от современной ему французской просветительской мысли, и это даже давало повод многим исследователям творчества неаполитанского философа выводить его за рамки европейского Просвещения, игнорируя все то, что связывало Вико в первой половине XVIII в. с Джанноне и Муратори, а во второй – с Филанджери, Пагано и другими неаполитанскими «якобинцами».
В противоположность большинству западноевропейских мыслителей XVIII в. Вико не верил в абсолютность исторического прогресса и не склонен был взирать на далекое прошлое «просвещенных» народов только как на хаос кровавых, но бессмысленных случайностей, порожденных невежеством и религиозными предрассудками. Он искал в истории «простонародную мудрость», смысл и ту внутреннюю закономерность, «согласно которой совершают свой бег во времени все нации в своем зарождении, движении вперед, зрелом состоянии, упадке и конце». Законы истории, согласно мнению Вико, могут быть познаны людьми, ибо, в отличие от природы, историю творят сами люди, преследуя свои сугубо материальные интересы. Однако Вико никогда не рассматривал человеческую историю как результат целесообразной деятельности отдельных выдающихся личностей. История для него – это всегда процесс, развитие, но не абстрактного, внеличного, картезианского разума или абсолютного духа, а самосознания народа, неизменно борющегося за свое освобождение, хотя далеко не всегда правильно понимающего окружающую действительность и умеющего найти истинные пути к гражданской свободе.
Схема исторического развития, отстаиваемая в «Новой науке», в общих чертах такова: за первобытным состоянием животной дикости и «гнусной общности имущества и жен» (т. е. первобытного коммунизма) следует «эпоха богов», когда народное самосознание облекается в форму сознания мифологического, создающего языческое многобожие. Это первый шаг человечества к его собственно историческому бытию. О мифологии Вико судил не по Феокриту или Овидию, а по поверьям современного ему итальянского крестьянства. В «Новой науке» Вико – и в этом состоит новаторство его труда – старался, опираясь на изучение языка и сопоставления различных фактов древнейшей истории, добраться до истинного смысла самых «грубых» мифов, ибо только так, по его мнению, философ может составить правильное представление как о тех начальных этапах истории, о которых не сохранилось никаких письменных свидетельств, так и об исторических основах всякой поэзии. «Мифология, – пишет он, – это Гражданская История Первых народов, последние же повсюду были в своей сущности Поэтами».
Затем на определенном этапе «эпоха богов» сменяется «эпохой героев». В это время народ в силу своей бедности оказывается в подчинении у земельной аристократии, у «героев». По сравнению с «эпохой богов» «героические» времена были определенным шагом вперед в развитии человечества. Вико признавал это, но в отличие от многих современных ему мыслителей не склонен был идеализировать не только царский, но и раннереспубликанский Рим, видя в его «героике» то же самое «варварство», которое существовало в Европе в пору феодализма. Сквозь покровы тяжеловесной барочной прозы в «Новой науке» порой прорывается такая ненависть ко всякого рода угнетению, какую в XVIII в. нечасто можно обнаружить даже у самых последовательных просветителей. Предвосхищая Жан-Жака Руссо, Д. Вико писал: «Гражданское рабство коренится в тех имущественных благах, которые не необходимы для жизни».
Однако Вико не считал, что трудовой народ будет вечно находиться в рабской зависимости от феодальной аристократии. В результате развития народного самосознания вслед за «веком героев» постепенно складывается третья эпоха, которую Вико называет «человеческим веком». Начало его не является, впрочем, следствием одних лишь успехов просвещения. Народная республика, учит Вико, устанавливается в результате упорной политической и экономической борьбы народа за свои естественные права.
Раскрепощение человечества, осуществляемое в народных республиках, создает благоприятные условия для пышного расцвета культуры и облегчает людям познание окружающего их мира. «В таких республиках, – пишет Вико, – целые народы, вообще жаждущие справедливости, предписывают справедливые законы, а так как они хороши вообще, то здесь возникает философия, по самой форме этих Республик предназначенная образовать Героя и ради этого образования заинтересованная в истине».
Освобождение народа неотделимо в «Новой науке» от торжества истины, добра, трудолюбия и гражданской доблести.
Не следует, однако, видеть в этом что-то вроде прославления того «золотого века», который, по убеждению многих просветителей XVIII в., должен был неминуемо наступить после победы третьего сословия. Народные республики в системе Вико – вершина, но не последний этап истории.
Для правильного понимания как исторических, так и эстетических идей «Новой науки» надо все время помнить о том, что философия Вико сформировалась в Италии после того, как городские демократии XIII—XV вв. потерпели крушения, когда связанный с ними расцвет итальянской культуры был уже далеко позади. Это ограничивало исторический оптимизм замечательного неаполитанского мыслителя, но позволяло ему достаточно четко представлять, что частные эгоистические интересы вышедшего из плебейских низов буржуа далеко не всегда совпадают с утверждениями народной свободы, что достижения в области чисто научного, рационального постижения действительности неизбежно сопровождаются существенными утратами в поэтическом воссоздании мира в его гармонии и цельности. Именно потому, что Вико был твердо убежден в том, что «поэтически возвышенное всегда должно быть единым с народным», он связывал расцвет поэзии не с успехами «тайной мудрости» современной ему науки, обособившейся от «невежественного простонародия», а с «героическим» детством человечества, когда не было еще полностью изжито народно-мифологическое сознание. Истинными и величайшими поэтами для Вико были Гомер и Данте.
«Открытию истинного Гомера» посвящена одна из центральных книг «Новой науки», в которой содержатся наиболее примечательные идеи о поэзии и поэтике. Вико не верил, что «Илиада» и «Одиссея» написаны одним и тем же поэтом и вообще отказывался признать Гомера реально-исторической личностью. По его убеждению, в характерах Ахилла и Одиссея оказались запечатленными коллективная «простонародная мудрость» и творческое воображение всех эллинов архаической Греции. Именно этим коллективным авторством «Илиады» и «Одиссеи» объясняются, по мнению Вико, высочайшие и уже неповторимые художественные достоинства гомеровских поэм.
Данте был для создателя «Новой науки» «тосканским Гомером». В «Божественной Комедии» Вико увидел не теологический «роман», а такую же мифологическую историю народа, какими были «Илиада» и «Одиссея». Гомер и Данте в системе Вико соизмеримы, ибо в их поэзии запечатлена сходная ступень в историческом развитии народного самосознания. «Особенно характерно для возвышенности Данте, – писал Вико, – то, что этому великому уму выпал жребий родиться во время еще живого варварства в Италии».
Однако Данте для Вико не просто поэт естественного варварства – он поэт варварства нового, «возвращенного». Учению о «возвращении варварства» в «Новой науке» отведена роль важная и для понимания ее стихийной диалектики весьма существенная. Согласно исторической концепции, отстаиваемой в этом труде, стремительное развитие в «человеческий век» науки и техники, обеспечивающее людям высокий уровень материального благосостояния, не только не приводит к подлинной свободе, социальной гармонии и всеобщему благоденствию, но и, напротив, обостряя в отдельных индивидах своекорыстные инстинкты, порождает анархию, отчуждение и ожесточенную борьбу всех против всех. Прогресс материальной цивилизации, согласно теории Вико, вызывает к жизни «варварство рефлексии», а такого рода «просвещенное» варварство, как тонко подмечено в «Новой науке», «делает людей такими бесчеловечными зверями, какими сами они не могли стать под влиянием первого варварства чувств: ведь первое обнаруживало великодушную дикость, от которой можно было защититься или борьбой, или осторожностью, а второе с подлой жестокостью под покровом лести и объятий посягает на жизнь и имущество своих ближних и друзей».
Подобно своему современнику Свифту, Вико проницательно разглядел трагическую противоречивость прогресса буржуазной цивилизации, но не сумел найти исторического разрешения этим противоречиям. Согласно ходу рассуждений, развернутых на последних страницах «Новой науки», «варварство рефлексии» неотвратимо ведет человечество к полному самоуничтожению. Однако согласиться с неизбежностью гибели всего живого Вико все-таки не смог. Именно поэтому в «Новой науке» естественную логику исторического развития вытеснила неисповедимая мудрость Провидения, и в трактате Вико возникла теория круговорота. Спасение от «варварства рефлексии» Вико сумел найти лишь в тех самых катастрофических последствиях, которыми обернулось для человечества варварство рационализма и научно-технического прогресса. «При небольшом количестве оставшихся в конце-концов людей, – писал он, – и при множестве необходимых для жизни вещей люди естественным путем становятся опять сносными; а раз снова возвращается первоначальная простота первого мира, то они становятся религиозными, правдивыми и верными; таким образом, среди них снова появляются благочестие, вера, истина – естественные основания справедливости, благодати и красоты вечного порядка от бога». К богу неаполитанского мыслителя вернул не страх перед церковью и иезуитами, а ужас перед взбесившимся от прогресса йеху.
В конце XVIII в. новаторские идеи Вико не вызвали большого интереса у просветителей Западной Европы, но в XIX в., когда самые мрачные прогнозы «Новой науки» стали сбываться, это по-барочному громоздкое сочинение получило широкое признание. В России одним из первых обратил внимание на Вико Пушкин, прочитавший «Новую науку» во французском переводе (Париж, 1827).
Не понятый в современной ему Европе, Джамбаттиста Вико создал школу у себя на родине.
Его ученики и последователи успешно сочетали интерес к «простонародной мудрости» с теми новыми веяниями, которые отвергались «Новой наукой», и тем самым вводили ее эстетические и историко-философские концепции в общее русло развития литературы итальянского Просвещения. Познакомившись с «Новой наукой», Гете писал: «Я отметил, что в ней содержатся сивилловы прорицания добра и справедливости, которые когда-нибудь совершатся или должны были бы свершиться, основанные на преданиях и житейском опыте. Хорошо, если у народа есть такой прародитель и наставник...».
АРКАДИЯ (Хлодовский Р.И.)
Идеи ранних итальянских просветителей находили в первой половине XVIII в. воплощение чаще всего в эстетике, в философии истории, в правоведении, а не в собственно художественном творчестве. Развитие итальянской поэзии в этот период происходило преимущественно под знаком Аркадии.
Литературоведение XX в. во многом пересмотрело ту абсолютную негативную оценку аркадийской литературы, которая была типична для романтиков и позитивистов. Не следует, конечно, как это делал Б. Кроче, изображать итальянскую Аркадию XVIII столетия носительницей европейского философского рационализма, непосредственно подготовлявшего Великую французскую революцию 1789—1794 гг., и утверждать, будто именно эта литературная академия положила в Италии «начало национальному возрождению» «после более чем ста лет Контрреформации, иезуитства, отстраненности литературы от участия в общественной жизни». Однако столь же ошибочно и просто игнорировать Аркадию, объявляя ее явлением только политически реакционным и эстетически незначительным. И эта, и прямо противоположная ей точка зрения не учитывают диалектику историко-литературного процесса: новая литература рождалась в Италии одновременно и в недрах Аркадии, и в борьбе с ее салонно-аристократической ограниченностью (Дж. В. Гравина, Л. Муратори, Ш. Маффеи и др.).
Академия Аркадия была основана в Риме 5 октября 1690 г. членами литературного кружка, собиравшегося до этого в салоне бывшей королевы шведской Христины. Среди основателей Аркадии были Джан Марио Крешимбени (1663—1728), ставший ее первым постоянным «Стражем», т. е. чем-то вроде несменяемого президента, Джан Винченцо Гравина (1664—1718), написавший законы академии, взяв при этом за образец архаически-торжественный стиль древнеримских «Законов XII таблиц», и еще несколько литераторов. Своей непосредственной задачей Аркадия провозгласила борьбу против маринизма и сечентизма. Ее члены клятвенно заверяли, что они будут «искоренять дурной вкус, непрестанно преследуя его, где бы он ни укрывался» и таким образом возродят великую итальянскую поэзию, «почти совсем изничтоженную варварством минувшего века».
Новая литературная академия имела не просто шумный, а беспрецедентный успех. Уже в 1699 г. у римской Академии насчитывалось восемь филиалов в разных городах Италии. В XVIII в. колонии Аркадии покрыли весь Апеннинский полуостров и стали возникать не только в других странах Европы, но и в Латинской Америке. В лице Аркадии итальянская литература, казалось, опять вышла на мировую арену. Однако триумф Аркадии был эфемерным. Ее поэзия не оказала на дальнейшее развитие итальянской литературы сколько-нибудь существенного влияния. То, что эта литературная академия просуществовала до наших дней, мало кому известно. В самой Италии расцвет Аркадии приходится только на первую половину века. Все это имело свои, достаточно веские исторические причины.
Аркадия, действительно, как бы стерла границы, все еще существовавшие в политически раздробленной Италии между ее различными областями и государствами. Не связанная ни с одним из итальянских дворов, она открывала свои двери для сравнительно широкого круга итальянской интеллигенции и практически превращала в «пастухов» выходцев из всех социальных сословий. Тем не менее Аркадия не создавала и не могла создать большой, подлинно национальной литературы, потому что ее поэты – и в этом состояло их принципиальное отличие от писателей раннего итальянского Просвещения – сознательно и программно отстранялись от привнесения в литературу нравственной, а тем более общественной и политической проблематики своего времени. Аркадия не только не уменьшила, но еще больше увеличила тот разрыв, который существовал в XVII в. между жизнью итальянского народа и литературой итальянского барокко. Противопоставляя ирацционализму, гиперболам и «хитроумным безумствам» маринизма требования разумности, простоты и естественности, поэты Аркадии обращались не к действительности, а только к литературе. Литература же, как говорил А. Грамши, никогда не порождается одною литературой. Кроме того, надо иметь в виду, что в своей поэтической практике Аркадия была в такой же мере отрицанием барокко XVII столетия, как и его непосредственным продолжением в новых историко-культурных условиях итальянского XVIII в. Поэзия Аркадии продолжила барочный антимаринизм, рационализируя, упрощая и приспосабливая его к «хорошему вкусу» и к требованиям светской жизни итальянского аристократического общества XVIII в. с его чичисбеями, «учеными дамами» и галантными аббатами. В Аркадии поэзия перестала быть придворной, но она оставалась аристократически салонной, сделавшись чем-то вроде не слишком сложной формалистической игры в рифмы.
В новой литературной академии барокко измельчало и трансформировалось в рококо. Но это-то и обеспечило Аркадии широкую популярность во всей Европе. Именно поэзия Аркадии стала в XVIII в. наиболее законченным выражением того гривуазного, малоинтеллектуального, но по-своему утонченного, а порой даже изысканно-изящного художественного стиля, который на всем протяжении столетия противостоял в Европе как просветительскому реализму, так и просветительскому классицизму, но которому тем не менее отдали богатую дань не только аристократы «старого режима», но и Вольтер, Дидро, Гагедорн, Виланд, молодой Гете, лицейский Пушкин.
Особенно процветали в Аркадии подражания Петрарке. Самым значительным из петраркистов или, вернее, неопетраркистов XVIII в. был известный астроном и математик Эустахио Манфреди (1674—1739), вокруг которого сформировалась в Болонье небольшая поэтическая школа, возродившая не только метрические и стилистические особенности классического итальянского петраркизма эпохи Возрождения, но и неотъемлемые от него ренессансные, неоплатонические концепции любви. Именно это придало стихотворным произведениям Манфреди некоторую идейную глубину, в принципе совершенно несвойственную поэтам Аркадии. В Аркадии традиционные темы петрарковской лирики, как правило, осложнялись либо религиозными мотивами, либо буколикой (сонеты и эклоги Джамбаттисты Дзаппи), либо анакреонтикой, восходящей к традициям классицистического барокко Г. Кьябреры.
Анакреонтическая лирика была представлена Аркадии канцонами и канцонеттами Томмазо Крудели (1703—1745). На безличном фоне аркадских «пастухов» Крудели выделялся как яркая индивидуальность. В его стихотворениях анакреонтика приобрела характер откровенно гедонического прославления радостей чувственной любви, типичного для французского рококо, но в целом чуждого итальянской Аркадии, где общий тон задавали аббаты; более того, она нередко перерастала у него в эротическую критику лицемерно-христианской морали и даже самой религии. Крудели был непримиримым врагом иезуитов. Все это в конце концов навлекло на него гнев инквизиции. В 1739 г. Крудели был обвинен в причастности к «вольным каменщикам» и брошен во флорентийскую тюрьму, где провел несколько лет.
Эротические стихотворения, а также трактат «Искусство нравиться женщинам» принесли Крудели всеевропейскую, хотя и несколько скандальную славу. Его репутация эпикурейца и вольнодумца была настолько прочной, что, когда Дидро понадобилось издать «Разговор философа с женой маршала де ***» (1777), в котором прямо отрицалось существование бога и осуждалась всякая религия, он, не задумываясь, выдал его за посмертное произведение итальянского поэта.
Канцонетта, т. е. песенка, занимавшая большое место уже в творчестве Томмазо Крудели, была тем лирическим, или, вернее, мелическим жанром, который характеризовал собой Аркадию «второй манеры» (для Аркадии «первой манеры» была типична петраркистская канцона и сонет). Расцвет канцонетты в Аркадии был обусловлен главным образом бедностью содержания ее поэзии. Музыка в какой-то мере обновляла и оживляла общие места, кочующие из одного аркадского стихотворения в другое, смягчала их удручающую монотонность и придавала им видимость индивидуальности. Крупнейшим мастером канцонетты был Паоло Ролли (1687—1765). Современное литературоведение считает его самым одаренным поэтом Аркадии. Одной из лучших канцонетт Ролли была песенка «Тенистый, сумрачный лес». Она разнеслась по всей Европе. Гете в детстве услышал ее от матери и запомнил на всю жизнь.
Но Паоло Ролли писал не только канцонетты. Ученик Гравины, он был большим знатоком античной поэзии, переводил оды Анакреонта или, вернее, произведения, считавшиеся в XVIII в. одами Анакреонта, и начал вводить в итальянскую поэзию некоторые метрические формы древнегреческой и римской лирики (алкеева строфа, сапфическая строфа, катулловы гендакасиллабы и т. д.). Долго прожив в Англии, Ролли содействовал расширению англо-итальянских литературных связей и дискредитации некоторых литературных предрассудков, укоренявшихся в это время в рационалистической Европе. Предвосхищая Баретти, он защищал Данте, Мильтона и Тассо от той несправедливой критики, которой подверг их Вольтер в «Опыте об эпической поэзии», и был одним из первых поэтов, познакомивших Италию с Шекспиром. В Лондоне с Ролли дружил Антиох Кантемир. Очень вероятно, что именно итальянский переводчик и популяризатор Анакреонта заинтересовал Кантемира лирикой этого древнегреческого поэта и косвенно содействовал тому, что в 1794 г. в России появилась книга «Стихотворения Анакреонта Тийского», составленная Н. А. Львовым.
«Третья манера» Аркадии была представлена стихотворцами, пользовавшимися нерифмованным, белым стихом, который ввел в итальянскую поэзию Карло Инноченцо Фругони (1692—1768). Белым стихом Фругони сочинил несколько небольших поэм («Тень Попа», «Гений белого стиха»), философски-пасторальных песен, например «Оронт», где Пан излагает натурфилософию Кондильяка, и посланий, в которых обсуждались некоторые историко-литературные проблемы современности. Но опыты Фругони в описательно-дидактической поэзии лишь соприкасались с просветительской литературой, не переходя в нее и не разрушая стилевую систему рококо. В его анакреонтических сочинениях откровенно прославлялась салонная игра в любовь с ее легкими победами и веселыми изменами, а его знаменитые в свое время канцонетты «Плаванье любви», «Возвращение из Плаванья любви», «Любовный остров» перекликались с известной картиной Ватто, перенося в итальянскую поэзию столь характерные для французского художника галантные образы. В творчестве Фругони как бы воплотились все три манеры аркадской лирики, потому что этот поэт был не только очень плодовит, но и на редкость поверхностен. Стремясь к многообразию, он никогда не ставил перед собой больших целей, ясно сознавая поэтическую ограниченность поэзии и поэтики Аркадии. «Я версификатор, – говорил о себе Фругони, – и не больше, я не поэт».
Несомненно, большее влияние, чем на поэзию, идеи раннего Просвещения оказали на итальянскую драматургию первой половины XVIII в.
В начале столетия на театральных подмостках Италии почти безраздельно царила опера, оттеснив на второй план как итало-испанскую трагикомедию, так и плебейскую комедию масок. Но и она была одним из типичных проявлений искусства позднего барокко. Оперный спектакль представлял пышное, эффектно декорированное зрелище, в котором поэтическому тексту принадлежало самое последнее место. Драматургия оперы повторяла худшие схемы трагикомедии XVII столетия с их запутанными романтическими интригами и маниакальными героями, одержимыми приступами нечеловеческой страсти. Поэтому некоторые из ранних просветителей Италии считали необходимым вообще уничтожить барочную оперу как явление, противоречащее здравому смыслу, и заменить ее правильной трагедией. Такой точки зрения придерживался Джан Винченцо Гравина, автор трактата «Сущность поэзии» (1708), в котором формулировались некоторые основные принципы итальянского просветительского классицизма.
Однако ни трагедии Гравины («Паламед», «Сервий Туллий», «Аппий Клавдий»), ни трагедии его продолжателя, Антонио Конти («Юлий Брут», «Юлий Цезарь», «Марк Брут»), завоевать зрителя не смогли. Единственным театральным успехом в пору раннего итальянского Просвещения стала постановка «Меропы» (1713) Шипионе Маффеи – трагедии, написанной одиннадцатисложным белым стихом со строгим соблюдением всех трех классических единств.