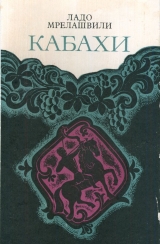
Текст книги "Кабахи"
Автор книги: Ладо (Владимир Леванович) Мрелашвили
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 55 (всего у книги 62 страниц)
Уже на рассвете разнеслась по Чалиспири ужасная весть. Во дворах и в галереях, в проулках и на шоссе люди, услышав о происшедшем, били себя в грудь, хлопали по коленям, ударяли по щекам; слышались ахи и охи, стоны и причитания. Из всех калиток выбегали люди.
Женщины торопливо стягивали концы платков под подбородком, сокрушенно качали головами: «Горе несчастной его матери!»
На хмурых, насупленных лицах мужчин было написано недоумение, смешанное с недоверием, – и в самом деле, поверить было трудно…
Нино без стука вошла в комнату к деверю.
Шавлего оторвал взгляд от связок винограда на стене и вопросительно посмотрел на невестку. Бледное лицо молодой женщины выражало печаль и ужас.
Шавлего приподнялся на локте. Сердце у него екнуло от тяжелого предчувствия.
– Что случилось, Нино?
– Реваз, Шавлего… Реваз…
Она закрыла лицо руками и ушла.
Шавлего вскочил, стал быстро одеваться.
Когда он выбежал на балкон, взволнованный Годердзи, вне себя от волнения, уже спускался по лестнице. Шавлего нагнал его уже почти в самом низу и схватил за руку.
– Что случилось, дедушка?
Старик посмотрел на него, отвел взгляд и спустился еще на одну ступеньку.
– Куда ты собрался? Да что же произошло – так и будешь молчать?
– Не знаю… Женщины чего-то болтают.
– Что с Ревазом?
– Не знаю… Говорят, убили.
– Кто? Когда?
– Не знаю, сам не знаю. Говорят даже…
Но Шавлего уже опрометью бежал к калитке.
Когда он подходил к дому Реваза, дорога перед усадьбой и двор были уже полны народа. Шавлего с трудом прокладывал себе путь в толпе. С разных сторон доносились до него сдержанные вздохи, тихие причитания, осторожный шепот:
– Ну, что ты, милая, что ты говоришь! Я своими глазами видела – нес на плече, словно вязанку хвороста.
– И как он его нашел, где?
– Пена, говорит, шла у него изо рта.
– Не пена, а кровь.
– Он так сказал – пена, дескать.
– Пена – это если человек отравится.
– Так, наверно, его отравили. Горе матери твоей, сынок, бедной, несчастной…
– Может, сам он и убил.
– Скажешь тоже!
– А что, трудно разве поверить? Глаза у него, как у разбойника, так и сверкали. Как повстречаю где-нибудь, сразу в сторону сворачиваю.
– Как Марта смогла полюбить такого?
– Поди разберись! Да иную женщину сам черт не поймет!
– Говорит, долго откапывал.
– Это потому, что кинжал сломался. А то бы легче справился.
– Дуло ружейное будто бы из снега торчало – вот Како и догадался…
– Да, на снегу, наверно, издалека было видно. Должно быть, бедняга попал в метель, и его занесло.
– Надо сообщить в милицию, они все выяснят… А только этот давно уже зарился на Ревазово ружье.
– Ох, беда, что же теперь с несчастной старухой станется?
– Брось, кума! Ты пожалей того, кто ушел, а кто остался… У нас тут голодной смертью никто еще не умирал.
Шавлего с трудом пробрался через толпу в галерее и кое-как протиснулся в дверь.
Словно голос солирующего инструмента, пробивались сквозь общее гуденье плачущих и причитающих голосов полные отчаяния слова, вырывавшиеся из глубины потрясенного горем сердца.
В комнате продираться сквозь плотную стену людей было еще труднее.
Покойник лежал на тахте близ окна. Вокруг стояли женщины; губы у них кривились от сдерживаемых рыданий. Более пожилые причитали жалобными голосами и время от времени били себя по коленям и по груди иссохшими, огрубелыми руками.
Маленькая, скорченная старушка в черном ползала на коленях вокруг тахты и с каким-то беззвучным кошачьим сипеньем целовала безжизненное тело – руки, голову, ноги…
Шавлего видал на своем веку немало покойников, а убитых и вовсе без числа, но такого странного, необычного мертвеца не видел ни разу.
Некогда мужественное, плотно обтянутое гладкой смуглой кожей лицо с крупными чертами, на котором обычно играл здоровый румянец, было сейчас белым как мрамор, холодным, немым и не выражало ничего. Короткая небритая щетина выделялась на нем так, словно была нарочно рассыпана чьей-то рукой. Обескровленные губы были чуть приоткрыты. От правого угла рта начинался розовый след, тянувшийся полосой через всю щеку и сбегавший к уху. Обычно сдвинутые при жизни, упрямые, словно даже сведенные гневом брови разошлись, раскинулись подо лбом во всю длину, похожие на развернутые птичьи крылья, и казались еще чернее, чем обычно, на мертвенно-бледном лице. Веки сморщились. Чуть приоткрытые глаза, казалось, сверлили любого приблизившегося пристальным взглядом. И от этого взгляда – неподвижного, насмешливого, как бы саркастического – веяло таким леденящим холодом, что Шавлего внутренне содрогнулся.
Большие руки, высовывавшиеся из разодранных в клочья рукавов, были сложены на животе, у поясной пряжки. Левая рука была бледной восковой желтизны, правая – синяя, с красноватым отливом.
Икры и ляжки, видневшиеся сквозь дыры изодранных брюк, отливали еще более глубокой, почти черной синевой.
Шавлего поднял с колен припавшую к телу сына старуху, сказал женщинам, чтобы они прикрыли покойника, и вышел.
Со всех сторон на него были устремлены вопросительные взгляды. Он не ответил ни на один из них, не заговорил ни с кем, спустился во двор и направился к винокурне. Сев на край разломанной кирпичной кладки, в которой был прежде укреплен конфискованный куб, он спустил ноги в топку и стал смотреть на церковь святого Ильи, видневшуюся вдали, за склоном Чахриалы. Долго сидел он так, вглядываясь в еле заметные, рассыпанные по просторному церковному двору, ушедшие в землю надгробные плиты.
Бесполезно, излишне было думать сейчас о том, какие замыслы и надежды приходилось похоронить вместе с Ревазом. Главное было то, что погибла молодая жизнь. Безвременно угасла жизнь, которая, если бы ей дали срок, могла сложиться не менее прекрасно, чем любая другая.
В ушах у Шавлего еще звучал шепот людей, собравшихся во дворе и в доме, он не мог отогнать носившееся в воздухе подозрение.
И вспомнил слова Реваза:
«Скажи охотнику Како: ступай, убей из этого ружья человека, и оно твое, – побежит так, что даже собаку с собой не прихватит».
«Когда-то среди горцев водилось такое – из-за хорошего ружья могли убить человека. Но только врага – иной веры, иного племени. А Реваз – какие у него были враги и кому сам он был врагом? Да и у врага, пожалуй, не поднялась бы рука лишить жизни такого молодца? Нет, нельзя так запросто возводить напраслину. Это клевета. А клевета ничем не лучше убийства… Я должен поговорить с Како. Сейчас же, немедленно».
Он посмотрел вокруг.
Под абрикосовым деревом собрались молодые. Среди них был и Эрмана – пасмурный, подавленный.
Шавлего подозвал жестом Шакрию.
Все двинулись к нему гурьбой.
– Шакрия, пойди в дом, скажи Марте, чтобы вышла ко мне. Скажи – у меня к ней важное дело. Непременно ее приведи.
– Я думаю, надо сообщить милиции. Как-никак, а случилось-то это в моем сельсовете, – сказал деловито Эрмана, когда Надувной ушел.
– Непременно надо сообщить. Достань машину и поезжай сам. Привези Баграта Хуцураули и врача-эксперта. Ступай сейчас же – найди машину и поезжай.
Когда Марта пришла, Шавлего прогнал всех, отыскал удобное местечко и попросил ее присесть на минутку.
Замужество пошло Марте впрок: она стала еще привлекательней и даже, казалось, помолодела. Веки у нее чуть припухли от плача, красивые губы вздрагивали. В глазах затаились напряженное ожидание и страх.
– Извини, Марта, неподходящее это место для разговоров, но я должен тебя кое о чем спросить. Только ничего не скрывай, я должен все знать. Ты мне скажи все без утайки, а если чего не стоит разглашать, положись на меня, останется между нами… Что сказал Како, вернувшись домой, после того как принес Реваза сюда?
Страх в глазах у Марты обозначился еще явственней. Щеки у нее чуть побледнели.
– Ничего, Шавлего, почти что ничего. Скинул оружие, бросил мне только: «Реваза принес» – и тут же повалился на постель, не раздеваясь. Сразу заснул – не попросил поесть, не умылся. Повалился на постель и заснул. Да… еще, перед тем как заснуть, пробормотал: «Ступай туда, присмотри за старухой, она ведь одна». И заснул как убитый… Больше я ничего не знаю, Шавлего. Клянусь, ничего не знаю!..
Она заплакала.
– Что-то такое я слышала краем уха… Люди что-то там говорили… Како не мог этого сделать. Разве Како способен на такое? Они не знают, какая у него душа, что это за человек… А Реваза он всегда любил. И даже о Нико… Даже о Нико говорил иногда плохо – из-за Реваза… И я любила Реваза, очень любила. Любила как брата, как родного… Реваз, Реваз, горе твоей матери, Реваз!..
– Ладно, Марта, ступай теперь назад в дом, ты там нужней. Не бойся, никто без достаточного основания твоему Како слова не скажет.
Марта встала, посмотрела на него умоляющим взглядом:
– Не погубите нас, Шавлего! Како ни в чем не виноват. Ничего плохого Како сделать не мог. Он в самом деле любил Реваза. И я его любила. Как брата родного. Он был гордостью нашего села, и я его любила, как все.
– Ладно, Марта, ступай, ничего не бойся.
У Марты задрожали губы, она с сомнением взглянула на Шавлего, поднесла к глазам платок и ушла.
Шавлего оставался еще некоторое время на месте. Он рассеянно поглаживал столб навеса, с сожалением оглядывая разоренную винокурню и кучи камня, песка и кирпичей во дворе, на которых сейчас сидели с опечаленными лицами его односельчане. Потом встал, пересек виноградник и через пролом в изгороди выбрался на Берхеву…
В галерее лежала, свернувшись, коричневая ищейка, над каждым глазом у собаки было по светлому пятну – казалось, у нее две пары глаз. Ищейка завиляла хвостом, встряхнула длинными ушами, обнюхала ботинки Шавлего. Потом, подобострастно изгибаясь всем туловищем, подползла к нему.
Шавлего постучал в дверь и, не получив ответа, вошел в комнату.
Занавески на окнах были не раздернуты, в комнате стояла полутьма, как в горах после захода солнца. На столе были свалены охотничья сумка и патронташ, Холодно поблескивало стальное дуло ружья.
На кровати спал лицом вверх человек. Одна рука, согнутая в локте, лежала у него на груди, другая свесилась до полу. Поза у него была такая неудобная, неестественная, что на первый взгляд он мог показаться мертвым.
Шавлего отдернул оконные занавески и подошел к постели.
Лицо у охотника было невероятно усталое, изможденное; Шавлего стало даже жалко его будить. Щеки заросли не бритой с неделю щетиной, рот был приоткрыт, спящий тяжело дышал.
– Како!
Спящий не пошевелился.
– Како! – позвал Шавлего громче. – Слышишь, Како!
Он подождал немного, еще прибавил голоса и потормошил охотника:
– Како, проснись! Встань на минуту – поговорим.
Он даже усомнился на мгновение – может, и этот испустил уже дух. Потом тряхнул его покрепче и гаркнул во весь голос.
Охотник открыл глаза, долго бессмысленно смотрел в одну точку, потом поднял взгляд на Шавлего, явно не узнавая его, и веки его сомкнулись – он опять заснул.
Преодолев жалость, Шавлего снова крепко тряхнул охотника, ухватив его за ворот телогрейки, потом взял за плечи и посадил на постели.
Тут Како наконец разлепил веки, обвел комнату почти невидящим взглядом, растерянно посмотрел на Шавлего, вздернул брови, затряс головой и зевнул – долгим зевком, как его ищейка.
Редко приходилось Шавлего видеть человека, усталого до такой степени. Охотнику едва удавалось прямо держать голову.
Шавлего пододвинул себе стул.
– Очнись, Како, встань, я к тебе на минуту, Жалеть надо Реваза, а ты еще успеешь поваляться и поспать.
Како спустил со вздохом ноги в сапогах на пол. Одеревенелыми распухшими пальцами он с трудом достал из пачки папиросу.
И перед Шавлего развернулась картина трагедии, разыгравшейся в горах.
– На этой горе обвалы и лавины – самое обычное дело, До самой вершины взбегает крутой, голый, щебнистый склон. Снегу на нем удержаться трудно. Как выпадет его метра на два, на три толщиной – тут он и оторвется, и покатится лавиной по склону, сметая все на своем пути, и, наконец, ляжет в ущелье Белого ручья… Бывает, от выстрела отрывается, а иной раз – и просто так. Может, Реваз и не стрелял…
Спустился я с Гортмагали и иду по ущелью. Смотрю – из снега торчит что-то темное, примерно на пядь вышиной. Резко так выделяется на белом. Сначала я подумал – ветка. Потом удивился: вижу – блестит. Пес побежал туда. Трижды обошел вокруг, взлаял раз-другой и завыл. Тут я заинтересовался, подошел поближе. И сразу мне стукнуло в голову: не иначе, как Ревазово это ружье. Другого такого ружья я во всей округе не знаю. И еще потому я о Ревазе подумал, что трижды встречал его в тех местах. Как-то раз он пошел на раненого медведя с одним кинжалом. Хорошо, я успел выстрелить, всадил зверю пулю в самое ухо, вышиб из него дух. А Реваз тогда бог знает как рассердился, велел мне не путаться не в свое дело и вообще близко не подходить, когда он охотится… Ну, я и держался от него подальше… Целых полтора месяца нигде его не встречал.
А теперь – это ружье…
Достал я кинжал, стал раскапывать снег. Рыл до полудня.
Первой показалась застывшая на прикладе рука. Она была черная. Нет, не черная, а синяя, с красным отливом. Тут мне стало совсем не по себе. Я заторопился, всего меня залило потом, и наконец откопал его, разгреб снег, отодрал намерзший лед… Он сидел, поджав ноги. Левая рука с ружьем уперлась локтем в камень, правая поднята вверх – видно, бедняга думал защититься от лавины или остановить ее… Ладонь вся разбита, кожа содрана… Тяжело было смотреть.
Ноги у него вмерзли в лед. Вырубая их, я сломал кинжал. Но все же в конце концов отодрал беднягу от камней и льда…
Пошел я оттуда по ущелью и к ночи добрался до верхней кромки леса. Трудно было тело нести, и ружье я никак не мог высвободить из его рук. Положил я его, такого, как был, и развел огонь… Пес от страха все повизгивал и жался ко мне.
Всю ночь я не смыкал глаз. Хорошо еще, были у меня папиросы.
Когда рассвело, я был такой усталый, что едва смог подняться на ноги. Долго сидел, смотрел на него. Ох и тяжело же было…
Когда потеплело, лед у него на бровях растаял, вода стекла в глаза, а оттуда просочилась через ресницы и побежала каплями по щекам. У меня волосы дыбом встали: показалось, что покойник плачет… Оплакивает себя, свою беду… Я вскочил и убежал.
Потом, вернувшись, я уже не мог смотреть ему в глаза. Рука у него за это время чуть мягче стала, я кое-как высвободил ружье и снова взвалил труп на спину…
День был солнечный, и он понемногу оттаивал. Обмяк, немного раздулся и стал тяжелей.
Потом, среди дня, изо рта у него пошла пена. Какая-то розовая. И он стал очень тяжелым. Приходилось часто останавливаться, отдыхать.
К вечеру я донес его до Пиримзисы и там положил в хижине косарей… Только оставаться около него я не мог – вышел из хижины и развел огонь на дворе.
Эту ночь я тоже не смыкал глаз. Собака все лаяла и подползала к костру. Может, чуяла хищника неподалеку.
Еще тяжелее прежней была эта ночь. И папиросы, как на грех, кончились…
Наконец, едва на востоке посветлело, я в последний раз взвалил беднягу на плечи и пошел дальше. К утру доставил его к матери…
Шавлего сидел в молчании – он был весь скован холодом, как тот труп, о котором ему рассказывали.
Охотник зажигал одну папиросу за другой. В одну затяжку выкуривал ее до половины. С тяжелым вздохом выпускал струйками дым изо рта и ноздрей. Шавлего встал.
– Ну, ложись отдыхать, Како. – Выспись хорошенько и, когда проснешься, приходи в сельсовет к Эрмане.
Он вышел из дома и присел во дворе.
Похоже, что все так и было, как рассказал Како.
Эрмана запаздывал.
Перевалило за полдень.
Да, пожалуй, правду сказал охотник.
Наконец показалась машина.
Шавлего встретил старшего следователя Хуцураули за калиткой. Не дал ему войти в дом, попросил сначала произвести вскрытие.
– Я знал, что вы сюда приедете. Человек на ногах не стоит от усталости. Надо его пожалеть. Пусть отдохнет…
Когда они вошли в комнату, где лежал покойник, Шавлего содрогнулся – так страшно изменился Реваз. Красивое, мужественное лицо распухло, превратилось в заплывшую безглазую маску. Тело вздулось горой, одна рука совершенно почернела.
В комнате стоял тяжелый дух.
Обезумевшая от горя мать по-прежнему ползала на коленях около тахты; прижималась увядшими щеками к телу сына, гладила иссохшей рукой его распухшие пальцы и лицо.
Не выдержав этой тяжелой картины, Шавлего пошел к дверям.
– Не хотите присутствовать при вскрытии?
Шавлего отрицательно покачал головой.
– Я буду присутствовать.
Шавлего узнал голос дяди Сандро. Чалиспирский доктор стоял в головах покойника и внимательно разглядывал тело.
– Попрошу всех выйти. Мать покойного уведите, пожалуйста, в другую комнату. Побыстрей! Позаботьтесь о несчастной женщине, видите – она чуть жива. – Следователь дождался, пока комната опустела, и запер дверь изнутри.
Шавлего снова направился к разоренной винокурне и присел под навесом. Подняв с земли сухую ветку, он долго, опустив голову, чертил ею непонятные фигуры на земле.
«Умер, покинул мир человек. Мы не очень-то интересовались его повседневным житьем-бытьем, зато сразу бросились раскапывать причины его перехода в небытие. Усердно – сочувственно или равнодушно, но усердно – их исследуем. Что же нас все-таки интересует? Зачем все это? Главное – что его уже нет. И никакие наши розыски не изменят этого факта. Мы убеждаем самих себя, что наказание виновных будет острасткой для других, что мы предотвратим повторение подобных случаев… Со спокойной совестью назначаем соответствующую кару и возвращаемся домой в непоколебимой уверенности, что честно выполнили наш человеческий долг. А человек… Неужели только это и есть человек?.Что превращает говорящее двуногое в человека? Духовная культура, которая выявляет в нем совершенный человеческий образ?.. Вот теперь принято отдавать детей одновременно в простую и в музыкальную школы. На детские плечи ложится двойной груз. Для чего это делается? Потому что в каждом из них заключен будущий Моцарт, Бетховен или Палиашвили? Нет! Музыка очищает душу маленького двуногого, оставляет в ней меньше места для злых чувств…»
Доктор вышел из дома не скоро.
Он сел рядом и устремил долгий взгляд на погруженного в мысли Шавлего. Потом, не дожидаясь вопроса, начал:
– Несчастный случай. Никаких следов физического насилия не обнаружено. Я сам обследовал все тело сантиметр за сантиметром. Никакого пулевого ранения. Никакой травмы. Следы кровоизлияния в легких являются результатом удушья. Погибший задохнулся под снегом. Это вполне возможно, если снежный слой достаточно глубок. Во внутренних органах – в сердце, в печени, в кишках – не обнаружено никаких изменений. Если, конечно, не считать признаков гниения и разложения. Картина ясная: несчастный случай. Бедняга оказался жертвой снежного обвала во время охоты… Очень мне жалко парня… Сейчас его приведут в порядок, он примет вполне приличный вид. Когда будете хоронить?
– Не знаю. Надо посоветоваться с другими… Разве Илья Чавчавадзе не был гением, дядя Сандро?
– Какое отношение, юноша, имеет к этому событию Илья Чавчавадзе, независимо от его гениальности?
– Третьего дня я слушал болтовню одного пьяницы… Он разглагольствовал об эрозии. Но разве пьяницы могут остановить эрозию?
– Непонятны мне твои речи, юноша. Сначала Илья Чавчавадзе, теперь эрозия. Темно. При чем тут все это?
– Вы правы, дядя Сандро. «В самом деле – при чем тут наш старый Петрэ?» – как сказано у Ильи Чавчавадзе.
Врач изумленно смотрел на молодого человека.
Русудан молча ела суп. Губы ее едва касались ложки. Временами она украдкой вскидывала взгляд на Закро, сидевшего против нее, и всматривалась в красноватые мочки ушей.
Уже порядком оправившийся борец усиленно работал челюстями, с аппетитом разгрызая мозговые кости. И большие мочки исполняли ритмичную пляску в такт мерному движению челюстей.
Под этот завораживающий танец Русудан мерещилось совсем другое: образ молоденькой девушки, прильнувшей к гробу Реваза.
Как, когда появилась Тамара? Говорили, что отец принял меры предосторожности, заранее увез ее в Пшавели, к тетке. Но вот она ворвалась в комнату и упала на пол около гроба – раздавленная горем, исхудалая, жалкая. Лицо – белое как полотно, точно всю кровь выпустили у нее из жил. Она горестно причитала и билась головой о край гроба. Распущенные волосы ее рассыпались по груди покойника, она покрывала поцелуями это уже ставшее добычей тления, но такое близкое и любимое лицо, эти большие, грубые, но такие милые ей, полные нежности руки. Она прижималась щекой к его щеке, словно пытаясь перелить остаток тепла из своего изможденного тела в его оледенелую, бездыханную плоть. Она шептала любовные слова, все снова и снова ласкала и целовала мертвеца и орошала его жгучими слезами, точно хотела растопить лед смерти, сковавший его.
Всех потрясло ее горе – вздох, похожий на стон, вырвался из груди множества людей, находившихся в комнате, женщины зарыдали, запричитали, громкие жалобы и плач вырвались наружу через распахнутые двери; мужчины отвернули друг от друга лица, чтобы подступившие к глазам слезы не выдали их слабость перед соседями.
Нико пробился через толпу и с трудом оторвал от гроба свою единственную дочь…
Дважды выскальзывала из его рук Тамара, дважды снова бросалась к гробу погибшего жениха.
Наконец Нико, хмурый, с каменным лицом, подхватил ее на руки, как ребенка, спрятал у себя на груди ее осунувшееся, ставшее таким маленьким лицо и унес ее.
И все же Тамара потом опять ускользнула от него.
Она прибежала, задыхаясь, на кладбище в последнюю минуту. Хваталась за веревки, пыталась спрыгнуть в могилу. Потом уцепилась за ручку гроба, не давала опустить его в землю. Умоляла всех жалостным голосом: «Мне без него жизнь не в жизнь. Я все равно теперь долго не протяну. Положите меня с ним, засыпьте нас вместе сырой землей…» Проклинала родного отца, проклинала день своего рождения…
Даже могильщики – безбородый Гогия и полыцик Гига – смахивали с глаз невольные слезы.
Потом голос изменил ей, она вся поникла и упала как подкошенная на гроб, обхватив его тонкими, бессильными руками.
Двоюродный дядя Тамары, Георгий, испуганно подхватил девушку, оттащил в сторону и с трудом привел ее в чувство…
Ритмично двигались мочки ушей, а Русудан все вновь и вновь переживала потрясение, испытанное ею при виде этого жуткого торжества любви над смертью. Все слышала, как с глухим стуком колотилась о гроб маленькая, красивая девичья голова.
Никогда, никому, ни по какому поводу не завидовала Русудан. Но сейчас… Эта маленькая девушка оказалась сильнее ее. Гораздо сильней. Неизвестно, верила она или нет, что Реваз совершил все приписываемые ему преступления. Во всяком случае, отец мог убедить ее в чем угодно, он имел над нею необычайную власть. И все же… И все же любовь взяла свое. Сердце взяло свое. Сердце обмануть нельзя. Тот, кто попытается обмануть сердце, не уйдет от вечной кары… Закро был хороший, очень хороший. Русудан не могла представить себе, что в этом неотесанном увальне таится столько нежности, столько чуткости и понимания. Он любил жену до самозабвения. Скажи Русудан одно слово – и он отправился бы в лес безоружным, чтобы подоить медведицу… Но все же это был не тот… Это был не тот… О нет, не тот… Тот был в белой чохе и с белой буркой на плечах, он сидел на белом коне, и от громкого ржания его скакуна дрожали в страхе все эти мелкие людишки. Сказочно? Что ж, все наше пребывание в этом мире похоже на сказку. Создатель, природа – не все ли равно, как назвать, – дали нам столь малый срок пребывания на этой земле, что нужно торопиться получить свою долю прекрасного из того, чем она богата. И если счастье не дастся тебе без усилий, создай себе его сам и живи и радуйся… Но Русудан слишком хорошо знала себя и понимала, что никогда больше ее коса не свесится из окна замка и что никто уже не поднимется на башню по этой шелковой косе…
И никогда, никогда больше не полетят наперекор вихрю золотогривые, крылоногие скакуны…
Закро поднял голову и нечаянно увидел, как втихомолку скатилась по розовой щеке молодой женщины притаившаяся в уголке глаза единственная слеза.
Но он не подал виду, что заметил что-либо. Взял свою подчищенную тарелку и направился к печке, на которой стояла кастрюля с едой.
– Так хорошо, так вкусно ты готовишь, что вот – уже третий раз добавку беру.
Глухо, словно издалека, донесся его голос до Русудан. Очнувшись от своих мыслей, она проглотила ложку остывшего супа.
На дворе жалобно визжал поросенок.
Закро обрадовался подвернувшейся теме для разговора.
– Слышишь, опять визжит. Вечереет, стало прохладно, и он, видать, застыл. Вот кончу есть и выйду к нему. Выхвачу вилами охапку сена из стога, что за виноградником, и подстелю бедняге. Дешево достался нам этот поросенок, да какой поросенок – целый кабанчик. Вот поем и выйду, а то ведь, знаю, всю ночь будет плакаться, заснуть не даст.
Закро сел на свое место, за стол, и поставил перед собой тарелку.
И снова завораживающе задвигались мочки его ушей, и под их ритмичный танец воображение нарисовало перед Русудан новую картину: на этот раз большую руку Шавлего на обнаженной, красивой груди Флоры… А она… Она в это время бегала вечерами и даже во время коротких дневных перерывов по магазинам, обошла каждый уголок Тбилиси, разыскивая для него подходящие рубашки…
Ну ладно, в тот раз… в тот первый раз… Пусть… бог с ним… пусть… Но во второй? Во второй раз Русудан уже не могла стерпеть, и… и вот результат…
Да, вот результат…
Нет! Русудан ненавидит, ненавидит, ненавидит этого человека! Пусть и он изведает горечь… вкусит яд измены. Пусть изведает до конца! Закро теперь ее муж. А мужа Русудан никому не даст в обиду. Закро будет учиться. Русудан поможет ему. Он умный, способный парень. Ему не трудно будет окончить заочный. Заодно будет работать в колхозе… Русудан добьется, чтобы он стал самым первым, самым лучшим в Чалиспири… А потом – что мешает ей заглянуть чуть дальше в будущее? Потом – председателем… Почему бы нет? Почему Закро не стать хотя бы и председателем?..
Глаза ее заблестели так ярко, что Закро не выдержал взгляда своей жены и уткнулся в тарелку.
Тут к поросячьему визгу примешался рокот автомобильного мотора, который вдруг оборвался перед их калиткой.
Закро прислушался, перестал есть.
Калитка хлопнула. Во дворе послышались шаги. Кто-то поднялся по лестнице, прошел по балкону. Дверь отворилась, и показалась огромная голова Валериана. Лицо у него было радостное, сияющее. Близко посаженные глаза излучали торжество. Рот был растянут до ушей, и зубы, оскаленные, как у взнузданной лошади, ярко блестели.
– Закро! Русудан! У Кето мальчик! Мальчик! Кето родила мальчика! Я знал, что вы обрадуетесь, и сразу помчался к вам. Мне его не показали, даже близко меня не подпустили. Собирайся, Закро, поедем. Тебя они там уважают, тебе покажут. Вставай, чего ты мешкаешь? Если я малыша сейчас не увижу, с ума сойду. Я на машине Серго приехал. Она тут, внизу. Поднимайся. Туда и получаса пути нет – за двадцать минут докатим до Алвани. Ну, чего ждешь?
Закро чистосердечно обрадовался тому, что Кето благополучно разрешилась и что у нее родился мальчик. Он встал и так основательно потрепал счастливого отца за ухо, что Валериан даже усомнился в безобидности его намерений.
Увидев, как изменилось выражение лица у гостя, Русудан невольно улыбнулась.
Закро был на седьмом небе от радости.
– Что скажешь, Русудан? Если я оставлю тебя ненадолго – поеду и сразу вернусь? Посмотрим, что за мальчик. Может, совсем и непохож на этого непутевого!
– Что? Что? Как это – непохож! Да все там говорят: так, мол, похож на отца, словно изо рта у него вывалился.
– А когда вернусь, тогда и подстелю сена поросенку. Что скажешь, Русудан?
– Поезжай, конечно, Закро. Кето очень тебе обрадуется, А за поросенком я сама присмотрю. Садись с нами за стол, Валериан, будь гостем. И Серго позови.
– Нет, что ты, Русудан, разве я усижу сейчас… Мы лучше поедем и живо вернемся. Ну, Закро, пошли. А может, и ты с нами, Русудан?
– Нет, мне сейчас ехать нельзя. Разве я могу так – к молодой матери с пустыми руками?
– Кето ничего не нужно, у нее всего вдоволь. Ни в чем никакой нужды не испытывает… И в машине место есть.
– Поезжайте вы, Валериан, а я потом, в другой раз, ее навещу. Так, ни с чем, я не могу ехать.
Закро обернулся в дверях.
– Вот досада! Ах, какой пес у нее пропал! Я все надеялся, что вернется. Одичал, как видно, не находя меня дома. А может, и пристрелил кто-нибудь. Хочешь, приведу от вас Мурию и привяжу на балконе, у лестницы?
– Поезжай, Закро. Ничего не нужно, не беспокойся. Не такая уж я трусиха.
– Ну ладно, Русудан. Постараюсь вернуться поскорей.
Зять и шурин поспешно, грохоча каблуками, сбежали по лестнице.








