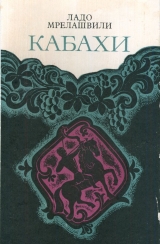
Текст книги "Кабахи"
Автор книги: Ладо (Владимир Леванович) Мрелашвили
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 51 (всего у книги 62 страниц)
После той ненастной ночи, со снегом и дождем вперемешку, настали погожие дни. Солнце светило в окошко, перед которым стояла тахта. Здесь всегда было тепло. Флора сидела часами у окна и смотрела на сад, спускавшийся до каменной ограды, за которой тут же, вплотную, пролегала дорога. Сидела и следила взглядом за каждым случайным прохожим до тех пор, пока тот не скрывался вдали, за крепостью на горе.
Лишенные листвы, оголенные деревья казались ей такими же заброшенными и отчаявшимися, как она сама.
Внизу, под горой, село жило своей жизнью, пользуясь каждым днем, часом, минутой, чтобы урвать удовольствие где и как только возможно. Радовалось, смеялось, хлопотало, суетилось. Непрерывный гул шел оттуда, и волны его ударялись об ограду этого уединенного, притихшего сада. А она, Флора, измученная однообразием дней, бегущих один за другим, чувствовала себя так, будто ее выбросило в лодке без весел на мель посреди моря.
Спускалась она в деревню редко, и то разве что в магазин.
Продавец, красивый, видный парень, неизменно встречал Флору с преувеличенной любезностью, хлопотал, живо подбирал для нее товар – самый лучший, хорошо пропеченный хлеб, колбасу, консервы, сахар, заворачивал покупки в бумагу, чего не делал ни для кого другого, и деньги принимал со смешными ужимками – очень церемонно, рассыпаясь в благодарностях.
Молодая женщина как бы не замечала всех этих знаков внимания и потешных вывертов. Но однажды, когда Варлам стал зазывать ее к себе на склад – дескать, получен новый товар, можете выбрать, что вам понравится, она рассердилась, и из-под сдвинутых ее бровей молнией сверкнул гнев.
– Маленький деревенский простофиля! Неужели не нашлось для тебя в округе молоденьких продавщиц? А еще лучше занялся бы ты своей тупой, пестро разряженной женой. – И, упрятав кончик хорошенького, чуть вздернутого носа в серебристый лисий мех, она круто повернулась к нему спиной.
С тех пор Флора больше ни разу туда не наведывалась. И как ей это ни было трудно, однако пришлось все же заглянуть однажды в столовую к Купраче.
Какие-то подвыпившие гости тотчас же отреагировали на появление «ангела» достаточно вольными двусмысленными «хвалами». Купрача всадил в стойку длинный кухонный нож, обхватил его рукоятку своими большими руками и бросил на не в меру болтливых клиентов выразительный взгляд – такой, что они тотчас же проглотили языки.
– Приходите, когда понадобится, через заднюю дверь, сестрица. Здесь, в зале, вам не место. А еще того лучше скажите: сколько, чего и когда вам нужно – я пришлю.
– Ах, что вы, спасибо, я не хочу никого беспокоить. Приду сама, если будет нужно.
– Какое тут беспокойство. Я с женщиной буду присылать.
– Нет, нет, спасибо, я сама приду. Большое спасибо. – И она унесла в один прием провизию на два дня.
О чем бы она ни думала, в конце концов неизменно вставало перед ее внутренним взглядом то утро, когда она увидела, узнала следы Русудан перед дверью. Никогда в жизни она так не пугалась и не терялась, никогда не терзали ее так жестоко стыд и угрызения совести.
Первое, что ей пришло в голову, была хитрая, уловка: она поспешно спрятала чемодан – и вытерла тряпкой мокрые следы Русудан на пороге и на балконе. А потом долго сидела и, дрожа от холода, смотрела испуганными глазами на шрам, пролегавший вдоль лба спящего Шавлего, над самыми бровями.
Наконец Шавлего проснулся и, увидев, что в окна льется дневной свет, вскочил с постели.
– Почему не разбудила?
Он мгновенно оделся и вышел.
Не успел Шавлего спуститься по лестнице до самого низа, как Флора кинулась к окну и, прячась за занавеской, стала глядеть во двор. Она долго ждала, однако он все не показывался; наконец Флора открыла дверь и взглянула на балкон.
Шавлего медленно поднимался по лестнице, вглядываясь в следы на ступеньках. Уже на балконе, у верхней ступеньки, он долго стоял в задумчивости. Потом бросил взгляд вдоль балкона и несколько раз покачал головой. Заметив в дверях застывшую в неподвижности Флору, он посмотрел ей прямо в глаза и долго не отводил взора.
– Значит, так… – наконец пробормотал он и повернулся, ушел.
Эта картина, переплетаясь с видениями той ночи, неотступно стояла у Флоры перед глазами. Подсознательно она поняла: пришло к ней нечто большее, чем то, что вмещается в понятие «дружба», «нежная дружба». Нечто более глубокое, чем даже кровное родство. Она дышала радостью той ночи, мучилась блаженной мукой тех часов, горечь и сладость пережитого тогда примешивалась к каждой минуте ее повседневного существования. Она была молода и красива. И если она осчастливила мир, появившись в нем, то и от него, от этого мира, ей следовало, по справедливости, получить свою долю счастья, всю, до последней капли. Ту ночь – и того, с кем она была той ночью, – Флора не могла забыть ни на минуту, потому что в ту ночь «Како совершил кражу».
Иногда она остро чувствовала, какой разлад внесло ее появление в совместную, полную такого согласия жизнь двух близких друг другу людей, и тогда угрызения совести терзали ее особенно сильно. В такие минуты она принимала решение немедленно устраниться, убраться отсюда. Но стоило ей дойти до калитки, как непонятная, непреодолимая сила возвращала ее к этой тихой ночной пристани.
Все остальное время она только ждала – ждала, что наконец придет Он.
А когда Он вдруг появился, Флора успела лишь бросить на него беглый, мгновенный взгляд. Застыла на месте, растеряла все мысли, онемела, и Он повернул назад, ушел, оставив ей лишь воспоминание о глухом звуке тяжелых, удаляющихся шагов на лестнице.
Этот глухой звук шагов до сих пор отдавался у нее в ушах. Так же ясно, как в тот день, когда она их услышала. Воспоминание это переполняло ее душу и тело. И когда днем доносился до нее какой-нибудь шум, она тотчас же бросалась к окну, выходившему на балкон. А когда ночью деревья или забор стонали под порывами зимнего ветра, она прислушивалась затаив дыхание, полная напряженного ожидания: не скрипят ли это под ногами желанного гостя половицы на балконе…
«Я был когда-то жрецом в Вавилоне; Утнапиштим – мой предок по прямой линии…»
Неужели кто-нибудь в самом деле верит в подобные вещи? Но Флоре приходилось слышать, что если очень хочешь кого-нибудь видеть, очень, очень, очень сильно хочешь, то желание твое может исполниться – ты свидишься с этим человеком.
О как хочет этого Флора! Всей душой, всем сердцем! Как она жаждет вновь услышать глухой звук медленных шагов – шагов, отдающихся в ее сердце и во всем существе. И… О боже! В самом ли деле слышит она или ей чудится? На лестнице раздались шаги. Кажется, ступенька скрипнула. Нет, не кажется, а действительно скрипнула. Снова шаги. Еще и еще. Потом все стихло. Но вот снова… Это Он! Боже, не дай сойти с ума! Только бы не потерять дар речи, только бы не отнялись руки и ноги. Хоть бы хватило силы встать, заговорить, обвить его шею руками… Замереть в сильных объятиях, растаять, сгореть… Боже, он наверху… Прошел по балкону… Открывает дверь… Боже!
Флора прижала руки к бешено бьющемуся сердцу, затаила дыхание и медленно открыла крепко зажмуренные глаза.
В дверях стояла Русудан. Изменившаяся, бледная и какая-то далекая, чужая.
Флора замерла на месте, кровь застыла у нее в жилах, руки и ноги заледенели, покрылись гусиной кожей. Взгляд Русудан, полный презрения и еще чего-то, похожего на жалость, словно хлестнул, обжег ее.
Русудан стояла, прислонившись к дверному косяку. Она похудела, вид у нее был измученный, и все же она была по-прежнему удивительно красива. Высокая грудь, тонкая талия, стройные ноги, точеное лицо, прекрасные темно-каштановые волосы и глубокие черные глаза. Она была так же привлекательна сейчас, как в самые счастливые свои времена.
Долго, молча смотрела Русудан на подругу. Потом горько улыбнулась и покачала головой:
– Несчастная… Куда более несчастная, чем я…
Пятясь под этим уничтожающим взглядом, Флора отступила до самой тахты, села, вся сжалась, притулившись в уголке, и снова крепко зажмурила глаза. От страха и стыда у нее как бы отнялся язык. Долго сидела она так – сидела, ожидая чего-то…
Прошло бесконечно долгое время – быть может, год. Два. Три. Или десять лет.
Когда Флора раскрыла глаза, Русудан не было в комнате. Вместо нее она увидела Шавлего.
Он, по-видимому, вошел так, что она не услышала, и теперь стоял перед тахтой, устремив взгляд на девушку.
Флора вся задрожала, сжалась еще больше и закрыла лицо руками.
С минуту она не шевелилась. Потом чуть раздвинула пальцы, поглядела сквозь них… нет, видение не исчезло. Это был в самом деле Шавлего – статный, гордый, красивый. Он стоял перед Флорой и смотрел на нее хоть и сочувственно, но сурово.
Господи! Что с ней сегодня творится! Неужели она больна? Или все это – плод воображения возбужденного, изголодавшегося по впечатлениям мозга? Нет, это не галлюцинация, это Шавлего во плоти – повелитель ее земного ада…
Свежие розовые губы девушки зашевелились и чуть слышно прошептали:
– Шавлего…
– Где Русудан? – сухо спросил Шавлего.
Флора вдруг ослабела, понурила голову, ссутулилась. Неужели это в самом деле Шавлего, неужели это вправду он? Боже, какое счастье! Какое безграничное счастье! Он все-таки пришел. Пришел к ней! Сейчас она обовьется вокруг него, так прильнет, что и клещами не оторвешь. Да, она прижмется к его широкой груди, кошкой свернется у него на руках и, как в ту ночь, в ту украденную ночь, снова, не колеблясь, бросится в адский огонь.
Флора выбралась из своего угла, подошла с видом провинившейся собаки к Шавлего и робко подняла на него свои затененные длинными ресницами, полные преданности глаза.
Столько чистоты и тонкости придали ее чертам перенесенные муки и сомнения, душа ее так перегорела и возвысилась за минувшие дни, столько любви и покорности светилось в этих больших, прекрасных, детских глазах, что Шавлего изумился. Около ее ноздрей и на переносице еще можно было заметить почти стершиеся веснушки, но вся нежная кожа лица была такой белизны, как цветок горного рододендрона в августе.
Флора не сводила умоляющего взгляда с Шавлего. Без единого слова, тихо, медленно встала она, вся трепеща, приблизилась, обвила руками сильную, несгибаемую шею и прижалась к нему по-кошачьи.
– Где Русудан? – еще раз холодно спросил Шавлего и отвернул лицо, уклоняясь от прикосновения дрожащих губ, что тянулись к его губам.
Флора оперлась круглым, нежным подбородком о его плечо, еще тесней обняла его шею, и… внезапно сердце у нее словно остановилось. Ледяной холод ударил ее в лоб, пронизал мозг до самого затылка, спустился по спине и сковал грудь. В дверях стояла Русудан – живая, а не призрачная – из плоти и крови.
Шавлего осторожно взял обеими руками руки молодой женщины, обхватившие его шею.
Флора вздрогнула, широко раскрыла вспыхнувшие огнем глаза, зажмуренные было от страха.
Русудан прислонилась к дверному косяку, чтобы не упасть. Обескровленные губы ее зашевелились, и Флора явственно услышала тихий шепот:
– Несчастная… во сто крат несчастнее меня… – Русудан схватилась рукой за сердце, повернулась и ушла, словно растаяла в воздухе.
Флора почувствовала, как заледенела с головы до ног.
«Како совершил кражу!»
«Како совершил кражу!»
И одно связалось, переплелось с другим.
Явление.
Призрак.
Видение.
Галлюцинация…
Шавлего испугался: что с Флорой, уж не стряслось ли с ней чего-нибудь? Он бережно снял со своей шеи ее внезапно ослабевшие руки и спросил, на этот раз громче и отчетливей:
– Флора, где Русудан?
Молодая женщина упала на тахту, голова у нее откинулась назад.
– Ушла… Давно уже.
Шавлего постоял еще немного, задумчиво глядя на дрожащие руки Флоры, которые все еще держал в руках. Мягкие, нежные женские руки с атласной кожей, с длинными, красивыми пальцами. Потом выпустил их, взял молодую женщину за щеки, крепко поцеловал в губы и быстро вышел.
Долго сидела Флора с путающимися мыслями и безумным лицом, устремив неподвижный взор в пространство. Она вдруг почувствовала себя никому не нужной, лишней на свете. Жалость к самой себе охватила ее, и жгучие слезы заструились по бледным щекам.
Закро сидел на верхней ступеньке лестницы, обхватив руками высоко поднятые колени, и, опершись о них подбородком, в тишине наслаждался мягким теплом февральского солнца. Словно перезимовавший медведь сидел он перед своей берлогой, заново, как бы впервые, впивая все впечатления жизни и картины мира, полный жадного желания жить. Могучий организм взял свое. Закро с каждым днем наращивал истаявшую плоть, восстанавливая прежние силы и здоровье.
Вернувшись из больницы, он поселил у себя молодоженов – Валериана и Кето, – не отпустил их. Да и сама Кето не захотела оставить его одного. Валериан не знал, как угодить Закро: засматривал шурину в глаза, стараясь угадать его желания. Ходил к Купраче, приносил особо отобранные свежее мясо и другую провизию. Перекопал сад и огород, починил покосившийся забор, укрепил дверь, соскочившую с петли, и подрезал фруктовые деревья во дворе. Правда, кое-где он отсек как раз плодоносные, нужные ветви, но все же, по мере своего разумения, постарался сделать что-то приятное Закро. Подрезку лоз в винограднике хозяин не захотел ему доверить – взял кривой виноградарский нож и вышел сам поработать. Однако выздоравливающий едва дотянул до половины первого ряда – ноги еще плохо держали его, нагибаться и разгибаться над каждым кустом было невмочь недавнему богатырю, – у него закружилась голова и затряслись руки. Организм оказался обессиленным от долгого лежания и бездействия. Кето и Валериан прогнали Закро, потного, с дрожащими руками, домой.
Подрезать виноградные кусты позвали Иосифа Вардуашвили….
…И все же, несмотря на все случившееся, Закро был доволен. Он радовался, что сумел как-то «привести в чувство» отбившегося от рук парня.
В свое время сам старший следователь Хуцураули несколько раз посетил Закро в больнице и настойчиво упрашивал сказать, кто его ранил. «Да я не знаю его», – было единственным ответом Закро. И из Купрачи ничего не удалось вытянуть. Не выдали Валериана и остальные.
Милиция тем не менее установила личность виновника. Но Закро упрямо твердил: «Нет, это не он!» Борец забрал себе в голову, что должен отомстить Валериану сам. Он понимал, что вмешательство милиции оградит от него обидчика.
А потом Бакурадзе поставил на ноги всех друзей борцов, нашел чуть ли не под землей упорно скрывавшегося рыболова и приволок его, изрядно помятого, в палату к Закро.
Появление названой сестры внесло жизнь в огромный пустынный дом Закро. В комнатах стало красиво и уютно, каждая вещь нашла свое место, двор стал чистым и прибранным.
Дом стоял на прекрасном месте, на берегу Берхевы. Отец Закро строил его с заботой и любовью и участок выбрал удачный. Он был председателем Чалиспирского сельсовета.
Отец!
Большой, рослый, добрый! Как он любил своего маленького Закро! Вернувшись домой вечером с работы, он первым делом подзывал сына. Подхватив мальчика на руки, подбрасывал в воздух, ловил, целовал в обе щеки. Потом хватал за ноги у щиколоток, говорил: «Ну, держись!» – и кружил, приговаривая: «Гей, гей, мой малыш!» Потом, бывало, опять расцелует его, поставит на землю и вытащит из кармана пригоршню конфет в пестрых обертках.
Отец, его рослый, сильный, добрый отец…
Однажды ночью его увели… Сказали, что он вызван в Телави по делу. На следующий вечер явились другие. Перерыли весь дом… Отец с тех пор не возвращался.
В деревне шли всякие толки; поминали недобрым словом Злыдня.
Закро как-то вечером подстерег хромого в проулке, разбил ему камнем голову и убежал.
С тех пор прошло немало времени… Два года тому назад Закро похоронил мать и остался в огромном доме среди просторного двора, наедине с кудлатым сторожевым псом.
Все стало немило парню.
Сад и виноградник одичали, двор зарос.
Пес стал неласковым, озлился.
Только и осталось у него что борьба… И еще Русудан.
И наконец – одна только Русудан.
«Русудан, девочка, Русудан!»
Сначала Хатилеция отравил ему душу подозрением; вторая капля яда исходила от самой Русудан. А потом, гораздо позднее, он сам, своими глазами, видел, как нежно, тихонько пробирались по крепкой, загорелой шее длинные красивые пальцы. Сколько любви чувствовалось в этой как бы случайной ласке…
Ох, Русудан, Русудан!
Закро незаметно повернул голову и посмотрел на молодоженов. Издали приглушенно доносился до него их разговор.
Сияющая счастьем медсестра уверяла своего рыболова, что у них непременно родится мальчик.
– Знал бы ты, какой он шалун! Все время ерзает, дрыгает ножками. Вот. Вот и сейчас… Послушай-ка…
Валериан воткнул лопату в грядку и присел на корточки перед выпяченным животом жены.
– Ух ты! Вот негодник!
– А ты хотел от него избавиться!
Валериан встал и снова взялся за лопату.
– Я еще разукрашу синяками рожу Варламу. Он меня с толку сбил, заладил: «Каждая медсестра…»
– Что – каждая медсестра?
– Ничего. Не хочу и вспоминать. К тому же я еще не собирался семьей обзаводиться… А потом ты меня обозлила – все ходила за мной по пятам.
– Стыдно мне было, Валериан. Что же делать – с этаким животом!
– Когда к твоему отцу пойдем?
– Подожди немного. Закро сказал, когда совсем поправится, сам помирит нас с отцом.
– А когда ко мне перейдем?
– Пока Закро бросать нельзя. Да и потом жалко будет… Он ведь и сам говорит: жениться не собираюсь – на что мне одному огромный дом?
– Эх, как же спутала все его пути-дороги эта норовистая девка! Не появись тут у нас этот жеребец, может, она бы в конце концов и пошла за Закро…
– Однажды она пришла в больницу его повидать, да врачи не пустили.
– Почему?
– В те дни никого не пускали.
Закро тяжело вздохнул, отвел взгляд от счастливых молодоженов и повесил голову.
Все это он знал, прекрасно знал, но знал также, что одной рукой не хлопнешь в ладоши. Весь мир делился на две части: по одну сторону – счастливцы, по другую – неудачники. Впрочем, из неудачников многие превращались в счастливцев… И только один Закро оставался в одиночестве в этом мире, полном солнца и счастья… Рано или поздно уйдут от него; и Кето с Валерианом. Рано или поздно этот просторный дом вновь станет пустынным. И не с кем будет словом перемолвиться – разве что с псом Барджгалой!
Русудан…
Русудан…
Скрипнула калитка, и во двор вошла Русудан. Приостановилась, посмотрела вокруг и направилась прямо к Закро… Она шла твердым шагом – красивая, гордая, суровая. Подошла и встала у него над головой. Долго смотрела она на Закро, глядевшего на нее расширенными глазами.
– Здравствуй, Закро. – Голос у нее был необычный – глухой, упавший. И сама она была странная, чужая.
– Здравствуй… Русудан, – с трудом прохрипел Закро и приподнялся.
– Я опоздала?
– То есть как… Как это… опоздала?
– Хочу остаться у тебя… Навсегда. Примешь?
– Ч-что?
– Останусь у тебя… Сегодня же. Навсегда. Примешь?
Закро словно громом сразило. В глазах у него потемнело, в ушах раздался пушечный залп. Закро зашатался, попытался встать – и не смог оторвать тело от ступеньки.
Глава седьмая
Махаре с неохотой взмахивал киркой и вонзал ее в землю. Веками враставшие в почву, соединившиеся с ней булыжники и щебень, стронувшись с места, с грохотом скатывались по крутому склону. Coco и Джимшер испытывали не больше энтузиазма, чем Махаре. Да и остальные ребята не выказывали особенного восторга.
– Придумали! Что на этих бесплодных кручах вырастет? – ворчал Дата, подравнивая лопатой края отрытой террасы. – Кто за сумасшедшим увяжется, тот и сам полоумный. Что это за выдумка – весь актив с вами объединить? Эрмане-то и горя мало, он себе тихонечко пристроился бригадиром.
И сам Надувной был изрядно не в духе. Едва все собрались, как он уже сцепился с Фирузой:
– Спрячь свою свирель, а то отниму да изломаю! Что она вечно у тебя во рту торчит, как у собаки кость!
Фируза вскинулся, бросил мотыгу:
– Если мы с моей свирелью очень вам мешаем, так я уйду.
Еле удержали его товарищи.
Они завершали уже пятое кольцо террас вокруг крепости.
Новыми, необычными выглядели эти места после того, как потрудились здесь человеческие руки. Ребята были в душе довольны плодами своих хлопот. Им лишь недоставало увлеченности, внутреннего огня. Они с трудом могли поверить, что на этой горе разрастется сад, примутся фруктовые деревья.
Садовник Фома исходил всю гору вдоль и поперек, раз десять измерил ее во всех направлениях. Ковырял землю то там, то здесь, взял пробу в двадцати местах и наконец дал свое заключение: плодовые деревья будут здесь расти, только нужно подобрать холодоустойчивые сорта, да понадобится постоянная поливка. Ветры не страшны: высокие хребты, спускающиеся к деревне с двух сторон, защищали от них склоны Чахриалы и Качал-горы.
Фома обещал Шавлего триста саженцев яблонь и восемьдесят саженцев груш, привитых на сильных подвоях. К весне саженцы могли быть уже высажены в грунт, – дядя Фома обещал свою помощь при посадке.
Сорта будут превосходные, самые лучшие: грузинский синап, турашаули, кехура, шафран, антоновка, бельфлер, белый и красный кальвиль, ренет, банан и много других, названий которых молодые люди не могли запомнить. Сам же Фома перечислял все эти названия с таким же удовольствием, с каким досужий курд, греясь на солнышке перед своей дверью, перебирает зерна янтарных четок. До весны Фома собирался подняться на Белую Речку и в Гомбори, чтобы взять в тамошнем питомнике породистые привои. А в случае, если не удастся наладить поливку, собирался скрестить привезенные горные холодоустойчивые сорта с местными засухоустойчивыми и вывести новые, пригодные для разбиваемого сада.
Общепризнанный авторитет старого садовника вселял в ребят веру в успех начатого ими дела. Несколько обескураживала их трудность работы, а всего больше угнетало исчезновение вожака и предводителя. Вот уже сколько времени они не видали Шавлего. Он был вдохновителем всех начинаний, он придавал ребятам сил в любом трудном деле и самую тяжелую часть взваливал на собственную шею, как бык в упряжке. Он примирил «актив» с «лоботрясами», объединил всю молодежь села и выковал из них огромную общую силу. И теперь эта единая сила способна сокрушить любое препятствие, лишь бы он, ее пастырь и наставник, встал во главе, повел их за собой.
Правда, Надувной твердил им, что Шавлего занят своей диссертацией, но разве он не работал над ней и раньше? Прежде это ему не мешало! Нет, тут явно дело было в чем-то другом. Вот и агронома с давних пор они не видели, – как начались работы, она ни разу сюда не поднималась. А прежде, когда осушали болото, она появлялась каждый день. Ведь и здешние места изучены и обмерены ею, и ею же составлен план работы. Но после возвращения из Тбилиси она не показывалась на горе, а с тех пор как вышла замуж… Странным, очень странным было это неожиданное ее замужество. И вызвало в деревне неприятные пересуды.
И все же ребята радовались каждому квадратному метру земли, отвоеванному от этих крутосклонов. Их не страшили уже ни сырая, пасмурная погода, ни мокрый снег, ни мороз. Многодневная работа на болоте закалила их волю и приучила их к труду.
Надувной присел на большой камень, зажал кирку между коленями и оперся об нее подбородком. Задумчиво наблюдал он за ритмической раскачкой тел работающих, за размеренными взмахами их рук. Прислушивался к сухому скрежету лопат, вонзавшихся в щебнистый грунт, к шороху скатывающихся по склону камней.
Он нагнулся, взял в руку кусок земли, растер между пальцев. Земля была коричневато-серая, с примесью извести. Шакрия растер ее еще мельче, рассеял по ладони и долго смотрел на этот серый порошок. Однако это разглядывание не вызвало в нем никаких движений души. Он не мог, как ни старался, ощутить ничего подобного чувству, которое заметил во взгляде дядюшки Фомы, когда тот точно так же рассматривал эту землю на своей ладони. Шакрия не видел ничего, кроме мельчайших частиц пересохшего ила, ничтожных остатков перегнившей листвы незапамятных времен, искрошенных веками раковин морских животных раннего мелового периода и вплетенных во всю эту массу слабых корёшков травы осенчука.
Фома держал в горсти ту же самую землю… Но по его взгляду было ясно, что он видит в этой земле что-то большее, гораздо большее, чем Надувной, Джимшер, Coco, Махаре или даже сам Шавлего. Для старого садовника эта земля была не просто соединением химических элементов, смесью различных веществ, а чем-то еще. А ведь Шакрия родился на этой земле, на ней же научился ходить, на этой земле превратился из ребенка в зрелого человека, и, однако, доныне ему не приходило в голову зачерпнуть ее горстью и растереть на своей ладони…
И даже сейчас, вот в эту минуту, когда он рассматривает вот так вблизи эту коричневато-серую пыль, он не испытывает никаких ощущений, она ничего не говорит его душе.
Надувной медленно, задумчиво просыпал землю, проводил взглядом легкое облачко пыли, подхваченное ветерком, и встал.
Он стучал киркой в твердую, как известковая кладка, землю и думал. Думать вошло у него в привычку с тех пор, как Шавлего исчез, бросил их на произвол судьбы. До сих пор ему не приходилось серьезно задумываться о чем-нибудь. Шавлего был головой – он вел, Шакрия шел за ним. Когда Шавлего садился отдохнуть, отдыхали и все с ним, а когда он принимался за дело, работал и Шакрия, не поднимая головы. Трудился Надувной – тот самый Надувной, которому некогда от одного вида орудий труда становилось дурно. Так, само собой, шло все до нынешнего дня. А теперь… Третьего дня он впервые заметил, что ребята не начинают работы до тех пор, пока он первым не ударит киркой. Без него не могли решить, взорвать или обойти стороной большой камень, встретившийся им в конце четвертого кольца. А когда он сказал, что надо взорвать, все единодушно согласились с ним.
Вчера впервые заметил он также, как мать поутру подоила корову и сама выгнала ее на дорогу в стадо. Так, конечно, происходило каждое утро, но Шакрия заметил это только вчера. И вчера же подумал, что дедушка Ило очень уж долго по утрам нежится в постели. Накануне ночью он вернулся поздно, пьяный вдребезги. Невестка с трудом раздела его и уложила в постель.
Разве что хлев, бывало, очистит старик, да и то если невестка ему напомнит. Нехотя брался он за лопату и выкидывал навоз в окошко хлева, наращивая кучу тут же, около дома. Вечно возился и хлопотал он в марани – это было его единственное занятие: здесь у него были зарыты квеври и здесь же была устроена гончарная мастерская. С тех пор как единственный сын дедушки Ило погиб на войне, старик один заботился о своем погребе. Как только в большом квеври опускался уровень, он переливал вино в другой, поменьше; когда и здесь убывало вино, наполнялся следующий по размеру квеври. Наконец доходило до маленьких кувшинов: из этих он уже не переливал, а клал в них, когда расходовал вино, чисто вымытые камни или крепко закупоренные, наполненные водой бутылки, чтобы кувшин оставался полным до верха, под самую крышку, – иначе, вино могло покрыться сверху плесенью. И все это он производил с такой охотой и радостью, так деловито, так любовно-благоговейно, как будто клал перед образами земные поклоны.
В этом году старания его окупились, небо было к нему милостиво: град обошел его виноградник стороной, так что ни один побег не оказался поврежденным. Ну, а как только забродило сусло в его кувшинах и помутнел мачари, началось гостеванье: Ванка и Миха стали у него завсегдатаями. И частенько слышались допоздна из марани стариковское хихиканье и хриплое, протяжное мычание Ванки, которое поп и его собутыльники называли пением.
Сегодня впервые Шакрия пожалел мать – высокую, худую, полную доброты и достоинства женщину. Она была еще не стара, но перенесенное несчастье-гибель мужа – и безотрадная вдовья жизнь оставили свои следы – ранние морщины на лице и седину в волосах.
Сегодня Шакрия впервые поднял голос против дедушки Ило, позволил себе упрекнуть его.
Хатилецию удивило это неожиданное нападение; он сел в постели.
– Это еще что? Значит, теперь из страха перед тобой человек не может даже заболеть?
– Ты не болен, а пьянствуешь. А весь дом везет моя мать на своей шее. Вот и вчера вернулся, еле держась на ногах. А сегодня даже не можешь встать с постели.
– Это потому, что я болен. Мне же не пятнадцать лет! Состарился я, внучек! А если иногда и промочу горло, так это чтобы горе рассеять, когда стариковские немощи допекут.
– Ну какие там немощи, разве тебя хворь одолеет? В тебе жизнь так крепко держится, как хорошо прилаженный обруч на бочке. А все-таки в конце концов придет тебе конец от этого бесконечного питья. Неужто не знаешь – вино такая штука, оно даже квеври может разорвать.
Хатилеция распялил рот в долгом зевке, как усталая ищейка; зевнув, он добавил со вкусом: «Ох-ох-ох». Потом почесал голову всей пятерней. Долго скреб затылок. А когда начесался здесь досыта, переместил пятерню на волосатую грудь, под распахнутую рубаху. Покончив с этой приятной процедурой, он еще раз со вкусом зевнул и вдруг удивленно выпучил глаза.
– Что, что? Посмотрите-ка на этого щенка! С каких пор ты стал лезть ко мне с ревизиями? Нет, послушайте, как он с дедом разговаривает! Пошел вон отсюда, молокосос, не приставай спозаранок, словно финагент какой, не то я тебя!.. Свисти, свисти, сейчас всех соберешь, знаю, свистунов у тебя немало! Нет, вы подумайте – даже болеть не позволяет! Такое вот счастье умному человеку! Прошлой осенью проходил я мимо двора Годердзи, когда старик околачивал большущей жердью орехи с дерева. Жалко мне стало этот огромный старый орешник. «Бедняга, – подумал я, – зачем тебе было столько родить, не лучше бы оставался бесплодным – не лупили бы тебя тогда по башке дубиной!» А этот… смотри-ка, лезет, проходу не дает! Не свисти, говорю!
Надувной знал, как не любит его дед, когда свистят в доме, и нарочно свистел что было мочи. Почему-то ему хотелось в это утро рассердить дедушку Ило. И рассердить по-настоящему, обидеть.
– Для молодых жизнь – игра. А мою прошлую жизнь я и жизнью-то назвать не мог. Все свои дни провел в маете да в невзгодах. И потому до самой старости я жизнь ни во что не ставил, плевал на нее, не считал ее важнее пепла из чубука. Бывало, скажет Ванка: «Выпьем, помрем – на этот свет не вернемся!» – а я отвечаю: «Плюнь тому в лицо, кому в голову придет пожелать на этот свет вернуться! Побыл я на нем один раз – и что хорошего видел?»… Только это раньше было… А теперь я жизнь так люблю, как Иа Джавахашвили своего осла… Перестань свиристеть, ты, в собачьем корыте крещенный, не то смотри, встану, изломаю твою свистульку вдребезги!








