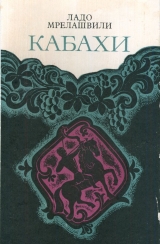
Текст книги "Кабахи"
Автор книги: Ладо (Владимир Леванович) Мрелашвили
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 62 страниц)
Рыболов бросился к воде, вымыл руки, натянул наскоро обувь и пустился бегом по направлению к деревне.
На цыпочках подбирались сумерки к Алазани, незаметно разливались по Алазанской низине. Тени стали черными, вода потемнела, галька уже не сверкала белизной, по листве карликовых ив пробежал тихий шепот. Чуть слышно доносилось издалека мычанье вернувшегося в деревню стада и щелканье пастушьих кнутов.
Задумчиво катила свои волны по широкому ложу неторопливая Алазани, ласковые струи лизали илистый берег с вкрадчивым лепетом.
Замерли в дремотном безмолвии заросли ивняка. И только шелест пробудившихся листьев осины и треск пламени, взметнувшегося над костром, нарушали молчание.
– Видно, девчонка родилась! Ну, что вы языки проглотили? – Ceрго вытащил из кармана ключ от машины и стал крутить его на цепочке.
– А не лучше ли было бы попробовать динамит на Алавердском ручье? – почесав в затылке, сказал Шалико.
– Там мы и подавно ничего бы не поймали – все заречные деревни ходят в Алаверди на рыбалку.
– А если бы хлорку да в самый ручей?
– Откуда в ручье рыба? Вот уже два-три года я рыбы там и не видел вовсе. Разве что иной раз заплывет в устье из Алазани – да и то одна мелюзга. Такую рыбешку только ситом ловить, а сквозь бредень она пролезет так же просто, как наш председатель в окошко Марты Цалкурашвилщ
– Ха-ха-ха! Хо-хо-хо! Это ты здорово сказал, Варлам! – расхохотались приятели. – Да, дядя Нико понимает толк в этом деле. Такие бедра у его крали, что хоть стол на них накрывай на большую компанию.
– А как же свекор – ничего не замечает? – усомнился Лео.
– Куда ему! От старости совсем оглох и ослеп. Как-то в поле, когда старик спал, осел Ии взревел у него над самым ухом, а он хоть бы что. Пока мы не пощекотали у него в ноздре соломинкой, даже не шелохнулся. Да и тут, не открывая глаз, чихнул три раза подряд, пробормотал «господи помилуй!» и захрапел снова.
– Хватит вам языки чесать! И нечего зря высмеивать эту несчастную Марту. Давайте лучше выпотрошим пока что рыбу, а то я так проголодался, что, кажется, живого волка и то мог бы съесть. Тоже мне рыба – сунешь в рот, меж зубов затеряется.
– Напрасно ты бранишься, Закро. Нынче в Алазани, хоть взорви ее всю от устья до верховья, крупнее этой рыбы не поймаешь. Понятное дело: река-то ведь одна, а тысячи людей в ней каждый день шарят.
– Помню, в детстве стоило мне опустить в воду кузов, как в нем уже бились хариусы в руку толщиной. А если я удочку на ночь ставил, утром на ней всякий раз болтался карп потолще моей ноги. Помнишь, Лео, как мы с тобой однажды нашли застрявшего на перекате под затонувшим деревом снулого лосося! Бедняга издох от голода и уже начал протухать, так что есть его было нельзя.
– Как не помнить, Закро, как не помнить, – поддакивал ему восторженный Лео. – Большущий был лосось! Башка на плече у меня, а хвост по земле волочится.
– Не такая уж это большая рыба – от твоего плеча до земли, – осклабился Серго.
Тут Закро бросил взгляд на сегодняшний улов, и глаза его, заблестевшие было от приятных воспоминаний, снова погасли.
– А теперь вот за какой мелочью охотимся… Не даем рыбе подрасти, оттого она и плодиться перестала. Хоть бы закон такой издали, чтобы рыба могла свободно расти и размножаться!
– Эх, делать тебе нечего, вот и заладил проповеди читать, сказал Варлам, улегшись на бок. – Рыбе не законы нужны, а хозяйская забота.
– Вот увидишь – через два-три года здесь рыбы совсем не останется, начисто изведут. А ведь алазанская рыба до того вкусная, нигде такой нет, – сказал с огорчением Лео.
– Да ну вас, ребята! – поморщился Серго. – Больше вам не о чем разговаривать? Нашли еще новую заботу. Пропадет рыба? А мне наплевать, туда ей и дорога. Пусть пропадает.
– Эх, братцы, Земля-то, говорят, существует уже сто миллиардов лет, а человек появился совсем недавно. Да и что такое человеческая жизнь? Сегодня мы живы, а завтра нас нет. Если из-за всего голову ломать да обо всем сокрушаться, от этой коротенькой жизни совсем ничего и не останется. Выжмем уж ее до конца, возьмем все, что нам дается, и будем радоваться.
– Ой, сил нет, так есть хочу! Куда это наш голован запропастился? Ушел – и поминай как звали. Давайте хоть шашлык изжарим из этой рыбешки.
– Без соли? Ну, погоди еще немного. Тот имеретин в басне терпел, пока молотили, мололи и пекли, а тебе ведь только соли не хватает. Тем временем и рыба вся будет выпотрошена…
Наконец появился Валериан. Улыбаясь во весь рот, вынырнул он внезапно из темноты. У приятелей от изумления брови полезли на лоб.
– Не узнаете? – спросил Валериан, подталкивая к костру сопровождавшую его девушку. – Подойди ближе, чего стесняешься? Это все мои друзья-товарищи. Разве ты их не помнишь?
Девушка застенчиво кивнула и поздоровалась с рыболовами.
– Так не узнаете? – снова спросил Валериан оторопелых приятелей. – Да ведь это же Кето, ребята!
– Кето? – Серго зажал в кулак ключ от машины, намотав цепочку на палец.
– Ну да, Кето.
– Кето… – скривив толстые губы, задумался Лео. Девушка застыдилась еще больше.
– Как же вы Не помните, ребята? Мы еще у нее в Алвани до утра пировали!
На этот раз все вспомнили, заулыбались и один за другим подошли к девушке, поздоровались с нею за руку, спросили, как она поживает, как у нее дома и здоровы ли родители.
Выяснилось, что и сама она поживает хорошо, и родители здоровы, и дома все благополучно.
Девушка понемногу освоилась, перестала стесняться. Она поправила на голове косынку и принялась хозяйничать. Дрова в костре перегорели в жар. Мясо было нарезано.
Рыбу вымыли, и шашлыки зашипели на раскаленных угольях.
Особенно обрадовались парни котелку, наполненному спелыми помидорами. Помидоры высыпали на принесенное девушкой блюдо, разделали и обложили сверху кружками нарезанного лука.
– Как это мы не догадались помидоры захватить? – удивлялся Шалико.
– Так вот почему он задержался, этот черт! – радовался Лео, усердно помогавший девушке в ее хозяйственных хлопотах.
Но только вино окончательно развязало языки. Объемистый бычий рог переходил из рук в руки, и сердца рыболовов понемногу раскрывались до самых потаенных уголков. Сверкала и пенилась при свете костра темно-алая струя вожделенной влаги, утоляя жажду, умягчая пересохшие глотки, растекаясь огнем по жилам.
Кучками громоздились прямо на зеленой траве вареная рыба, шашлыки на прутьях, разломанные хрустящие шоти и хлебцы. Подвыпив, приятели забыли о лопухах, что должны были служить вместо тарелок. Они рубили маслянистый тушинский сыр на толстые куски и бросали их друг другу. Тосты следовали за тостами – пили за ближнюю гору и за дальнюю, за осину над головой и за мураву под ногами, за голубые волны Алазани и за гнилой пень, что повстречался сегодня на дороге.
Не сумев утолить жажду бычьим рогом, Закро заявил, что будет пить прямо из бочонка, который и был ему торжественно подан с одобрительными возгласами, с шумом и хохотом.
Закро ухватил обеими руками двадцатипятилитровый бочонок и провозгласил здравицу за тех, чье сердце к сердцу друга тянется, кто друга любит и тоскует о нем в разлуке.
Общий рев заглушил его слова; Закро под гром аплодисментов поднял высоко над головой бочонок и подставил рот под толстую темную струю.
Шесть пар глаз с жадностью и восторгом следили за мерными движениями крупного кадыка, ходившего вверх и вниз на красном от натуги горле. А при виде пролитого вина, что, минуя богатырскую глотку, стекало двумя ручьями на могучую грудь и тонкую рубашку пьющего, сердца парней сжимались от сожаления.
Наконец у Закро задрожали руки, он медленно отвел голову и выпустил бочонок, который с размаху ударился оземь, обрызгав ему напоследок лицо и грудь пьянящим соком, выплеснувшимся из отверстия.
– За вашу удачу! – добавил Закро, тараща помутневшие глаза, и вытер рот огромной ручищей.
– Вот молодец, спасибо! – отозвался сидевший рядом Лео и протянул ему здоровенный кусок шашлыка на краюхе хлеба.
Рыболовы возгласили «ура» в честь отличившегося сотрапезника.
Закро со слезами на глазах приподнял над землей соседа, влепил ему в пухлую щеку поцелуй и взмолился дрожащим голосом:
– Песню хочу, безбожный ты человек, спой мне песню!
Шалико глянул на девушку, хлопотавшую у огня, причмокнул и затянул, не дожидаясь Лео:
Уведу в лесок тушинку,
Подстелю травы под спинку…
Но Валериан так свирепо выкатил на него налитые кровью глаза, что у Шалико сразу пропала охота похабничать.
Лео начал: «Кого люблю, той ненавистен я», и по щекам осоловелого Закро поползли капли соленой влаги, не высыхавшие до самого конца песни.
Потом Варлам лихо сощурил красивые глаза и громовым голосом предложил «Нагрянуть на Мухран-батони». Остальные поддержали его столь же громовой второй – такой, что, пожалуй, могла бы развалить крышу над головой у злополучного князя.
Долго гремела и гудела песня, долго отбивали ритм сжатые кулаки певцов, а когда все наконец умолкли, Закро снова бросил на Лео молящий взгляд.
И Лео, держа перед собой рог, наполненный до краев вином, запел, застонал:
На миг мы в этот мир пришли,
Уйдем – останутся другие…
И внезапно смолк.
Рог колебался в его дрожащей руке, и живительный сок, переползая алыми слезинками через края, потихоньку пробирался по шероховатой поверхности вниз, к заостренному концу.
Философское настроение нахлынуло на заведующего складом. Он поднял мутный взгляд – один глаз его, как говорится, глядел на Алвани, другой на Алаверди. Ему вдруг стало ясно, что ведь и в самом деле человек – всего лишь гость в этом мгновенном мире, губы его скривились.
– Что мы такое? Каждый из нас – беспомощная былинка, жалкий комочек глины, горсточка праха!
Он копнул короткими пальцами зеленый дерн возле себя, набрал в горсть земли и, подняв руку, высыпал ее тонкой струйкой.
– Шекспир сказал: земля еси и в землю отыдеши. До нас сидели на этом месте другие, так же как мы, пили вино и веселились. Как знать, может, получше нас были те ребята, покрепче и поумней. А где они теперь? Куда ушли, где обратились в прах?
Лео ткнул указательным пальцем в землю:
– Вот здесь они – никуда не ушли, тут и остались. Сгнили, распались, стали прахом, превратились в это дерево, в эти кусты, в этот песок и в эту траву!
Завскладом осторожно провел ладонью по шелковистой мураве, и голос его дрогнул:
– Кто знает, чьи это кудри, чьи уста, чья жила, что билась на руке. Когда-нибудь то же самое будет и с нами – и мы рассыплемся в прах, превратимся в такую же землю… И придут другие и будут говорить о нас то же, что мы говорим о прежних…
От избытка чувств завскладом совсем распустил толстые губы, сморщился и заплакал.
Еще у двоих из тех, кто сидел вокруг костра, глаза были застланы слезами: у Закро – от сочувствия к другу – и у девушки-тушинки – от леденящей мысли о судьбе всего живущего, так живо и картинно обрисованной красноречивым тамадой…
Остальные сидели в молчании, насупясь как сычи и тупо уставясь на истоптанную траву с разбросанными на ней остатками снеди, рыбьими костями и объедками.
Лишь когда Кето объявила, что ей пора идти, подняли они отяжелевшие головы.
Пошатываясь, встали со своих мест хмельные молодцы, сказали девушке спасибо за то, что она была хозяйкой и прислуживала им за столом, и стали с нею прощаться.
Растроганный Лео решил выразить переполнявшее его чувство благодарности поцелуем и направился к тушинке с раскрытыми объятиями, но не удержался на ногах и, вместо того чтобы чмокнуть разгоряченную от огня девичью щеку, ткнулся влажными губами под мышку бросившемуся к нему Валериану.
Девушка собрала принесенную ею из дома посуду, взяла котелок в руку, извинилась за то, что ей приходится рано уйти, и попрощалась с компанией.
Валериан пошел с нею. Остальные проводили их осоловевшим взглядом до края лужайки.
Пройдя сотню шагов по пересохшему протоку Алазани, девушка пересекла мелкий кустарник и вступила в ивовую рощу.
Тут она остановилась и повернулась к своему спутнику.
– Возвращайся, Валериан, больше не нужно меня провожать. Этот лесок тянется всего на триста – четыреста шагов, за ним узенькое поле, а к полю примыкает наш огород, там я уже дома.
– Ничего, ничего, лучше я провожу тебя еще немножко. Вон как здесь темно, тропинки почти не видно.
– Ступай назад, Валериан, у меня глаза привычные к темноте, и тропинку я хорошо знаю. В детстве я гоняла через этот лесок коров на водопой. А последнего зверя, который, тут водился, старого барсука, пять лет тому назад застрелил одноглазый полевой сторож.
– А все же душа у меня не будет спокойна, пока не доведу тебя до безопасного места.
– Не надо, Валериан, ей-богу, я не заблужусь.
– Душенька моя, и не заблудишься ты, и лесок хорошо знаешь, и зверей в нем нет, а я все-таки хочу убедиться, что ты с миром добралась до дому.
– Возвращайся к своим товарищам, Валериан, прошу тебя. А то они скажут, что ты бросил их и погнался за своей присухой.
– Пусть их унесет Алазани, моих товарищей. Мне одна минута, проведенная с тобой, дороже, чем целый век с ними.
– Ах, какой ты упрямый, Валериан!
В лесу было темно, узкая тропинка вилась среди густой заросли. С обеих сторон теснили ее травы – листья лопуха и конского щавеля, шелестели, когда платье девушки задевало за них. Гибкие ветви ив, переплетаясь между собой, нависали над тропинкой сплошным сводом. Чуть слышно шептались узкие листочки, с реки доносилось кваканье лягушек.
Вдруг девушка почувствовала, что ее обхватили и стиснули сильные мужские руки.
– Что ты делаешь, Валериан?
– Кетино! Постой, Кетино!
– Пусти!.. Котелок весь в саже – измажешь брюки и меня перепачкаешь!
– К черту котелок! К черту брюки!
Валериан увлек девушку в сторону от тропинки.
– Ой, мамочка!.. Куда ты меня ведешь, Валериан? Пусти меня, сумасшедший, слышишь, пусти! Пусти, любимый… Ох, мама, мамочка!..
Долго еще умоляла спутника девушка, заклинала его своей любовью, вырывалась, боролась что было сил, но вот со звоном покатился по земле оброненный котелок, упало в кусты расколотое блюдо… и перед взглядом тушинки в просветах густой листвы мелькнуло небо, бесстыже уставившееся на нее крупными, словно спелые плоды, золотистыми глазами-звездами…
Глава шестая
Председатель колхоза был в не очень-то радужном настроении от последних новостей. Заложив руки за спину и уставясь на кончики своих коричневых полотняных туфель, он быстрыми, короткими шагами сновал вокруг длинного, покрытого стола в своем просторном кабинете.
«Интересно, какой это мерзавец сообщил в район о вчерашней истории? Неужели Варден меня продал? Ах, собачье отродье! И передо мной виляет хвостом, и там на задних лапках пляшет… Знаю, знаю, что это за фрукт – сначала подкрадется, усыпит тебя, одурманит, а потом вдруг бросится и ужалит, как гюрза в знойной степи… Знаю, Варден, куда ты метишь, но, пока я жив, этому не бывать. Голос у тебя сладкий, но меня ты не убаюкаешь».
Дядя Нико поцокал языком и, качнув обритой головой, взглянул на стул, стоявший перед письменным столом.
«Чтобы на этом стуле кто-нибудь другой протирал себе штаны? Нет, Тедо, на это и не надейся! Второй год ходишь вокруг меня, как волк около овчарни, но я – что пес сторожевой с колючим ошейником, меня за горло не схватишь! Будет, довольно он погулял, этот рыжий шакал, натешил душеньку! Полдеревни сгрыз, дом себе построил – дай бог Чалиспири такую школу! Эй, Тедо, тому, кто хочет лазить на крутые скалы, надо крепкие кошки к сапогам приладить. А на твои жирные ноги разве что болотные бахилы впору придутся. По-твоему, я уже настолько созрел, что от самого малого ветерка с ветки свалюсь? Ошибаешься! Не пришла пока моя осень. – Да еще и до зимы, увидишь, целехоньким дотяну!»
Нико постоял у окна, глядя в задумчивости на огороженный цветник во дворе перед конторой, потом вернулся и сел за стол.
«Экая незадача, с чего это вдруг подломились полуторавершковые доски? Как будто и не такие старые… Верно, снизу подгнили от сырости. А тут еще эти чертовы корреспонденты – нанесло же их на мою голову! Напустились, как саранча, на эту ветвистую пшеницу, хотят заставить меня одним глазом смеяться, а другим плакать. И агроному покоя не дают – не поймешь, то ли эти невиданные хлеба их распалили, то ли на девку, как спелый колос налитую, не могут наглядеться! Ну, а тот долговязый просто в родичи ко мне записался. Приютился у меня, что твой погорелец!»
Председатель колхоза посмотрел острым взглядом на дверь, некоторое время прислушивался, потом встал, неслышно подошел и вдруг распахнул ее.
– Ах, вот это кто! Слава богу! Появился наконец? Соблаговолил ступить на грешную чалиспирскую землю? Что ты крутишься перед дверью, точно свинья под дубом? Почему не входишь? Стыдишься взглянуть мне в лицо? Смелей кидайся в воду, тут неглубоко! Небось как проголодался, нашел к нам дорогу?
Дядя Нико вернулся на свое место и взглядом скользнул по мешку, перекинутому у посетителя через руку.
– Что ж ты, брат, как своевольничаешь – взял и уехал, никого не спросившись! Куда? Зачем? В самый разгар жатвы, в самую страду. Да разве ты не знал, что брюхо-то опять тебя сюда приведет – так же как пролитая кровь притягивает убийцу на место преступления? На что ты надеялся – долго ли можно жить на выручку с одной тележки гончарной посуды? А и то сказать, уж очень ты быстро с нею управился. Верно, как всегда, пропил и решил опять ко мне постучаться?
Посетитель переступил с ноги на ногу и жалобно склонил голову набок.
– Назови меня бессовестным человеком, Нико, если неправду тебе скажу, – всю эту неделю я вина в рот не брал. До питья ли мне было – душа огнем горела от горя!
– От горя? – Нико сплел пальцы и положил руки на стол. – А о чем тебе было горевать? Распродал целую тележку посуды, вот уж сколько времени не показывался, а как пожаловал, так сразу с пустым мешком в контору явился! Где ты пропадал до сих пор? Может, у тебя еще был товар сверх той тележки? Знаешь наш принцип – кто не работает, тот не ест? Или ты решил, что коммунизм уже наступил, и притом для тебя одного? Зря понадеялся! От горя? О чем тебе тужить, живешь, как пташка божья, – какую ветку облюбуешь, на ту и сядешь.
Человек с мешком подошел к столу вплотную, так что уперся животом в его край, и потрогал синее сукно пальцами цвета обожженной глины.
– Была причина горевать, Нико. Приехал я на базар, и, едва успел продать пять горшков и три кувшина, как всю посуду мне перебили.
Председатель откинулся на спинку стула и обшарил испытующим взглядом чисто выбритое лицо посетителя.
– Как перебили? Где, когда?
– Бобдисхеви, на базаре.
– Кто, зачем? Эй, Ефре-ем! – Дядя Нико отклонился вбок на своем стуле. – Не старайся вокруг пальца меня обвести – я давно уже молочные зубы сменил!
Ефрем поднял голову и бесстрашно скрестил свой взгляд с испытующим взором председателя. Потом взял за спинку стоявший рядом стул, поднял и с силой ударил им об пол.
– Перебили! Пусть я высохну вот как этот стул, если не перебили все вдребезги.
– Да кто перебил?
– Кто? Ослы.
– Ну, а все-таки – кто именно? Порядочный человек такой пакости не сделает!
– Ослы, говорю тебе, ослы! Скоты посуду мне переколотили.
– Верно! Правильно! Тот, кто это сделал, хуже любого скота. Но кто ж это был, скажешь или нет? Финагенты?
– Да не финагенты, а ослы, настоящие ослы о четырех ногах!
– Отчего же Габруа ничего мне не сказал?
– Почем я знаю?
Нико пожал плечами, встал, прошелся по комнате, заложив руки в карманы брюк. Потом прислонился спиной к раме раскрытого окна и, усмехаясь, продолжал допрашивать гончара:
– Как же это вышло? Тебя там не было, что ли?
– Как не было? Где я еще мог быть? Да только ничего не мог поделать.
– Что за притча? Да что же там приключилось?
Ефрем вскинул мешок себе на плечо, чтобы высвободить руку.
– А вот что. Подошла покупательница, стала торговать у меня большие корчаги под соленья. И осла пригнала, чтобы увезти на нем посуду. Тем временем, смотрю, подходит еще один покупатель, кувшины ему нужны для воды. Почему он ногу не сломал, пока до меня добирался? А этот человек, видишь ли, тоже привел осла, верней, не осла, а ослицу. Ну, а тот, первый осел, которого пригнала женщина, оказался жеребцом. Увидел он ослицу, заревел на весь базар и – со всех ног к ней, да как вскочит на проклятую животину… Та давай крутиться, но сбросить с себя осла никак не может. И вот вдвоем, взгромоздясь один на другого, напустились они на мою посуду, и пошел звон и треск по всему базару. Схватил я дубинку, исполосовал им бока, и люди тут подоспели ко мне на помощь, да только, пока мы сумели разнять окаянных скотов, от посуды моей остались одни черепки.
Председатель бился спиной об оконную раму, объемистый живот его колыхался от смеха.
– Я подал в суд, дело назначено на вторник, будут разбирать в Сигнахи… Вот и пришлось пробегать целую неделю. А то разве стал бы я отлынивать от работы в самое горячее время?.. Ну, а сейчас… Много я не прошу, хватит и одного коди.
Председатель перестал смеяться, вытащил из нагрудного кармана карандаш и почесал тупым концом кончик носа.
– Надо бы отпустить тебя ни с чем, да уж ладно, знай мою доброту. Хотя и стоило бы тебя проучить.
Он нацарапал на листке несколько строк, расписался и, прищурясь, протянул бумажку гончару:
– На, держи. Скажешь Лео, чтобы отвесил пшеницы из той кучи, что насыпана около веялки с отломанным крылом. Здесь все написано, но ты все же напомни.
Ефрем попятился и жалостно скривил лицо. Лишь спустя минуту он кое-как выдавил из себя:
– Напиши, чтобы дали другую пшеницу, Нико. Говорят, это зерно с навозом смешано…
Председатель с силой упер крепко сжатые кулаки в письменный стол. Глаза его под нависшими бровями превратились в щелки и холодно блеснули.
– Кто это сказал?
Гончар растерялся.
– Не знаю… Люди говорят.
– Какие люди?
– Почем я знаю? – забил отбой Ефрем. – Слыхал краем уха, будто зерно в навоз просыпалось – доски, мол, подломились…
Председатель с минуту смотрел на гончара пронизывающим взглядом. Потом подошел и сунул ему бумажку в карман выношенной гимнастерки.
– Ступай скорее к Лео, а то совсем ничего не получишь. Ступай, пока я не передумал. Я тебе выписал один пуд – больше авансом пока никому не даю. Ну, чего ждешь? Отнеси жене пшеницу и давай точи серп, выходи скорей в поле.
Ефрем поколебался, хотел еще что-то сказать, но не решился и махнул рукой: знал, что председателя не переспоришь и не переломишь, хоть с дубиной к нему подступай. Он вынул листок из кармана, тщательно сложил, спрятал за отворотом войлочной шапчонки и, стараясь ступать без шума, бочком выбрался из кабинета.
– И вот что, Ефрем, послушайся меня, брось свое гончарное производство, а то смотри, узнают в финотделе – нагрянут к тебе и облупят, как крутое яичко! – напутствовал гончара председатель.
Заложив руки за спину, он снова подошел к окну и, покачивая своей большой головой, стал смотреть во двор, на липу, осыпанную белым цветом.
«Все село узнало! Ну конечно, так оно и должно было случиться. Знаем ты да я – знает и свинья. Да и как могло быть иначе – ведь народу там было более чем достаточно. Женщины сортировали зерно для сдачи и на семена. Угораздило же эту сумасшедшую провалиться! Надо послать к ней еще раз врача. Тут, оказывается, и те, что работали в сушилке, сбежались на крик… А за ними и кузнецы… Ну вот – легок на помине! Помянешь собаку – хватайся за палку. Нет, надо что-нибудь придумать, а то и правда плохи дела. Не могут кузнецы из четырех колхозов уместиться в одной кузнице. Только вот места у меня нет, черт побери!»
Кто-то, тяжело топая, поднимался по лестнице на второй этаж. Шаги приближались и у самой двери внезапно стихли.
Председатель даже не пошевелился – только повернул голову и, убедившись, что посетитель не завернул в бухгалтерию, а остановился перед кабинетом, крикнул ему через дверь:
– Входи, входи, Миндия, не бойся! В изгороди пролом, и ты не босой, на колючки не напорешься.
Дверь отворилась, показался человек в кожаном переднике и огромных тяжелых башмаках с толстыми подошвами. Он поздоровался с председателем и стряхнул с войлочной шапочки приставшие к ней блестки окалины.
– Здравствуй! Что, опять за тем же пришел? – Председатель повернулся и смерил вошедшего беглым взглядом с головы до ног.
– А я к тебе ни за чем другим не хожу! Ну да, пришел, а почему бы мне не прийти? – Миндия хмуро оглядел кабинет и остановил глаза на дяде Нико. – Кузница у нас крохотная, набились мы в нее вшестером и только мешаем друг другу. Сколько вам об этом говорено, сколько было обещаний, сколько раз на правлении ставился вопрос и даже на общее собрание выносился, а все никак не дождемся новой кузницы. Хоть эту бы перестроили, провалиться ей совсем!
От острого председательского глаза не укрылся сердитый взгляд, которым кузнец окинул просторную комнату. Нико чуть заметно улыбнулся, снова прислонился к оконной раме и начал, постукивая правой ногой по полу:
– Что делать, Миндия, конечно, ты прав, но пока мы не сумеем все наладить да привести в порядок, придется по одежке протягивать ножки. Потерпи еще немного, дай срок – уберем урожай, а там займемся и кузницей. Сейчас, сам видишь, не до нее – все горит.
– Надоело, Нико, сыт я по горло этими разговорами. Терпения моего нет – возьму и все брошу! Железо и сталь валяются на дворе под солнцем и дождем, ржа их ест. В кузнице повернуться негде, молотком не могу свободно взмахнуть, боюсь огреть кого-нибудь по голове. Хорошо еще, что погода ясная, а то, коли пойдут дожди, эта гнилая крыша нам не защита. Толь весь прохудился – дыры такие, что в каждую буйвол пролезет. Сам видел – и стены обвалились, мы уж так, насухо, камнями их заложили. Инструмент на ночь боюсь оставить, каждый вечер таскаю домой. Да и мало нас, а дела по горло! Разве нам с Торгвой вдвоем управиться? Ученики у нас ненадежные, с них спрос невелик. Люди приходят – кому мотыгу надо отковать, кому лемех наладить, кому косу отбить, или серп, или топор… А сколько еще новых надо изготовить, сколько некованой скотины подковать! Вчера у Бегуры буйвол сломал притыки в ярме и убежал – доскакал до самой Алазани. Хорошо, что он не бодлив и людей не трогает, а то давно бы проткнул Бегуру, как инжирный лист, здоровенными своими рогами. Разве такое чудище деревянными притыками в ярме удержишь? Пришел вчера вечером Бегура ко мне домой и просит помочь. Как не сковать ему железную притыку? Пильщики просят крюков, чтобы бревна закреплять, трактористам тоже тысяча всяких мелочей нужна. А от женщин так житья нет: одна тащит чинить сломанную треногу, другая – дырявый бельевой котел, третья хочет, чтобы ей новый сделали, и сколько еще разных разностей – всего не перечтешь. А тут еще подковы да гвозди на исходе – не удосужишься сделать, так будет ходить скотина необутой: зарастут у нее копыта, потрескаются, и уж потом ни подковы не приладишь, ни гвоздя не вобьешь, только и останется, что сдать на мясо в район. А дело от этого не выигрывает, дело портится и прахом идет. Да и что вы на меня одного насели? Или свет на мне клином сошелся? Разве нет больше в колхозе кузнецов? Отпустите вы меня, оставьте в покое, пусть теперь другие ломают себе голову! А ты-то всех распустил, никому ни слова. До каких пор так будет? Зазнались, задрали носы: дескать, мы ремесленные люди, нам в поле да в саду работать зазорно!.. Чего ты уперся – построй хоть какую ни на есть кузницу, да только просторную, чтобы и все остальные в ней поместились, и я мог бы свободно вздохнуть!
Председатель, повернувшись к кузнецу боком, выстукивал кончиком башмака какой-то сложный ритм и, кивая в такт ему головой, разглядывал воробья, сидевшего на сухой ветке липы за окном.
Птичка, видимо, только что выкупалась и теперь чистила перышки, копаясь клювом у самых их корешков. Временами, она встряхивалась, отчего все ее легкое оперение топорщилось и вставало торчком, и тут же снова принималась оглаживать себя клювом.
Вдруг птичка заметила устремленный на нее пристальный взгляд и, повернув головку, в свою очередь посмотрела на человека блестящим, как бусинка, глазом. Потом подняла лапку, сощипнула клювом с длинного коготка катышок сбившегося пуха, глянула напоследок на окошко и, не заботясь о том, чтобы хорошенько просохнуть, взвилась в воздух, улетела.
Нико повернул голову к кузнецу:
– Что это у Бегуры все ломается?
– Да у него же ходит в запряжке этот бешеный буйвол!
Председатель присел на край письменного стола и пробормотал про себя:
– Такое время – не то что скотина, человек взбеситься может. – Он глянул на кузнеца и предложил ему сесть. – Разве я с тобой спорю, Миндия? Только сейчас не время для этого. Прежде всего, материала у нас нет, а если бы и был-где ты возьмешь рабочие руки в эту горячую пору?
Кузнец вскочил.
– Материала нет, говоришь? Как нет – есть сколько угодно! Вон сколько извести зря пропадает. А камней и кирпича полон клубный двор.
Председатель смягчился.
– Это, скажем, так… Ну, а крыть чем будешь? Балки тебе нужны? Стропила нужны? А поперечины, а черепица? Где все это достать?
Кузнец сдвинул брови.
– Балок и стропил было свалено вдоволь у клуба. Куда они делись? Неужто не хватило бы на одну кузню? А черепицу кто растащил? Впрочем, черепицы там еще столько, что для кузницы хватит.
Нико насупился.
– Балки и стропила были времен Давида Строителя. Они уже прогнили насквозь, и прошлой зимой их сожгли в конторе счетоводы… И черепицы перебитой там целая гора… Да, много перебили… Но ты прав, на кузницу еще хватит. Черепица старая, но покрепче новой; этой черепице сносу нет. Значит, нужен еще песок… И, конечно, рабочая сила… – Он вдруг взглянул в лицо кузнецу и спросил в упор: – Где нам их взять?
Кожаный фартук зашуршал; кузнец раздвинул колени и налег грудью на стол; как молния среди туч, сверкнули на темном закопченном лице белые зубы.
– Ты дай нам строить, а людей я приведу. Да хватит и нас одних, если возьмемся всем скопом, вместе с теми кузнецами, что ходят сейчас без дела. В одну неделю подведем стены под крышу.
– Недели много, на неделю остановить горн я не могу. В такое время нельзя отрывать кузнеца от дела.
Миндия с разочарованным видом качнулся из стороны в сторону, голубоватые белки его глаз блеснули и погасли.
– Надо же подвезти материалы и песок просеять… Раньше никак не получится.
– Должно получиться.
– Очень уж туго нам придется, Нико.
Председатель снова взглянул в лицо кузнецу и сказал отрывисто:
– Под горой, пониже Подлесков, лежит куча просеянного песку – знаешь ты это?
– Как не знать! Три дня его просевали школьные учителя. Для строительства нового клуба готовили. Грохот у них был худой, так я сам его проволокой проплетал.








