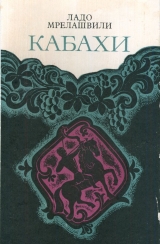
Текст книги "Кабахи"
Автор книги: Ладо (Владимир Леванович) Мрелашвили
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 62 страниц)
Затрещала изгородь, и фигура перелезла через нее на дорогу, что вела к верхней окраине деревни.
Закро шагал в гору. На дороге не было ни души. Лишь изредка раздавался в каком-нибудь придорожном дворе лай сторожевого пса, чтобы тут же умолкнуть.
Где-то запел раньше срока торопыга петух, в противоположной стороне отозвался другой. Им ответили петухи со всех концов села – с горы, из долины, с лесной опушки. Июньская ночь наполнилась воинственным петушиным кличем.
Вот уже деревня осталась позади. Закро направился к одинокому, стоявшему на отшибе под самой горой каменному дому.
Дойдя до цели, он остановился в изумлении. Ворота, обычно запертые, были на этот раз распахнуты настежь.
Долго прислушивался он в царившей кругом глухой тишине к шуму бегущей неподалеку в своем овражном ложе речки Берхевы. Двор перед домом точно вымер, – казалось, нигде поблизости нет ни единого живого существа. Чернели провалы темных окон; при свете звезд они походили на пустые глазницы слепого. За домом, в саду с вековыми деревьями, густел мрак, а рядом с опытным участком чуть шелестел старый высокий дуб.
С минуту Закро покачивался на нетвердых ногах, ухватившись за столб ворот. Потом собрался с духом и шагнул во двор.
Вино взяло-таки свое – хмель разобрал парня. От тряски в машине и ходьбы на свежем воздухе он совсем опьянел. С трудом удерживал он на весу клонившуюся книзу тяжелую голову, Закро брел по двору, выписывая ногами замысловатые кренделя, а временами останавливался и, махнув рукой, что-то невнятно бубнил про себя.
Сделав с грехом пополам шагов двадцать, он прислонился к молодому сливовому деревцу, уставился на пустынный балкон во втором этаже и забормотал:
– Русудан… Девушка, Русудан… Как это ты уродилась такой хорошей?.. Зачем?.. Видно, мне на горе, на беду…
Закро умолк и долго пристально всматривался в темный дом; потом, с трудом оторвав от него взгляд, снова жалобно заговорил:
– Хоть бы ты не была такой хорошей, Русудан… Ну что из того, что я не чемпион?.. Такая, видно, моя судьба, а ведь сам по себе я чего-нибудь да стою… Не хуже всякого другого… Ну, осрамил я вас и в этом году… Так оно вышло – что я могу поделать?.. Опять он взял первенство… Разве я виноват? Он ведь тоже парень что надо, Русудан… На здоровье, я на него зла не держу. Не могу же я руки на себя наложить?.. Или наложить?.. Эх, право, кажется, только это мне и остается… Долго ли я еще смогу терпеть, молчать, таить в душе горечь?.. Настанет день – не вытерплю, все наружу хлынет… Приду к тебе и, как старый Миха перед образами, грохнусь наземь, грохнусь и все выскажу, все, все… Хочешь – убей, хочешь – жизнь подари… Видишь – извелся я, уж и не человек вовсе… Один твой добрый взгляд, и я сразу стану как лев… И-и-эх! Тогда не то что Бакурадзе, сам сказочный богатырь Караман против меня не устоит!.. Русудан… Вот я, Русудан… Я пришел, и делай со мной что хочешь, да, делай что хочешь…
Бормоча и пошатываясь, Закро ступил несколько шагов по направлению к дому, но тут с балкона вдруг послышался яростный лай, что-то белое, мохнатое с шумом скатилось по лестнице и в два скачка очутилось возле него.
Сразу узнав любимую собаку Русудан, парень протянул к ней руку и ласково позвал:
– Ботвера, славный мой пес… Это я, Ботвера… Я, Закро… Не узнаешь?..
Но пес, хотя, видимо, и признал ночного гостя, а может, именно потому, что признал, уперся ему передними лапами в грудь и, грозно рыча, лязгнул зубами.
Закро качнулся, но удержался на ногах и, изловчившись, схватил собаку за горло.
Но пес оказался удивительно сильным: он высвободился – рывком и снова бросился на пришельца – так яростно, что опрокинул дюжего верзилу в частую, высокую траву.
Закро все же изловчился, успел схватить собаку за шею; вцепившись в густую, пушистую шерсть, он старался оторвать от себя разъяренного пса.
А тот, совершенно остервенев, кидался на него, мотал головой, дико рыча, вскакивал на задние лапы и с размаху обрушивался ему на грудь.
Наконец Закро кое-как удалось встать. Он распрямился, схватился с поднявшейся на задние лапы собакой, рассчитанным движением завел правую ногу ей за спину повыше хвоста и, подкосив ее, как противника на ковре, бросил оземь. Бросил и сам навалился сверху могучим своим телом.
Стальные пальцы борца сомкнулись на мохнатой шее, сжали, стиснули собачье горло.
Совсем обезумел пес – упершись лапами, царапал человека, рвал на нем одежду, с хрипом и рычаньем бился головой об землю, мотал ею из стороны в сторону.
А парень, придавив животное всей своей тяжестью, сжимал пальцами его горло и ласково, любовно шептал:
– Ботвера, мой славный Ботвера… Самый лучший из псов… Что, не узнал меня, дружище, не узнал, Ботвера… Ну ладно, ладно, перестань, нехорошо так злиться… Ну, что ты барахтаешься? Ведь знаешь – не выпущу! И нечего лапами сучить… И мотаться из стороны в сторону… Замолчи, не надо так свирепо рычать. А то разбудишь Русудан, и будет она сердиться… Вон смотри… Кажется, уже и проснулась… Тише, Ботвера, проснулась твоя хозяйка! Останови лапы, говорю, лапы останови… Вот так… Ну, разве так не лучше, хороший мой?.. А то злишься, рычишь… Умница, смирный пес… А чего ты вытягиваешься? Постой, погоди… Русудан, девушка!.. Под ноги тебе и беднягу Закро, и весь наш Чалиспири!.. Русудан… Девушка… Русудан… Почему ты такая безжалостная?.. Зачем ты убиваешь меня? Что я тебе сделал?.. Эх, не знаешь ты, какой ад в этой груди, что за огонь сжигает это бедное сердце… Эх, Ботвера, я бы встал сейчас, я бы встал, да боюсь, опять ты будешь злиться… А я хочу, чтобы Русудан не просыпалась… Пусть она спит сладким сном… Давеча я обманул тебя, сказал, что она проснулась… Ты не обижайся… Пусть она спит… Лишь бы ей хорошо было, а меня пусть хоть разгрызут волки… Ну, давай теперь помиримся! Ух, что за пес! Морда какая, а зубы, зубы!.. И шерстка – белая, шелковая… Эх, Ботвера… сколько раз ее рука трепала тебя по этой самой шерсти… Сколько раз она ласкала тебя… Счастливый ты! А я только изредка… издалека… Редко когда случится увидеть ее… Промелькнет – и скроется…
Закро, расчувствовавшись, уткнулся лицом в пушистую, мягкую шерсть на собачьй шее и замолчал, затих…
Русудан потеряла дорогу, выпустила вожжи и предоставила лошади самой выбираться из зарослей. Смирный мерин побродил, поплутал среди рощ и кустарников и наконец выбрался на открытое место.
Разморенные зноем заросли остались позади. Двуколка покатилась по мягкому, устланному пылью проселку, пролегавшему среди высоких хлебов.
Чуть заметный ветерок покачивал тяжелые колосья. Сильный запах спелой пшеницы бил в ноздри.
Стая диких голубей с шумом пролетела над головой и опустилась где-то в кусты среди алазанских отмелей.
Солнце уже клонилось к закату и посылало косые лучи с вершины горы, зеленевшей в стороне Ахметы.
Ветерок усилился, всколыхнулось, заволновалось золотистое море нив. Хлеба были лошади по самую грудь, и, глядя издали, казалось, что двуколка плывет, словно маленькое суденышко, по шелковистым волнам. Девушка сидела в ней неподвижно, подперев лоб ладонью, уйдя в свои мысли. Свисавшая с ее запястья плеть свободно раскачивалась в воздухе. Лошадь, предоставленная самой себе, легкой рысцой трусила вдоль журчащей неподалеку Берхевы, вверх по течению.
До самой деревни не поднимала девушка головы. Доехав до шоссе, она рассеянно подобрала вожжи, пересекла дорогу и направила лошадь во двор перед конторой колхоза.
Старик сторож удивился:
– Видно, здорово ты утомилась, дочка! И где это ты увязла в такой грязи? Не годится по жаре столько ездить!
Девушка медленно сошла с двуколки.
– Пригляди за лошадью, дядя Котэ. С самого утра не кормлена.
Она повернулась и пошла со двора, но в воротах старик догнал ее. В руках он держал охапку полевых цветов.
Пестрели вперемежку лютики и цикорий, ромашки и васильки, а посредине вздымался стебель колокольчика, свесив опрокинутые лиловые чашечки.
– Забыла цветы в двуколке, дочка!
Девушка нехотя взяла букет, помедлив, поднесла его к лицу и вдохнула пряный запах алазанских берегов.
После недолгого колебания она окликнула ушедшего было сторожа и вернула ему цветы:
– Отнесите счетоводам, дядя Котэ. Пусть поставят их в воду.
Изумленный сторож взял букет и направился к конторе.
А девушка, понурив голову, вышла за ворота.
Беспомощно свисала плеть с ее правого запястья и волочилась плоским кожаным кончиком по земле, по желтой пыли.
Лишь придя домой, дала волю накопившейся горечи Русудан и облила слезами снятый со стенки портрет отца. Бросившись ничком на кровать, она плакала, плакала и проклинала тот день, когда впервые человек пошел с оружием на человека.
У многих отняла война родителей, братьев, людей любимых и близких, многие лишились родного гнезда, крова над головой, того, что дорого сердцу… Но вряд ли еще кому-нибудь на свете так горько сиротство, как Русудан. С тех пор как она узнала о гибели отца, душа ее рассталась с весельем, а глаза привыкли к слезам.
«Ах, отец, отец! Если бы ты был жив, разве кто-нибудь посмел бы обидеть, оскорбить твою Русудан? Кто позволил бы себе?.. О боже, боже, боже! Одна мысль об этом может свести с ума! Русудан, бедная Русудан, как же ты одинока! Некому тебе даже поверить свои печали, не перед кем открыться, не у кого спросить совета… Была у тебя подружка Тамара, маленькая Тамарико, но и та поссорилась с тобой из-за своего отца и сидит дома, редко когда показывается. И Нино в последнее время что-то всегда занята. А Флора далеко и даже писем не шлет, ленится. Может, с Максимом поговорить, открыть ему душу? Только сумеет ли он тебя понять? Нет, конечно, поймет. Максим ведь уже взрослый, уже мужчина, и он не спустит твоему, оскорбителю, рассчитается с ним. Но как бы не получилось хуже… Как бы самому Максиму не вышло вреда. Он смирный юноша, но ради тебя, знаешь ведь, кинется, не раздумывая, в огонь и в воду.
Так что же делать? Как быть? О, опять-таки – терпеть, молчать, еще раз стерпеть и смолчать, все сносить молча и терпеливо. Надо все скрыть, ничего нельзя никому рассказать, потому… Потому что люди могут запачкать твое чистое, незапятнанное имя, могут очернить тебя без вины, забросать грязью. Боже мой, что было бы, не случись рядом на счастье этот прохожий? Ах, Русудан, глупая, наивная Русудан! Как ты решилась отправиться осматривать поля с этим пустым, бессовестным человеком? Как тебя угораздило сесть с ним в двуколку и пуститься в путь по мочагам и трясинам? Прежде ты никогда не делала таких глупостей – что же сегодня с тобой стряслось? Ох, несчастная! Лучше бы тебе сгореть, провалиться сквозь землю…
Так, так, плачь, Русудан, может, от слез станет легче, может, свалится с сердца эта свинцовая тяжесть…»
Вдруг на балконе вскочила спавшая там собака и с громким лаем бросилась по лестнице вниз, во двор.
Тут только вспомнила девушка, что забыла дать вечером Ботвере похлебку, да и ворота не заложила на засов и даже дверь не заперла. Она встала, повернула ключ в замке и стала прислушиваться.
Снаружи доносились лай и рычанье ярившегося Ботверы, Это продолжалось немало времени, потом постепенно лай умолк, и снова стало тихо.
Девушка села на кровать и долго сидела так, в темноте.
Где-то в углу скреблась под половицей мышь. Русудан вспомнила, что собиралась взять у тетушки Сабеды котенка. Она разделась, легла в постель и снова отдалась течению своих мыслей.
Тут только догадалась девушка, что незнакомец, встреченный ею сегодня на Алазани, не кто иной, как вчерашний победитель, сбивший кабахи со столба. Странно! Никак не ожидала Русудан, что этот отчаянный сорвиголова проявит столько уважения к беспомощной женщине в глухом лесу.
Утром, выйдя на балкон, она удивилась тому, что собака не кинулась ей навстречу, как обычно, ласкаясь, повизгивая и виляя хвостом.
Долго она звала своего верного пса, долго свистела ему, но Ботверы не было видно. Русудан сняла с гвоздя на балконном столбе свою неизменную плетку и спустилась во двор.
Проходя мимо цветочной грядки, она остановилась, пораженная. Любовно выхоженные ею клумбы были разворочены, цветы втоптаны в землю, а рядом в густой траве лежал в обнимку с собакой и мирно похрапывал Закро…
Войдя в колхозный двор, Русудан увидела под большой липой взнузданную лошадь и возле нее – молодого парня, готового пуститься в дальнюю дорогу. Девушка направилась к нему.
– Возьми, это чистые рубахи, отвезешь их Максиму. Что это вчера ему приспичило – не дождался конца джигитовки, ускакал в горы? А тут без него этот бешеный жеребец Арчила изувечил!
Овчар вскочил в седло и натянул уздечку.
– С утра тебя дожидаюсь, Русудан, а то сейчас уже был бы далеко за Сабуэ. Ну, а Максим… Максим ведь чабан – вот он и поспешил к стаду, чтобы быть там во время прививки против бруцеллеза.
– Скажи ему, что я на него сердита – почему уехал, не простившись? И привет передай.
– Ладно. Желаю здравствовать!
Но не успел всадник доехать до ворот, как Русудан окликнула его – он с трудом сдержал разбежавшегося коня.
Русудан подошла поближе и шепнула парню, склонившемуся к ней из седла:
– Скажи Максиму, чтобы прислал с тобой щенка – побольше да позлей. Вчера ночью этот полоумный Закро задушил нашего Ботверу.
Глава вторая
Золотистыми волнами переливалась нива, с трех сторон обступал ее подлесок, а дальше тянулись леса. С шепотом и шорохом покачивались, сталкиваясь между собой, отягченные колосья, и немолчный шепот разносился над полем, от лесной опушки до самого яра над селом.
Старик долго смотрел на спелые хлеба, потом выбрал самый тенистый вяз из тех, что стояли на краю поля близ скалистого ската, и положил серп на траву, зеленевшую у его подножия.
Сняв рубаху, он повесил ее вместе с сумкой на ветке дерева и повязал голову платком, чтобы пот во время работы не стекал на глаза. Оглянувшись, он повернул к свету суровое лицо с крупными, правильными чертами и сказал пареньку, подошедшему следом за ним с вьючной лошадью:
– Отведи-ка свою животину к другому вязу, подальше отсюда, а то она испакостит прохладное местечко.
Паренек достал из переметной сумы навьюченные на лошадь большие кувшины и спросил:
– Сейчас за водой пойти или когда кувшины опорожнятся?
– Сейчас не надо, сынок, вода все равно нагреется. – Он вскинул кустистые брови и изумился: – А чего сноповязы дожидаются? Ступайте рвать колосья на свясла, пока они не пересохли!
С минуту он наблюдал, как, кряхтя, по-стариковски, прилаживал на левую руку налокотник сосед Саба, как он вдевал в наперстники свои дрожащие, костлявые, узловатые пальцы, и с сожалением покачал головой:
– Эх, нет на свете справедливости!.. Тебе бы, старичина, не в поле надрываться, а полеживать в саду под тутой, на ковре да на мутаках…
– Эй, малец! Зря ты не захватил побольше посуды – сделал бы сейчас лишний конец, принес бы еще воды. А то ведь этой нам даже для точки серпов не хватит! – гудел, сидя на толстом обнаженном корне вяза, безбородый Гогия.
– Да вы что, еще только серпы точить собираетесь? – изумился старик. – Тьфу, позор! А еще молодежь!
Сноповязы покинули тень и пошли рвать колосья на свясла.
– Пусти лошадь на длинной привязи, да только так, чтобы она до нивы не дотянулась. Ну как, Годердзи, начнем?
Старик ничего не ответил Сабе и прямо вошел в волнующиеся с тихим шелестом хлеба, достававшие ему до пояса.
Ласково трогал старик тугие колосья, осторожно гладил высокие стебли. Он сорвал колос, растер его на ладони и с улыбкой любовался спелыми, наливными зернами. А налюбовавшись вдоволь, не захотел их рассыпать, пожалел и отправил себе в рот, стал с хрустом жевать крепкими зубами. Потом окинул взглядом из конца в конец широкое поле.
Когда-то эти угодья принадлежали Димитрию Вахвахишвили и считались урожайными на диво. Каждый год, перед жатвой, князь приказывал зарезать быка и снять крышку с сорокаведерного квеври.
С усами, лоснящимися от говяжьего жира, разгоряченные добрым соком лозы, чуя в себе такую силу, что хоть камни крошить, крестьяне набрасывались на спелую ниву и управлялись с жатвой в один день вместо положенных трех.
Головному жнецу вешали на спину бычью голову. Если сожнет полосу из конца в конец так, что никто его не нагонит, – бычья голова доставалась ему, и сверх того он получал в «пеш-кеш» целое чапи вина.
Не раз случалось старому Годердзи подвесить себе за спину круторогую голову, опорожнить целую бадейку красного и, уйдя целиком в работу, махать серпом весь душный, в зыбком, знойном мареве, июньский день до вечера. Да и какой сумасшедший решился бы состязаться с ним в такую пору? Словно кабан, продирающийся через камышовые заросли, крушил и валил он высившиеся стеной хлеба, прокладывая широкую полосу от межи до межи, от опушки до опушки, и солнечные лучи, ломаясь на блещущей стали, рассыпались искрами во все стороны.
Эх, черт побери! Не жалко ему было себя – нет, не жалко… слава была ему дороже всего. Большой соблазн слава!
– Ну что, Годердзи, может, начнем?
Старик очнулся от своих мыслей, скосив глаза, глянул на Сабу, потом раздвинул колосья и попробовал ногой иссушенную зноем землю.
– Да, пора. Начнем!
Он встал лицом к дальнему краю поля, нагнулся, ухватил огромной ручищей чуть ли не целый сноп колосьев и полоснул по ним серпом.
Саба и еще человек пять жнецов последовали его примеру. К ним постепенно присоединились и все остальные.
Долго слышались только шелест срезаемых колосьев, стук наперстников, слабый шорох скользящих шагов и негромкий посвист серпов. Но вот солнце поднялось высоко в небе, земля нагрелась – распалились и жнецы, поддали жару.
– Э-ге-ге-гей! Та-та-та-та, иду, догоняю, Годердзи! Ух, молодца узнают по деснице! Ну держись! – гаркнул Абрия Гигилашвили и рванулся вперед сквозь ниву.
Головной оглянулся, и глаза его просияли.
Любил Годердзи взглянуть на доброго работника, и в эту минуту самое искреннее удовольствие было написано на его лице.
Покажи-ка нам, Абрия,
Как набьешь зерном амбары!
Хоть года мои не малы,
Да соврет, кто скажет: старый.
– Хо-хо-хо, как он тебя! Вот так поддел! Хо-хо-хо! Не уступай, не давай ему спуску! – закричали Абрии с разных сторон.
Тот переменил ногу и ответил Годердзи тоже стихами:
Ох и нива, вот так нива,
Искры сыплет, как с огнива!
Абрию не одолеешь,
Зря ты нос задрал спесиво.
– Э-ге-ге-гей! Настигают тебя, дедушка Годердзи, держись!
Годердзи услышал рядом свист чужого серпа и распалился еще больше.
Не бывало, чтобы в поле
Абрия за мной угнался!
Эх, кабы таким героем
Он у матери удался!
– О-хо-хо-хо! Ну язык, остер как серп! Давай жми, не топчись на месте! А ну сторонись, старичина, смотри, серпом ноги тебе подрежу! – шагал, поспешал, гудел, наступая на соперника, безбородый Гогия.
Все больше и больше разгорались, разъярялись жнецы, и все вокруг кипело, бурлило, сверкало и ухало.
Платки на разгоряченных лбах намокли, пот просачивался сквозь ситец, стекал струйками по лицам, капал жаркими каплями на жаркую землю.
Взмокшие рубахи липли к телу, облегали горячие, влажные спины.
Пот стекал ручьем между лопатками и скапливался озерцом пониже, над поясом.
На каждом серпе горело по солнцу – и отблеск этот при каждом взмахе то гас, то вспыхивал, так что глаз не мог уследить за игрой света и тени на опаленных зноем лицах.
А нива шелестела, вздыхала, стонала и, клонясь долу, покорно ложилась под серпом.
Все ускорялось медвежье топотанье, мерный перескок жнецов. Под ногами их, раздавленные, втоптанные в землю, валялись репняк и куколь, откинув отсеченные кустистые головы, испускала дух дикая морковь, окруженная желтыми обрезанными стеблями жнивья, словно покойник – плакальщиками.
С отрывистым треском лопались в жнивье сухие стручки мышиного горошка и стреляли черными, твердыми, как дробь, бобами в лицо идущим следом за жнецами сноповязам.
Шли вперед, прокладывая полосу в ниве, жнецы, радовали им душу высокие налитые колосья, щедрый урожай.
– Ну хлеб! Точно на заброшенной дороге вырос! – дивился Саба и, суетясь, спешил срезать пук-другой, потому что шагавшие рядом по обе стороны Абрия и Автандил, пока старик успевал взмахнуть серпом, обжинали заодно со своими и его полосу.
– Хе-ек – хек! – выкликал, нагибаясь, безбородый.
Автандил откликался с другого края:
– Хо-ок – хок!
И голоса жнецов сливались в общем клике:
– Хек!
– Хок!
– Хек!
– Хок!
– Хо-хо-хо, та-та-та-та! Держись, Автандил, держись! Я уже подступаю! – гаркнул опять Абрия и чуть было на самом деле не полоснул серпом по ногам бедного Сабу.
– Ну где же ты до сих пор, подходи же, – дал свое соизволение Автандил.
– Иду, иду.
– Ну где ж ты?
– А вот!
– Ну-ка!
– Да вот же!
– Э-ге-ге-гей! Та-та-та-та! Вот какие мы молодцы, ребята! Глядите, дивитесь – что мы сделали! Вот молодцы!
На заброшенной дороге
Уродился хлеб сам-десят, —
вспомнил-опять-таки старый Саба.
Подбирай полу, хозяйка,
Урожай ссыпать, не взвесить!
– А вот и я! – объявил Абрия, догнав наконец Годердзи.
Так они шли, врезаясь в желтое море колосьев и подвигаясь к скале в дальнем конце поля. Наконец головной, а по пятам за ним неугомонный Абрия достигли края поля и сложили на жнивье последние охапки сжатых колосьев. Выйдя на тропинку за полем, они обернулись, подняли серпы над головой и, потрясая ими, грянули в один голос:
– Молодцам-работягам доброго здоровья!
– Доброго здоровья! – ответили отставшие, не смущаясь, и поднажали, двинулись быстрей.
Наконец все собрались у края поля, скрестили серпы, ударили ими друг о друга, и, перекрывая звон стали, Годердзи возгласил:
– Шабаш! Теперь и отдохнуть не зазорно!
Они вернулись в тень, под вязом, и застали там вновь пришедших польщика Гигу и маленького правнука дедушки Годердзи.
Старик рассердился на мальчика – чего ему здесь понадобилось, кто его отпустил в такую даль?
– Ты что, колосья пришел собирать?
– Нет, не колосья… Перепелят в жнивье поймать хочу.
– Ты у меня смотри, Тамаз, – нахмурился дед. – Будешь бегать на самом припеке в эту жару – отведаешь розги. Я уже припас ее для тебя.
– Думаешь, опять догонишь?
– А ты будь умницей – и удирать не придется.
– А я и так умница, и на припеке бегать никто мне не запретит. Те, кто собирают колосья, от солнца тоже не прячутся.
Жнецы засмеялись.
– Весь в вас, в вашу породу!
– Ну паренек! – Полыцик завернул табак в бумажку и со смаком провел по ней языком. – Встретился мне по дороге: иду, дескать, к дедушке своему. Я его не хотел с собой брать, да не тут-то было: трусит себе за мной следом, поодаль. Пока я успел поле обойти, он уж тут как тут.
Чудной человек был этот полыцик Гига. Долгое время он безропотно исполнял свою почетную должность, имея при себе вместо всякого оружия простую палку. Но потом, после того как пастушата-телятники, осмелев свыше меры, поваляли его на зеленях, он разгневался, извлек на свет божий все старое, заржавленное оружие, какое у него было, и нацепил на себя: кроме охотничьего ножа – большущий кинжал, кремневый пистолет и, сверх того, допотопное пистонное ружье такой необычайной длины, что, положи его вместо насеста, уместится индюшка с целым выводком индюшат.
Теперь уж, не извольте сомневаться, пастушата встречали Гигу почтительнейшим приветствием.
Был в деревне один человек, которого полыцик яростно ненавидел. Впрочем, все село недолюбливало этого человека. Прозвище у него было – Мцария, «Горчак».
– Вор он, этот Мцария, вот он кто! – говорил Гига и, выпив лишнего, всякий раз вламывался к своему недругу, чтобы намять ему бока. Но чаще всего сам возвращался побитым.
– Дался же я ему! Что я кому сделал худого? – жаловался Мцария. – Попадется мне как-нибудь этот Гига под злую руку, не уйдет живым!
Жнецы, увидев полыцика, сразу вспомнили про Мцарию и подсыпали перцу:
– Мцария давеча хвастался – изловлю, говорит, Гигу, спущу с него штаны и его же ножом мягкие места ему исполосую.
В глазах у полыцика вспыхнула злость.
– Этот нож – его судьба. Дайте только срок!
Хорошо еще, что, вернувшись с поля домой, Гига полностью «разоружался» – только перочинный нож оставлял у себя в кармане, – иначе могло случиться, что он как-нибудь и исполнил бы свою угрозу.
Полыцик подсел к дедушке Годердзи. Старик был единственным человеком во всей деревне, которого Гига побаивался, даже когда был во хмелю, даже увешанный с ног до головы оружием.
– Ну, что скажешь, хорошо я сберег Подлески?
– Поле что надо, – согласился старик. – Пшеница хороша. Только лучше бы убирать ее комбайном.
– А не все ли равно? Если хлеб хорош, его хоть комбайном бери, хоть жни серпом.
– Да ты погляди, сколько здесь народу занято, а ведь нашлось бы для людей и другое дело!
Полыцик поднял брови и ядовито захихикал:
– Еще чалиспирцы не проложили шоссе до Гичиани, чтобы комбайн мог сюда подняться!
– Зачем же через Гичиани подниматься? Разве нельзя расширить тропу, что проложена по скале, и устроить дорогу?
– Ничего не попишешь, хозяин – колхоз, от него дела не жди, – махнул рукой Гига и припомнил времена, когда Вахвахишвили поднимал в Подлески на арбе вино и воду. – И эта чертова Берхева ведь иной раз так вздуется, – добавил он, – что не только дорогу зальет, а и весь околоток за поповым домом снести готова…
– Речка тут ни-при чем, Гига; было бы желание – давно укрепили бы дорогу сюда, к Подлескам.
Мальчишка-водонос, видно, решил послушаться доброго совета. Он внезапно появился откуда-то с большим кувшином, полным холодной воды.
Жнецы зашевелились, повскакали с мест с одобрительными возгласами:
– Молодец, малыш!
– Вот это хорошее дело!
– А куда наш бригадир запропастился, что это его не видно?
– Он вечерком пожалует, по прохладе, и тогда уж развернет свою рулетку.
Саба опорожнил кувшин-гозаури до половины, вылил оставшуюся воду на грудь, поросшую седой щетиной, потом привстал, опершись на одно колено, провел огромной, с добрую лопату, рукой по широкому своему лицу и спросил:
– Ну что, ребята, навалимся?
– Давай, давай! Пора поднажать, ребята.
Было уже за полдень.
Все тяжелей становился зной. На этот раз полоса тянулась, тянулась, и не было ей конца. Жнецы порастратили пыл и работали не с такой охотой, как утром.
Скоро всех разморило от жестокого зноя.
– Ну, пора и отдохнуть! – сказал, распрямившись, Абрия.
Все, словно только этого и ждали, присоединились к нему.
Бросив дожатую почти до середины полосу, жнецы ушли с поля и направились к вязу.
Как только они расположились в тени, появился бригадир в сопровождении какого-то человека, которого все видели впервые.
Пришедшие поздоровались с жнецами и сразу же уставились на сжатые полосы.
Незнакомец окинул придирчивым взглядом поле, похлопывая себя прутиком по ноге, потом повернулся к жнецам:
– Это все, что вы сегодня наработали?
– Не на что и глядеть, верно? – попытался пошутить Автандил.
Незнакомец нахмурился:
– Вот это самое и я говорю. Еще ничего не сделали и уже разлеглись, прохлаждаетесь.
Жнецы изумились:
– С утра жнем, трудно в такую жару больше сделать.
Незнакомец насмешливо глянул на бригадира:
– Так-то собираешься план выполнять? Что скажут в райкоме?
Бригадир растерялся.
– Еще рано что-нибудь говорить. Сегодня только начали жатву!
– Сегодня только начали, и уже все валяются, нежатся в тени. А с меня спросят и шкуру сдерут! Скажут – не справился с делом. Ну-ка, беритесь немедленно за серпы, и, пока не сожнете все вон до того лесочка, чтобы здесь и духу вашего не было.
Годердзи, который до этой минуты полеживал на боку, повернулся к нему и сел.
– А ты, собственно, кто такой и почему здесь распоряжаешься?
– Я кто такой? Как это кто я такой? Да вы разве не знаете, что я к вам от райкома прикреплен?
Старик смерил незнакомца взглядом с ног до головы.
– Ах, прикреплен… Вот как! Прикреплен… Что ж, и сам ты крепкий детина. Отчего бы и нет – поспал, покушал и вышел на прогулку… Ну, а мы тут с ног валимся от усталости.
Жнецы расхохотались, а незнакомец резко повернулся к Годердзи, весь перекосившись от злости.
– Что, что, старый хрыч? Повтори, что ты сказал? Встань прежде на ноги и потом со мной разговаривай, не то я сам тебя подниму вот этой хворостиной!..
Смех сразу оборвался. Жнецы застыли на месте.
Старик чуть помедлил, взгляд у него стал неподвижным. Неторопливо поднявшись, он подошел к незнакомцу и на мгновение остановился перед ним. Потом протянул худую, как бы сплетенную из жил руку и слегка потрепал его по белой пухлой щеке.
Присутствующие ждали, что вот-вот грянет гром, но тучи внезапно рассеялись, лицо у дедушки Годердзи прояснилось, он улыбнулся своей всегдашней широкой улыбкой, показав великолепные ровные белые зубы, и ласково посоветовал гостю:
– Ступай, сынок, к тому, кто тебя послал, да скажи спасибо, что цел остался. Чтобы со мной шутки шутить, надо иметь кости покрепче.
Лицо незнакомца стало красным, как взрезанный арбуз. Он схватил старика за руку, но, ощутив под пальцами вместо слабой и беспомощной старческой плоти стальные мышцы и увидев под густыми усами зловещую усмешку, счел за лучшее отступить.
Что за черт, почему ему чудится, будто он уже видел где-то точно такую же усмешку?
Он вдруг пришел в себя, поправил на голове соломенную шляпу и пошел решительным шагом прочь, бросив на ходу с угрозой:
– Обо всем, что здесь было, я доложу где следует.
– Ступай, ступай, хоть к черту на рога, да прихвати с собой и тех, кому ты докладываешь. – Годердзи вернулся на свое место, взял серп и стал тщательно отмывать его зазелененное травой лезвие.
– А ты, Маркоз, чего дожидаешься? До вечера тебе тут делать нечего!
– Ни своих, ни чужих не хотите знать, ни с гостями, ни с домашними не считаетесь! – И бригадир, насупившись, торопливо зашагал вслед за ушедшим по направлению к спуску в долину.








