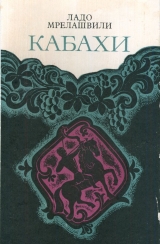
Текст книги "Кабахи"
Автор книги: Ладо (Владимир Леванович) Мрелашвили
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 49 (всего у книги 62 страниц)

Купрача вытирал полотенцем буфетную стойку, когда вошел Реваз. На шее у Реваза, спереди, висело ружье, он весь согнулся под объемистым ворохом каштаново-коричневой шерсти. Он подошел к стойке, скинул на нее этот ворох, сказал коротко:
– Дай поесть! – и сел за столик поодаль, у стены.
Купрача кликнул повара, а сам достал из-под прилавка бутылку водки.
– Есть у тебя шашлык, Ражден? – спросил он повара, когда тот вышел из кухни.
– Есть, да только он заказан…
– Неважно. Подай его вон на тот стол, а для заказавшего изжарь другой. А потом унеси это мясо.
– Медведь?
– А ты думал – человек? Сам не видишь, что ли? Машо, послушай, Машо! Подай на тот стол хлеб, сыр и зелень. Постой, прихвати вот заодно и бутылку.
Сидел Реваз, опрокидывал стопку за стопкой, закусывал хлебом с сыром и зеленью.
Ражден сам принес с кухни шашлык и подал ему, не срезая, прямо на шампуре.
– Целая туша? Где ты на него наткнулся? Хорош, видно, не старый. Пока вот один шашлык, а там изжарю и поднесу еще. Есть хорошая буглама. Подать? А хочешь чакапули? Свирепый зверь! Счастье твое – вернулся цел и с добычей.
Реваз не отозвался ни единым словом. Он вытер бумажной салфеткой кончик шампура и сунул его в стакан с водкой. Зашипело горячее железо, над стопкой поднялся пар. Реваз ухватил шампур за оба конца и стал зубами отрывать куски жареного мяса. Он ел с жадностью, громко жуя. Догрызясь до горячего шампура, оттопыривал губу, чтобы не обжечься. Зато зубы то и дело позвякивали о железо – зубы у Реваза были белые, точно фарфоровые, удивительно крепкие.
– Пойду присмотрю за шашлыком.
Реваз и на этот раз ничего не ответил. Ражден передернул плечами и ушел.
С каждым новым стаканом пить становилось все приятней. Сладостным теплом разливался алкоголь по усталому телу, растекался по конечностям, расслабляя напряженные мышцы.
Подали во второй раз хлеб и сыр. Поспел и новый шашлык. Сидел Реваз и пил. Ел и пил.
Вдруг он поднял голову, насторожился, застыл. Слух его отметил, как понизился голос разошедшейся было, гармоники и тут же притихло гуденье барабана. Быть может, до его сознания вообще не дошли бы звуки ресторанной музыки, если бы разудалая песня гармоники не превратилась во вкрадчивое мурлыканье, а барабан не покинул, приглушенно урча, стол с пирующими. Реваз поднял голову и проследил взглядом за верзилой барабанщиком, пробиравшимся вдоль стены, – тот теперь еле слышно выбивал пальцами на барабане осторожную дробь.
Реваз удивился. Подумал: может, это какой-то особенный танец, но нет, на пляску не было похоже. Смотрел он, смотрел на верзилу – и вдруг узнал его. И сразу понял, почему тот пытается удрать из столовой.
– Поди сюда! – сказал Реваз.
Барабанщик даже не приостановился, словно не слышал зова.
– Сказано тебе – иди сюда!
Внезапно за всеми столиками смолкли разговоры; воцарилась настороженная тишина.
Третий оклик настиг барабанщика у самой двери. Гораздо сильнее повелительного человечьего рыка подействовало на него негромкое щелканье курка. Он сразу обернулся и жалостно посмотрел на зовущего расширенными от страха глазами.
– Сюда, говорят тебе!
Барабанщик медленно приближался, осторожно ступая, опустив руки, – инструмент его чуть ли не волочился за ним по полу – и глядел как завороженный прямо в глаза Ревазу.
Реваз снова положил ружье на стул и сказал:
– Садись.
Барабанщик поставил свой барабан на стул, возле ружья, и сел.
– Туда не ставь.
Поспешно извинившись, барабанщик поставил барабан у себя между ногами.
Реваз сделал знак подавальщице, и она принесла еще одну стопку. Наполнив, Реваз пододвинул ее к барабанщику:
– Пей.
– Не пью я…
– Пей!
– Ей-богу, совсем не пью.
– Пей, когда говорят.
– Жизнью клянусь, никогда капли в рот не брал.
– А вот теперь выпей.
– Ну как же я выпью, если никогда и не пробовал водки? Доктор сказал…
– Не будешь пить?
Барабанщик бросил украдкой взгляд на огромную руку; сжимавшуюся на столе в увесистый кулак, и схватился за стакан: лучше уж, дескать, от водки смерть принять.
От первого стакана лицо у него стало бессмысленно-ошалелым. Но после второго и третьего прояснело, как бы прочистилось.
Реваз пододвинул к нему шашлык, отослал с подавальщицей пустую бутылку и потребовал вторую.
Через некоторое время взгляд у барабанщика стал мутным, в глазах появилось веселое выражение, а лицо совсем поглупело.
– А теперь скажи: какого черта ты давеча встал у меня на дороге?
– Сдуру. Бес попутал. То есть не бес, а Хатилеция. Я думал, ты выпил водки и не заплатил.
– Твое дело – на барабане выстукивать… Купрача – тебе еще что-нибудь, кроме этого, поручил?
– Ничего Купрача мне не поручал, – сознался барабанщик.
– Так какого дьявола ты при всем народе загородил мне дверь?
– Я же тебе говорю – бес попутал. То есть, значит, не бес, а Хатилеция.
– Скажем – бес.
– Нет, Хатилеция.
– Что бес, что Хатилеция – все одно. Но с чего тебе взбрело толкнуть меня?
– Все этот проклятый Хатилеция. Я тут ни при чем.
– Разве это Хатилеция толкнул меня так, что я ударился спиной о прилавок?
– Он один виноват. Пристал как черт, прямо донял. Говорит, вот этот всегда так – выпьет и уйдет, не заплатив, а ну, проучи его.
– А какое тебе дело до того, выпил я или не выпил, заплатил за выпивку или не заплатил? Было тебе дело до этого?
– Нет, не было. Хатилеция мне голову задурил. Он уже один раз сыграл со мной такую штуку, давно, в молодости. А я-то совсем ополоумел – как мне не пришло на память?.. Были мы, значит, в Артане. Праздник, гулянье, борьба в разгаре. Я тогда только-только поселился в Пшавели и пошел погулять на артанском празднике. Играть на барабане я еще не умел. Так вот, значит, борьба в разгаре, и ходит по кругу какой-то низенький кургузый парень, вызывает желающих побороться. Только ни один человек не хочет схватиться с ним, Даже близко к нему не подходит. Тут, откуда ни возьмись, появился Хатилеция, встал со мной рядом и говорит:
«Посмотри на этого парня – он из Кварели, совсем слабак, хоть бы еще умел бороться. Выйдет вот так в круг, ходит, вызывает борцов, да никто руки об него пачкать не хочет: стоит ли, дескать, грех на душу брать? И чего только он суется вперед, когда не может бороться? Хоть бы нашелся кто-нибудь, проучил бы его, поставил на место». – «Кого, вот этого? – говорю. – Пустите-ка меня, я ему покажу!»
Я тогда еще молодой был, неопытный. Весу во мне – сто кило и два фунта… Заправил я полы за пояс и выскочил в круг. Парень был коротышка, приземистый, прямо гриб боровик. Не успел я к нему вплотную подойти, а он как кинется, как схватит меня, подбросил и вышвырнул из круга. Упал я ничком и скольжу, плыву, несет меня куда-то. Хорошо еще – встретился по дороге соседский дом, остановил, а то так бы добрался я до самого Саниоре вплавь по земле. Полежал я немного, потом встал – только вот беда: ничего не вижу. Думаю, что это со мной? Провел рукой по лбу и тут только догадался, в чем дело. Оказывается, когда я шлепнулся оземь, то ободрал себе весь лоб до самых бровей, и кожа со лба глаза мне завесила. Вот, посмотри, и сейчас след виден.
Реваз посмотрел на его лоб и ничего не сказал.
– Оказывается, этот парень – знаменитый во всем Заалазанье борец, до него и дотронуться никто не смеет. Откуда я мог знать?
– Зубы тоже тогда потерял?
– Нет, давеча…
– Моя работа?
– Твоя, – робко подтвердил барабанщик.
– Жена, дети есть?
– Есть.
– Работаешь где-нибудь?
– Я все время работаю; где ни придется, всюду работаю.
Налили еще по стопке, выпили.
– Я не про эту стукотню спрашиваю.
– А так какой из меня работник – малограмотный я.
– И другие – не профессора. В колхозе и для тебя работа найдется. На вид в тебе и сейчас не меньше ста кило. А может, и побольше. Здоров ты – дай бог, многие позавидуют.
Гигола не знал, что на это сказать, и только беспомощно осклабился.
– Зарабатываешь хорошо?
– Ну какое там хорошо, пятеро детей дома дожидаются, пять ртов…
– Зубы вставлять не собираешься?
– Как же, собираюсь, только пока денег нет.
– Надо вставить. Ешь безобразно, вон шашлык жуешь вполчелюсти, криво, как собака. А когда вставишь, больше никому не давай их выбивать.
– И тогда меня бес попутал.
– Не бес, а Хатилеция.
– Сам ты сказал: что бес, что Хатилеция – все одно.
– Верно! С этих пор запомни: в чужие дела никогда не встревай. Почем знать, в каком настроении человек. Иной, может, и сам себе противен. – Он встал, взял ружье и подошел к буфетной стойке.
– Почему ты так много пьешь? – перегнулся к нему через стойку Купрача. – И не бреешься. Человек ты молодой, а вон седина в бороде пробилась за один месяц. Не тебя первого из партии исключили. Вот я вообще всю жизнь беспартийный.
– Из всех духанщиков ты один не был болтлив, а теперь, вижу, тоже разговаривать научился.
– Сегодня Шавлего о тебе справлялся. Если еще зайдет, что ему сказать?
– Ничего. Пусть охотится с Како. А это двуногое ничтожество ты знаешь?
– Знаю.
– У него, кроме того что мозгов нет, еще и зубов не хватает. Только первое – от природы, а во втором – я виноват. Дай ему денег сколько понадобится, чтобы зубы вставить. Потом мы с тобой рассчитаемся.
Давно уже остались позади затянутые легкой мглой горы хребта Иаглуджа, со все еще рассыпанными по склонам овечьими отарами, не успевшими вовремя уйти от зимы. Земля вокруг была серо-коричневой, а дальше подернулась болезненной лихорадочной желтизной. Вдоль дороги местами тянулась белая, извилистая соляная полоса, терявшаяся за горизонтом. Чем дальше на восток, тем чаще попадались обширные участки соляной, бесплодной земли, с редкой, бедной растительностью, пока наконец этот тип почвы не стал преобладающим. Мертвенный, однообразный пейзаж серо-желтой полупустыни тоскливо, неторопливо проплывал мимо мчащейся машины. Под ветром, дувшим с Каспия, пригибались к земле пересохшие стебли и листья донника и осенчука. Полынь, попадавшаяся вначале отдельными купами, теперь покрывала всю равнину.
Шавлего сидел в кабине, завернувшись в бурку, привалившись боком к дверце. Молча смотрел он на убегавший назад ландшафт, и собственная душа казалась ему сейчас такой же безрадостной, застылой и безжизненной.
Вчера вечером зашел Лексо, вызвал его во двор. Долго топтался на месте, что-то мямлил, говорил обиняками. Потом отвел взгляд в сторону и сказал:
– Третьего дня отвез я нашего агронома в Ширван.
– Русудан? Что ей понадобилось в Ширване?
– Максим ихний ведь с нашей отарой… Так она каждую зиму ездит к нему… Постирает, починит, зашьет, что надо… Обычно я знал наперед, когда она собиралась ехать… Готовилась заранее – хачапури, индейка, вино… А позавчера встречаю ее утром… Я так даже автоинспектора ни разу не пугался! Лица на ней нет, рта не разжимает… Говорю ей – еду в Ширван. Ни слова не сказала в ответ – села в кабину молча… За Ганджей остановился я в деревне, чтобы перекусить. Не сошла с машины, куска в рот не взяла. Заметил я невзначай – ударилась головой о стенку кабины и вздохнула так горько, так жалостно, что у меня все нутро словно огнем обожгло… Твое имя поминала… А когда я уезжал оттуда, велела: помни, мол, ничего ты не видел, ничего не слыхал…
Лексо не дошел еще до середины своего рассказа, как Шавлего уже все понял.
– Расскажи мне, как добраться до фермы.
– Добраться трудно – дороги там не разыщешь… Завтра утром я опять туда.
– Захвати и меня. Буду ждать тебя дома. В котором часу заедешь?
– Погрузим мешки с ячменем, и все. Сразу двинемся. Только еще едет Саба Шашвиашвили. Так что в кабине место – «йохтур».
– А Сабе что там понадобилось?
– Член правления… Получил информацию, будто у Набии некоторые овцы ягнятся раньше срока и тот не присчитывает этих ягнят к общему приплоду… Вот Саба и вбил себе в голову, что должен непременно побывать на месте. Председатель не хотел его пускать, но он разъярился: преступников, дескать, покрываешь! И другие члены правления взяли его сторону. Ну, тогда дядя Нико махнул рукой…
– Если я поеду, Саба уже не нужен. Я сам со стариком поговорю.
– Мне все равно.
– Через Тбилиси поедем?
– Через Саингило ближе.
– Давай через Тбилиси. Буду ждать утром дома.
И… тоскливый, пустой день, тоскливая, пустынная земля, тоскливая, опустошенная душа…
Успокаивать себя тем, что все развивающееся, все стремящееся ввысь движется извилистым путем, было нелепо. То, что случилось, было полностью непредвиденно и непредсказуемо, лишено всякой закономерности и выпадало из общей тенденции. Порой Шавлего болезненно ощущал, что случившееся той ночью врезалось в колесо его жизни лишнею спицей, и врезалось плотно… Человек допускает на протяжении своей жизни ошибки, потом обманывает себя мыслью, что учится на ошибках – растет. Если бы судьба отвела ему более долгий срок пребывания на этом свете, он понял бы: вместе с человеком растут и ошибки. И по мере того как растут и накапливаются ошибки, растет сам человек. И пока он растет, он совершает ошибки, грешит.
Вспомнил Шавлего первую встречу… Вспомнил, как он был спасен от кинжала неистового кистина в Алаверди… И как шли в ту пору, сменяясь, полные невообразимого блаженства короткие дни и долгие ночи…
А потом…
Потом это унижение, это отвратительное унижение…
Обманутые надежды, так долго лелеянные…
Счастье, достигнутое после мучительно долгого ожидания и утраченное в один миг…
Будущее, рисовавшееся в таком прекрасном свете – и внезапно рухнувшее.
Какое издевательство судьбы – увидеть свою собственную постель, опозоренную изменой, оскверненную развратом. Чистую девичью постель, которая должна была превратиться лишь в священное супружеское ложе… Неудивительно, что, потрясенная чудовищной действительностью, обрушившейся на нее в то утро, она бежала прочь без оглядки!
О том, чтобы расстаться с Русудан навеки, примириться с этой утратой, Шавлего не хотел и думать. Сердце подсказывало ему, что не все еще потеряно. Он всегда верил голосу своего сердца… Лишь раз в жизни испытал он страх. Это было на войне, когда он впервые попал в рукопашный бой. Битва была жестокой и длилась немало времени. Лишь когда не осталось в живых ни одного немца, посмотрели друг на друга победители – и содрогнулись. Нечеловечески искаженные лица, по-звериному оскаленные зубы, взгляд, полный жестокой злобы, руки, судорожно стиснувшие оружие, окровавленные штыки – все это, казалось, требовало новых жертв. Люди дрогнули, остолбенели и, объятые леденящим страхом, попятились друг от друга. Это было в первый и последний раз; с тех пор Шавлего не случалось больше испытывать чувство страха. Он неизменно верил в свои силы, и надежда обычно его не покидала.
Он не насмехался над чьей-либо слабостью и беспомощностью. И желание оскорбить кого-нибудь никогда не возникало в нем.
Он преклонялся перед красотой, однако не увлекался женщинами сверх меры…
Но, так или иначе, то, что случилось, было безобразно и тяжело. Грех был на его душе. Правда, грех, из-за которого испытывают обычно не слишком сильные угрызения совести.
Что движет человеком в такие минуты?
Жизненное назначение человека – всестороннее проявление внутренней его сущности, щедрая, беззаветная отдача всех своих умственных сил, всего душевного богатства для блага собратьев. Расточительство в узких, личных интересах недопустимо, – эгоизм, эгоцентризм уже достаточно скомпрометировали себя в нашем обществе. Одни фарисеи способны, всегда и при любых обстоятельствах, безоговорочно проповедовать высокую мораль, скрывая под громкими словами свою духовную нищету. Они похожи на актеров, живущих за кулисами настоящей, реальной жизнью, а на сцене, перед зрителями, показывающих ту же жизнь вывернутой наизнанку. О, сколько цинизма во всем этом!..
Внезапно Шавлего понял: он даже самому себе не смеет сознаться в тайных своих ощущениях. Ведь по-настоящему, в глубине души, он не жалеет о случившемся. Его только мучит, что оказалось запятнанным другое чувство, более высокое, всеобъемлющее.
Вчера он заглянул к Русудан и застал дома одну лишь Флору. Молодая женщина показалась ему осунувшейся, необычно бледной, красивое ее лицо было печально. Она вздрогнула, когда внезапно отворилась дверь, подняла испуганный взгляд на вошедшего, потом опустилась на тахту, поджала ноги. Молча смотрела девушка своими большими, кроткими, как у лани, глазами на Шавлего, остановившегося в дверях, словно пытаясь прочесть в его взгляде, какая ее ждет судьба. Шавлего увидел в этих глазах и простую радость, вызванную его появлением, и страх, и доверчивость, и боль от пробудившейся в душе любви, и отчаяние оттого, что вдруг обретенное оказалось утраченным, и покорность, и тысячу устремленных к нему вопросов. Вся бесхитростная душа молодой женщины светилась в ее глазах. И все тело ее, казалось, трепетало, – оно так жаждало ласкового прикосновения его больших рук.
Шавлего не сказал ни слова, не задал ни одного вопроса – медленно повернулся в дверях и закрыл их за собой.
Спускаясь по лёстнице с балкона, он вдруг ощутил всем телом, как оставшаяся там, наверху, безмолвно зовет его к себе.
Она была явно несчастна, глубоко несчастна, и невольный грех, совершенный полуиграючи, непреднамеренно, оставался для него приятным воспоминанием. Ничего нечистого во всем этом, по его ощущению, не было – случившееся стояло по ту сторону понятий скверны и разврата и было возведено в степень законности повелением любви.
Заглянув глубоко в свою душу, Шавлего не нашел в ней ничего похожего на ненависть к этой молодой женщине. И создавшееся сейчас положение не казалось ему связанным причинно-следственной связью с тем, что произошло… Неужели есть что-то в мире, что порой, по совершенно не зависящим от нас причинам, круто изменяет взятый нами жизненный курс? Что сковывает в такие минуты нашу волю? Он всегда верил, что каждый человек носит свою судьбу в себе самом. А теперь… теперь…
– Этот город называется Аджи-Кабул… Говорят, царица Тамар обложила данью ширванского шаха, но тот отказался платить и даже посмел пустить в ход угрозы. Тамар разгневалась, призвала войска, в жестокой битве разгромила шахскую столицу, обратила самого шаха в бегство и настигла его здесь, на этом самом месте. Тогда шах упал на колени и вскричал: «Аджи кабул!» – шаха звали Аджи, а «кабул» значит «согласен».
Шавлего бросил взгляд на шофера. Ни следа вчерашней озабоченности не заметил он в Лексо. На безоблачном его лице играла довольная улыбка, говорившая о полной ясности и спокойствии духа. Лексо поглядел на город, к которому они приближались.
– Я порядком проголодался. Не подкрепиться ли нам?
– А где тут можно поесть? Вот въедем в город…
– Большое спасибо! Я не девица, чтобы чаи распивать.
– Зачем же чай – найдется, наверно, и пити.
– Баранины я не ем.
– Почему?
– Не знаю, просто не ем, с детства не люблю. Лучше остановимся здесь. Зная свои проклятые привычки, я перед отъездом зарезал курицу да еще сыру прихватил.
Лексо остановил машину на обочине дороги и вытащил из кабины сумку с провизией.
Вдоль дороги, с обеих сторон, росли посаженные двойными рядами акации. Деревья были усеяны птичьими гнездами. Никогда не приходилось Шавлего видеть столько гнезд на одном дереве.
– Здесь приличные рестораны встречаются только в больших городах. А так все одни чайханы. Зайдут в чайхану азербайджанцы, усядутся и дуют горячую воду, точно у них в брюхе большая стирка.
Они наскоро перекусили и пустились дальше в путь.
Вдали, справа вырисовывались на сером фоне фиолетовые горы. Остались позади и эти места, и вновь простерлась вокруг бескрайняя равнина.
Лишь в редких деревнях по пути встречались деревья – оголенные, с простертыми к небу ветвями. Они раскачивались с жалостным видом под порывами леденящего ветра.
Временами где-то вдали, а порой и у самой дороги показывались нефтяные вышки. Они возвышались посреди перепаханных под посевы бурых полей, внося какое-то напоминание о жизни, что-то новое, не схожее ни с чем окружающим, в докучное, мертвенное однообразие равнины.
Шавлего плотно завернулся в бурку и опять откинулся на спинку сиденья.
«…Человек скован, связан по рукам и ногам уже в материнской утробе. Как только он выйдет на свет и перережут пуповину, начинается его стремление к свободе. Но уже наготове пелены, ремни колыбели. Он плачет, кричит, изо всех сил старается разорвать путы. И вот, после того как он в короткий срок пройдет определенный ему строжайшим регламентом путь – путь, на который его первоначальный предок потратил более миллиона лет, – сразу после того, как в больших полушариях его мозга появится зародыш мышления, – человек снова оказывается на привязи: его удерживает пуповина нравственности. А впоследствии привязь постепенно удлиняется, – так отдают веревку коню, пущенному на подножный корм. Удлиняется до тех пор, пока лошадь не дотянется до засеянного под огород участка или до плодовых насаждений. А тогда… Дай человеку полную свободу, и он тотчас же совершит безрассудство. Он сам от века это знает и потому-то сам же создал законы, ограничивающие его волю и прихоти. Иногда достаточно самой малости, чтобы человек очутился на краю гибели. Часто самые невинные на первый взгляд вещи обладают огромной взрывчатой силой. Они – как минированное поле: один неосторожный шаг – и… Вот почему, должно быть, человеку нужно так мало, чтобы почувствовать себя счастливым… Или несчастным… А несчастье – это тот пробный камень, который наилучшим образом помогает нам выявить нашу глубоко запрятанную человеческую сущность. Наш разум – это наш компас, и горе тому, у кого компас откажет как раз в минуты самой крайней его необходимости… Флора права… Многое зависит от случая…
Флора…
Любое живое существо, начиная с инфузории и кончая китом, борется за свое место в той среде, в том обществе, что созданы для него матерью-природой. На Джавахетском плоскогорье, близ озера Таваравани, рос некогда густой лес. А потом долго боролись между собой густые травы и могучие дубы. И случилось невообразимое: трава победила дуб, постепенно вытеснила его со всей территории. Она так плотно переплетала свои стебли и листья под деревьями, вокруг стволов, что падающий с ветки желудь не мог достигнуть земли и прорасти в почве: упав на травяной долог, он иссыхал, терял жизненную силу под ветром и солнцем… Следовательно, то, что для одного – благо, для другого – зло. Единство этих двух начал стоит у истоков самого общества. И все, что время от времени в обществе происходит – закономерно. Каждый гений, добрый или злой, продвигал общество на один шаг вперед или назад. Эпохи упадка сменялись веками возрождения. И всякий человек творил для общества в меру тех сил, какими его одарила природа… Впрочем, нет, я не понимаю людей, стремящихся совершать то, на что им не отпущено ни сил, ни способности. Быть может, не обязательно помнить о существовании в грандиозном механизме маленьких, незаметных винтиков? Но честолюбие человеческое – это то самое чудовище – маджладжуна, которое навалилось на тупой разум многих и многих и терзает его на протяжении десятилетий… Вот как тот чудак… Двадцать лет работал над кандидатской диссертацией в публичной библиотеке… Пришел однажды и под большим секретом сообщил мне, что открыл в «Свадьбе соек» Важа Пшавела идеи коллективизма, устройства жизни на общественных началах…
Важа Пшавела!
С какой легкостью замахиваются на гениев карлики, жалкие ничтожества!
Зависть и честолюбие!
Зависть и честолюбие!
Вот, например, Алуда Кетелаури…
Почему принято думать, что конфликт между общиной и личностью в этой поэме возникает лишь из-за нарушения обычая отсекать руку у сраженного врага? Или что изгнание Алуды из племени означает будто бы лишь отрицание христианской морали? Огромную роль в коллизии всей поэмы играет обыкновенная человеческая зависть. До сих пор никто не обращал на это внимания. Испокон веков зависть – движущая сила множества низменных поступков, совершаемых людьми. Когда Алуду обвиняют во лжи и трусости, то первая, и самая важная, причина этого – зависть. Люди знают, что Алуда – доблестный воин. Знают также, что он у многих убитых кистин отсекал десницу. Не забывают и о том, что он обычно садится в головах Совета, и слово его было всегда веско и разумно. Неужели трудно догадаться, что если бы он убежал от Муцала, то не мог бы принести отсеченную руку его брата? Очень хорошо все это знают и именно потому лопаются от злости. Так водится исстари: карлики, не способные дотянуться до лица гиганта, пытаются испачкать сажей хотя бы его ноги. Почему Миндия, с одним лишь копьем уложивший двенадцать кистин, не разделяет мнения других? Потому, что он сам – богатырь, доблестный воин, если не больший, чем Алуда, то, во всяком случае, равный ему. Миндия доказал сомневающимся, что Алуда сказал правду.
Но это еще больше раздразнило завистников.
Алуда видит, как злятся хевсуры, как их грызет досада, но у них нет никакого повода, чтобы придраться к нему. Алуда, этот великий гуманист, который даже раньше создателя баллады о юноше и барсе сказал: «Думаем – одни мы в мире, мать лишь нас одних взрастила…» – вот этот самый Алуда совершает еще более мужественный, доблестный поступок – приносит жертву святыне, чтобы помянуть душу своего храброго врага, и этого достаточно, чтобы завистники разъярились до неистовства.
Теперь уже у них есть достаточный повод, чтобы срубить могучий дуб, в тени которого они ползают. Чем больше они ощущают, насколько возвышается над ними Алуда, тем решительнее осуждают его на отвержение от племени и на изгнание. К тому же в них пробуждается и другой, еще более низменный инстинкт – жадность. Ведь имущество отверженного, по закону, конфискуется и распределяется между его соплеменниками.
С этим несправедливым, бесчеловечным приговором не согласен только Миндия – человек, равный Алуде по духу и доблести. И в знак того, что он и сам теперь бессилен перед решением племени, Миндия скрещивает руки на груди. А сочувствие к отверженному вызывает у него слезы.
Так что истинная причина изгнания Алуды Кетелаури из племени затуманена, скрыта вуалью христианской морали…
Вдруг Шавлего понял, что у него сейчас полнейший хаос в голове.
Неужели утомительное однообразие окружающего, дорога и одиночество естественным образом рождают такой разброд в мыслях?
«…Почему я вспомнил об Алуде Кетелаури и о завистниках? Без причины на свете ничего не бывает. Наш дух, в любом положении, незаметно для нас, толкает наше сознание в ту сторону, вынуждает его работать в том направлении, какое соответствует внутренним нуждам этой минуты. Бывало, что, по необъяснимым для нас причинам, величайшие проблемы разрешались людьми во сне… А все же с чего я вспомнил о завистниках? Неужели я обладаю чем-нибудь, что может вызывать зависть ко мне? Закро? Нет! Тут что-то другое. Дядя Нико? Гм… вот тут уже стоит задуматься. Мне с ним делить нечего. И все же я верю интуиции – не зря же всплыл в памяти этот человек! Ну-ка проследим, углубимся… Дядя Нико… Дядя Нико… Ах, Реваз! Вот оно что просочилось… Кажется, догадался. Как только вернусь с фермы, зайду к Теймуразу и займусь этой грязной историйкой. Положу этой пакости конец. Надо и с Ревазом еще раз всерьез поговорить. Никаких обиняков, я потребую от него выполнения долга – долга настоящего человека и мужчины… И ребят своих я забросил – вот уже несколько дней… Впервые в моей жизни я, кажется, растерялся… Неужели в самом деле растерялся? Эй, эй, Шавлего! Чтобы не было этого! «Как раствор в старинной кладке, отвердеть в беде ты должен». Впрочем, в какой беде? Увижусь с Русудан, поговорим – и все войдет в свою колею. Русудан, моя славная Русудан!..»
– Ша-абаш! Все. Сегодня до наших овчаров мы уже не доедем.
Шавлего смотрел на водителя непонимающим взглядом.
– Стемнело совсем, не видишь, что ли?
Сейчас только Шавлего заметил, что настала ночь. Вокруг ничего не было видно, кроме дороги. Лишь справа неоглядная водная гладь переливалась при свете отраженных в ней огней.
– Это озеро, искусственное озеро. Куру запрудили – водохранилище.
– Почему не доедем? Ехать много осталось?
– Немало.
– Фары светят у тебя хорошо?
– Хорошо.
– Так что же тебя заботит? Если устал, я сяду за руль.
Лексо улыбнулся:
– Я могу всю ночь не выпускать руля из рук – и глаз не сомкну.
– Ничего не понимаю.
– Вокруг нас – степь, голая как ладонь, конца-краю ей нет. Даже и днем трудно в этой пустыне ферму разыскать. А в темноте мы наверняка собьемся с дороги, и бог знает где у нас кончится бензин или спустит баллон. Не волки же мы, чтобы среди зимы ночевать в чистом поле?
Шавлего долго сидел в молчании.
– В Сальянах есть гостиница?
– Есть плохенькая.
– Переночевать пустят?
– Даже обрадуются.
– Так что тебя заботит?
– Ничего. Просто проголодался и хочу поесть осетрины.
– Где ты ночью осетрину найдешь?
– Кто умеет – найдет.
Когда город остался далеко позади, Шавлего спросил:
– Что это был за город?
– Сальяны.
– Решил все-таки ночевать в степи?
– Почему в степи? Еще немного, и доедем до Кара-Юлдуза. Есть такая деревня. Там животноводческое хозяйство – буйволов разводят. Директор – мой кунак. С Максимом тоже в дружбе. Он нам будет рад. Зовут его Дауд, но мы называем его Давидом. Хоть в чистых постелях спать будем. К тому же хочу угостить тебя осетриной. Не знаю, как ты, а я очень проголодался. А утром – парное буйволиное молоко. Мацони у них такое густое, хоть кинжалом режь. А к нему – осетрина и сазан. Сегодня вечером будем кутить! А агроном наш… она на ферме хоть несколько дней да останется.
В Кара-Юлдуз въехали поздно вечером.
Лексо был прав. Гостеприимный хозяин в самом деле им обрадовался. Он радушно приветствовал кунака и повел гостей в дом.
– За машину не беспокойтесь, у меня отличные собаки. Да сюда ко мне никто и ногой не посмеет ступить.
И он послал на кухню хозяйку, уже собиравшуюся ложиться спать.
Через четверть часа крепкий ароматный чай дымился в узорчатых хрустальных стаканах.
– Давид, ты же знаешь, что я с чаем не в ладах. Проводи-ка меня на двор, чтобы собаки не набросились!
Они вернулись через несколько минут. Дауд с радостным видом нес трехлитровый штоф виноградной водки – чачи.
Под мышкой у Лексо торчал бурдючок.
– Это из запаса для пастухов?
– Нет, что ты, разве я до пастушеского пальцем дотронусь?
– Откуда же ты все это взял?
– Свое привез – в кузове были уложены, между мешками с ячменем. С пустыми руками к Давиду я не могу приехать.
В ту ночь попировали на славу.
Дауд оказался прекрасным собеседником. Он окончил бакинский ветеринарный институт и был образованным человеком. Высокий, смуглый, красивый, с типично кавказским лицом, он любил поэзию, в беседе с гостями поставил Руставели и Низами чуть ли не выше самого бога, помянул Леонидзе и Самеда Вургуна… Потом взялся за тари и спел баяти.








