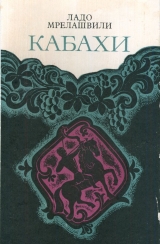
Текст книги "Кабахи"
Автор книги: Ладо (Владимир Леванович) Мрелашвили
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 48 (всего у книги 62 страниц)
Когда Закро пришел в сознание, операция была уже давно окончена. Внезапно, к собственному изумлению, он почувствовал, что в животе у него кто-то сидит. Это было тупое ощущение – непрошеный гость сначала тихонько, осторожно разгуливал внутри Закро; однако это длилось недолго: пришелец ускорил шаг, а там и устроил целую скачку с препятствиями – бегал, прыгал, натыкался на все, что попадалось по пути, и все это – совершенно бесцеремонно; он оттоптал бедняге борцу все внутренности. Потом схватил нож и стал крошить его кишки. Нож был ледяной и совершенно тупой. Пришелец словно втыкал вилку и, придерживая ею кишку, пилил и пилил тупым лезвием. Измучил, измотал вконец Закро. Тот сначала честью просил его хотя бы наточить нож. Потом сказал по-мужски, чтобы пришелец бросил валять дурака. И наконец, когда ничего не подействовало, раскричался, заметался.
Непрошеный гость рассердился, отбросил нож и вилку и принялся рвать кишки прямо голыми руками.
Что тут было делать бедняге Закро? Сила солому ломит, он покорился и снова перешел к просьбам.
Джигит в животе на этот раз снизошел к просьбам, перестал рвать кишки и снова вооружился ножом и вилкой. Потом наконец бросил и их, пощипал еще недолго здесь и там и унялся.
– Вот так, добрый человек, – с трудом перевел дух Закро. – И сам немного отдохни, и мне дай роздых.
– Заговорил! Слышите – он что-то сказал, видите – открыл глаза, доктор, открыл глаза!..
Густой, молочно-белый туман клубился вокруг. Вся земля была застлана туманом. Туман порой становился чуть реже, клубы его рассыпались, наплывали друг на друга, но все же пелена была непроницаема.
– Доктор, доктор, будет он жив?
– Очень уж много крови потерял. Организм молодой, сильный – посмотрим. Пока трудно сказать.
– Боже, какая я несчастная! Боже, чем я навлекла на себя твой гнев?
– Тише, тише! Перестаньте плакать. Больному необходимы тишина и покой.
Голос был слышен прекрасно. Все слова можно было разобрать. – Только вокруг густел туман, непроглядный молочный туман.
– Как пульс?
– Учащенный, но очень слабый. Большая потеря крови.
– Боже, какая я несчастная, какая несчастная! – шептал чей-то голос. – Закро, Закро, открой глаза, Закро! Открой еще раз, хоть на мгновение, Закро!
– Перестаньте, пожалуйста, нельзя же так! Иначе я буду вынужден попросить вас оставить палату. Ну-ка, еще один укол кофеина, и отойдите от постели.
Откуда-то издалека, из глубины густо-молочного тумана, доносился голос.
Где-то журчал ручеек. Закро почувствовал мучительную жажду. Но где взять воду? В тумане ничего не было видно. Только слышался голос – нежный, сладостный, желанный.
* * *
Первой опомнилась Кето.
Купрача бросился за машиной, подкатил ее к входу. С трудом высвободили из судорожно сжатой руки Закро окровавленный нож.
Нелегко оказалось перенести раненого в машину. Кето села первой и всю дорогу держала голову Закро на коленях.
Потом целый век ждали окончания операции. На счастье, врач попался прекрасный – известный хирург Джанаридзе оказался на месте.
Нож проник через мышцы живота и жировой покров в брюшину, рассек в четырех местах тонкие кишки и вышел наружу рядом с почкой у поясницы. Операция тянулась долго. Еле очистили брюшину от сгустков скопившейся крови.
По лицу Кето градом катились слезы. Как медсестре ей было позволено помогать во время операции.
– Запоздали бы еще немножко – и могло оказаться поздно, – сказал хирург, закончив операцию.
– Выживет, доктор?
– Если не будешь плакать, выживет. Муж?
– Нет, не муж, нет, нет, не муж. Господи, какая я несчастная, какая несчастная!
Всю ночь сидела Кето у изголовья больного, не сводя с него глаз.
За это время Закро совершенно утратил свой здоровый, цветущий вид: румяные, крепкие щеки его запали, поразительно удлинившийся нос доставал до иссиня-бледных губ.
Всю ночь Кето бережно вытирала ему лицо, непрестанно обливавшееся холодным потом.
И только когда он впервые приоткрыл глаза и зашевелил губами, в ней пробудилась надежда.
Кето догадалась, что больной просит пить.
Жажда появилась у него сразу после того, как перестал действовать наркоз.
Девушка намочила платок и увлажнила ему губы.
Две ночи не смыкала глаз Кето. Сама делала уколы камфара и кофеина, никого больше не подпускала. Часами следила, как капала кровь из ампулы, как переходила живительная жидкость из резиновой трубки в вену больного.
На второй день у раненого вздулся живот.
Началась решающая схватка Закро со смертью.
Никогда еще никем не положенный на лопатки богатырь лежал, растянувшись на спине, и икал.
Икота началась, когда в брюшине стали скапливаться газы.
Закро икал часто и непрерывно. Он измучился, изнемог, потерял даже те небольшие силы, которые вернули ему перелитая кровь и физиологический раствор.
Дыхание участилось, стало поверхностным.
Брюшной пресс уже не принимал участия в дыхании – лишь в горле еще билась жизнь.
Поспешно явился врач, пощупал пульс.
– Сто тридцать. Теперь все зависит от самого организма.
У больного был уже потусторонний вид. Губы пересохли и потрескались. Дыхание стало едва заметным. Он ловил воздух, широко раскрыв рот. Обмякший, покрытый белым налетом язык беспомощно подрагивал в пересохшем рту. Безнадежным взглядом смотрели на белый потолок больничной палаты запавшие, обведенные черными кругами глаза. Слабый голос вырывался из едва шевелящихся губ – больной непрерывно просил пить.
– Не надо влажной тряпки, дайте ему ложку, мокрую ложку. – Врач подсовывал под одеяло резиновую трубку.
Кето, измученная, с распухшими от бессонных ночей веками, стояла около постели и смотрела, как больной с удовольствием сосет холодный металл.
Без малого три дня продолжалась схватка со смертью – и снова Закро оказался победителем. На четвертый день боли утихли, губы слабо порозовели, лицо заметно переменилось и самочувствие стало гораздо лучше.
А когда на седьмой день больному дали первую чашку бульона и он, выпив его, с сожалением посмотрел выкаченными, голодными глазами на дно опустошенной посудины, Кето упала на колени у изголовья постели и попросила у него прощения.
Шавлего отдал ребенку коробку с шоколадом и игрушечную железную дорогу.
– А где остальные?
– В саду, с матерью, – Теймураз подвинул гостю стул. – Как ты разыскал мою берлогу?
– А что, здесь, по-твоему, можно заблудиться?
– Ну, в этот тупик ко мне редко ходят. Ленятся искать.
– Только одна комната?
– Есть еще кухня. Без гостей обедаем там.
– А еще называешься секретарем райкома!
– Что делать… Вот дети подрастут – устроятся получше.
– А жена не бунтует?
– Представь себе, нет. Как-то получилось, что мы с женой понимаем друг друга.
– Счастливый человек! Детей у вас по-прежнему четверо?
– Вот тут жена меня прижала к стенке. Говорит, пока не будем иметь две комнаты – хоть через обмен, – больше ни одного не рожу.
– Что ж, почти правильно. Ребята твои тоже тушины?
– Стопроцентные! Ни капельки хевсурской крови.
– Уже и тушин над хевсурами смеется! Разве не вы сами твердите: «Хоть и тушин я, но хорош»?
– Что в этом плохого?
– Ничего, кроме «хоть» и «но».
– Что ты сегодня так яростно на тушин ополчаешься?
– Рассержен на них.
– Чем тебе не угодили?
Шавлего сел на стул и подался вперед.
– Слушай, как же вы оплошали, что три тушина не могли разобраться в деле одного кахетинца!
– Что за дело, какой кахетинец? О ком ты говоришь?
– Разве не ты командировал в Чалиспири Бекураидзе и еще одного инструктора по делу Реваза Енукашвили.
– Ах, Енукашвили! Знаю. Это насчет самогона, да?
– Вот именно. Чем он вам не пришелся, этот человек, – никого похуже не встречали или ничего о нем не слыхали? Нашли частного собственника, нашли вора и врага колхозного строя! Что вы к нему прицепились?
– А ты все по-прежнему за него заступаешься? Один раз я его вызволил из неприятностей, но больше мне уже совесть не позволяет. Да и тогда, если бы не уважение к тебе… Впрочем, я и теперь усомнился в его виновности – всёгда знал его за дельного работника и хорошего парня. Но помочь ему ничем уже не мог. Два раза ездили в Чалиспири из райкома и собрали доказательства. После первого расследования, по правде сказать, я попытался замять дело, и мои тушины высказались в том же смысле. Но явился сам дядя Нико, потребовал вторичного расследования – и все подтвердилось.
– Что подтвердилось?
– Что он гнал водку частным образом. Завел винокурню.
– А ты знаешь, кому он эту услугу оказал?
– Все равно кому – важен факт.
– Мне он водку гнал.
– Вот ты сам и признаешь.
– Нищей, заброшенной, почти бездомной старухе.
– Но ведь гнал?
– И еще одному забытому богом и людьми, одинокому, не очень-то крепкому умом бедному человеку.
– И вот именно у этого бедного, одинокого человека он берет в уплату хеладу водки – и не стыдится смотреть после этого в лицо людям.
– Кто взял плату, дружок, – Реваз?
– Да, Реваз.
– Реваз взял у Бегуры кувшин водки?
– Чему ты удивляешься? Да, у Бегуры.
– Кто, Реваз? Нет, право, этот человек сведет меня сума! – Шавлего встал и заходил по комнате. – Чтобы Реваз позарился на чужое? Да я скорее поверю, что робот родил ребенка.
В дверь позвонили.
Теймураз вышел.
Шавлего присел на корточки около мальчика и стал вместе с ним укладывать пути и сцеплять игрушечные вагоны.
– Ростом прислал за нами, – сказал, вернувшись, Теймураз. – Приглашает к Геге на хинкали.
– Я-то при чем? У вас, наверно, деловой разговор. А хинкальная Геге – ваше подполье? Насколько мне помнится, ты уже однажды приглашал меня к Геге.
– Это хороший человек. Знаешь, кто он? Племянник композитора Нико Сулханишвили.
– Ого! А сам он что собой представляет?
– Был борцом, и притом хорошим. Но однажды ему устроили встречу с Мекокишвили, и после этого он бросил борьбу.
– И вы его назначили заведующим столовой?
– Да, он почти с того самого времени и работает.
– Да, теперь это в моде – устраивать старых спортсменов на уютные и выгодные места. Только, по-видимому, Геге – человек районного масштаба…
– Какая там выгода, дружок! Вызвали его на днях в райком. Какой-то посетитель прислал жалобу. Геге явился и говорит: «Я тут ни при чем». Но и жалобы посетителя не отвергает. «Весь свет, дескать, так делает – что ж, мои повара и официанты должны быть единственным исключением? Если хотите меня выставить, так и скажите. Моя должность приносит тридцать рублей в день. Зайду вечером, возьму их и ухожу домой. Остальное не мое дело. Хотите, снимайте. Все равно пенсию дадите, меньше не будет».
– Для завстоловой он, выходит, честный человек. Ладно, пойти с тобой я пойду, но есть не буду. Я все секреты знаю от моего Купрачи – из чего и как в столовой делают хинкали.
– Эти секреты и нам известны, и поэтому мы изволим кушать только яства, изготовленные по заказу. Что делать, братец, это у нас действительно слабое место. Снимай людей, назначай других – все равно, кто бы ни был, выдержит неделю и падет в неравной борьбе. Есть только две возможности: или вовсе упразднить дело, или примириться. А упразднить нельзя.
– Примирение с судьбой – философия слабых. И ты думаешь, это у вас единственное слабое место? По-твоему, в этой истории с Ревазом Енукашвили вы были на высоте?
– Мы еще очень снисходительно отнеслись к этому парню, я бы сказал – даже слишком уважительно. Он заслуживал примерного наказания.
– Вы не к Ревазу, а к дяде Нико уважительно отнеслись. И выполнили в точности то, что он задумал.
– Закон есть закон, мой друг. Нарушение его я не мог бы простить родному отцу.
Шавлего остановился, резко обернулся к сидевшему на тахте хозяину дома и встал перед ним, засунув руки в карманы.
– Ты юрист, Теймураз. И знаешь, что законы создаются и существуют для блага людей. Кровную месть, сохранившуюся еще кое-где среди горцев, мы преследуем, так как она ничем не отличается от убийства. Я не отрицаю, что гены играют большую роль в формировании организма и психики. Но человек все же преимущественно – продукт воспитания. Я ненавижу все, что унижает и мельчит в человеке человека.
Теймураз бросил искоса взгляд на ребенка, взиравшего на старших с раскрытым от изумления ртом.
– Мы никогда дома не повышаем голоса. Немножко тише, пожалуйста, а то мальчик подумает, что мы ссоримся.
Шавлего ласково потрепал мальчика по курчавой голове и прицепил вагончик, который тот держал в руке, к игрушечному составу.
– Хороший мальчик… Если только, когда вырастет, не станет занимать, как отец, примиренческую позицию в разных делах.
– Тот, кто убьет в заповеднике оленя, Шавлего, не имеет права упрекать за такой же проступок другого охотника.
– О чем притча?
– О Купраче. С каких пор он стал «твоим»?
– Ах, Купрача… Купрача – другое дело. Это совсем иного толка человек. И все-таки ты прав, только не полностью. Я этого Купрачу заставлю, как пеликана, изрыгнуть все, что он поглотил, перед моими птенцами. И все это делается так, что я ему даже и намеком не давал ничего понять.
– В этом вопросе у нас с тобой разные точки зрения… А вот Реваз… Скажу тебе правду: я не голосовал за его исключение из партии.
– Но ведь молчание – знак согласия?
– У меня не было никаких причин действовать иначе. И я не чувствую в этом деле за собой никакой вины.
– Послушай, Теймураз: если я – одна из спиц колеса, которое переехало прохожего на улице, то на мою долю приходится ровно столько вины, сколько на долю любой другой спицы.
– Изволь соблюдать правила уличного движения, и никто тебя не переедет.
– Ты забываешь, Теймураз, что избежать аварии можно только в том случае, если правила движения соблюдаются обеими сторонами. Чтобы знать море, недостаточно загорать на пляже и купаться. Почему ты не прислушался внимательнее к Бекураидзе и Утургаидзе? Разве можно довериться Вердену? Место ли среди вас этому бездарному карьеристу? Разве он что-нибудь понимает в людях? Так же, как, впрочем, этот ваш живой покойник, спаси господи его душу, ваш секретарь, как там его отчество, «какович» он, запамятовал.
– Я ни к кому никогда на «ич» не обращался и себя никому не позволяю так называть.
– И прекрасно делаешь. Как можно, чтобы человеческими судьбами единолично распоряжался такой человек?
– Пойми, Шавлего! Если бы даже Енукашвили гнал водку для одного тебя и ничего не взял за это, все равно его нельзя было бы оправдать. Я сочувствую ему, но помочь ничем не могу.
– Ну вот видишь, какая-то часть вины падает и на тебя. И не только на тебя. В большей или меньшей мере мы все виновны, все грешны. А грех и благо мерятся на дозы. Запомни: до тех пор, пока понятие «человек» не будет поставлено выше, чем понятие «лицо», всякий, кто не станет рассматривать вещи и явления с точки зрения этого лица, окажется виновным. Даже дети в группе для педагога не все одинаковы. Необходим индивидуальный подход.
– Не учи меня, сколько будет дважды два. Мне и та, прежняя история с четырьмя мешками пшеницы, оставленными будто бы на хранение у соседа, потому что оттуда недалеко до поля, до сих пор кажется подозрительной.
– Почему ты забываешь, Теймураз, что это было семенное зерно?
– Тем хуже! Как он посмел присвоить семенную пшеницу?
– Ох, Теймураз, Теймураз! Ты что, ничего не понимаешь в сельском хозяйстве?
– Не понимаю?
– Почему тебе не приходит в голову, что Реваз был тогда бригадиром, а он-то знает сельское хозяйство?
– При чем тут это?
– Как – при чем? Разве вор украдет когда-нибудь семенное зерно?
– Почему же нет? Совесть не позволит или какие-нибудь профессиональные соображения?
– Ах ты настоящий тушин, ах ты овчар! Семенное зерно опрыскано ядохимикатами, понимаешь ты или нет, человече? А отравленная пшеница никому ни на что не нужна, поскольку ее нельзя использовать. Прошлой осенью, например, поля на берегу Алазани плохо заборонили, и зерно, оставшееся на поверхности, расклевали фазаны. Так вот, пастухи чуть ли не каждый день находили по краям засеянных полей мертвых птиц. Чуть было их вовсе не истребили. Чудак человек – ведь сейчас не первые годы коллективизации, чтобы каждое не вполне обычное, но в конечном счете не такое уж необдуманное действие называть вредительством или хищением? Да и чего тут особенно раздумывать, если нужно укрыть от дождя на время семенную пшеницу, – разве не естественнее всего забросить ее в дом К какому-нибудь колхознику на краю деревни, поближе к засеваемому участку? Чего они так поторопились схватить парня и доставить его в Телави? Подождали бы до завтра, посмотрели бы, что он собирается делать. Если бы распогодилось, а он все-таки не вывез зерно в поле, – вот тогда можно было бы уже к нему придраться. А вы верите, как священному писанию, всему, что наплетут двое или трое явно заинтересованных людей! А народ, его голос – неужели вы в самом деле считаете его за бессмысленную толпу? Ошибаетесь, глубоко ошибаетесь! Вы же видели, чуть ли не полсела явилось в Телави свидетельствовать о невиновности этого человека! А почему? Потому, что крестьянин знает: семенное зерно не идет в помол, не годится в пищу. А для посева – кто же теперь сеет хлеб на приусадебном участке? Все это известно крестьянину, потому все они и пришли с уверенностью свидетельствовать в пользу Реваза. Ну-ка подумай, разве я не прав?
– Черт бы тебя побрал, кажется, прав. – Теймураз тер себе лоб и пристально смотрел приятелю в глаза. – Но как же с водкой? С этим куда денешься? Скажем, он гнал водку тебе и еще двум соседям – все равно нельзя это оправдать.
– Послушай меня, Теймураз. Ты много не знаешь до конца, да я и не виню тебя за это, потому что невозможно все исследовать и узнать до основания. Все это – нечестная игра, с подтасованными картами. А подтасовал колоду дядя Нико, потому что он имеет зуб на Реваза. Прежде всего он не принимал у парня виноградных выжимок для перегонки на колхозную винокурню и позаботился о том, чтобы их не приняли нигде поблизости, в соседних колхозах. А выжимок у Реваза было много, и выбрасывать их неиспользованными было жаль. Да и если бы мало было – зачем выбрасывать? Разве колхозник в течение целого года кружит над каждым виноградным кустом и лелеет его для того, чтобы потом выбросить плоды своего труда? Ревазу был оставлен единственный путь: самому, у себя дома гнать из собственного сырья виноградную водку. Вот именно на это и рассчитывали его враги. И этот несчастный Бегура невольно оказался участником заговора. Ему сказали, что Реваз перегонит ему чачу даром, – он и польстился. Правда, под конец совесть не позволила принять даровую услугу, и он оставил кувшин водки старухе матери Реваза, сам не зная, что из этого выйдет. Окажись дома Реваз, ни за что не принял бы этой платы.
– Не тебя, а меня черт побери! – бурчал Теймураз, потирая себе лоб. – Все это действительно похоже на правду. Отчего ты раньше не пришел и не рассказал все это?
Шавлего ничего не ответил. Он продолжал мерить шагами комнату.
Несколько мгновении прошло в молчании.
– И сам ты чего смотрел до сих пор?
Тонкие губы Шавлего – сложились в ироническую улыбку.
– У меня мое дело. У каждого есть свое дело. – Голос у гостя был глухой, неприятный, злой. И лицо, пожалуй, было не таким, как обычно.
«Что случилось сегодня с этим человеком? Какое-то у него странное настроение!» – подумал Теймураз.
– Ладно перестань бегать, как будто тебя вожжой огрели, садись. А то у меня уже шея заболела следить за тобой, как будто ты на качелях качаешься.
– Каждый из нас качается на своих качелях… Пока веревка не– оборвется.
– Ты сегодня что-то настроен философствовать.
– Надо короче знать людей, надо ближе к ним подходить, если хотите знать, чем живет каждый человек, что у него за душой. Уж не забываете ли вы порой, кто совершил революцию, с какой целью и для кого? Осторожней, товарищи руководители! Один опрометчивый шаг – и можно погубить человека, физически и духовно. Помните всегда: ваше слово имеет силу закона. Опьянение властью – самый отвратительный недуг. Человечество, еще не видело ничего путного, созданного в опьянении. Каждая мелочь, связанная с человеческим достоинством, с моралью, должна быть рассмотрена трезвым глазом и взвешена тщательным образом. Необдуманно и бесцеремонно плюют в душу людям лишь скудоумные люди, развращенные властью, – и часто бесповоротно губят всю жизнь чёловека с недостаточно сильной волей.
– Ты прав, ты совершенно прав… Но вот что скажи: у вас семенное зерно опрыскивают уже на складе или в. поле, перед самым севом?
– По-моему, на складе, – насторожился гость.
– Надо проверить… Только очень осторожно. Надо выяснить это обстоятельство, и, если подтвердится, что зерно было вывезено в поле уже опрысканным ядохимикатами, твой Реваз будет восстановлен в партии. Мне кажется, мы сможем восстановить его и во всех остальных его правах. Тогда я скажу, что наложенное на него наказание не заслужено. Это ужасная травма для честною человека. Я догадываюсь, в каком состоянии сейчас бедный парень!
– Боюсь, что твое сочувствие запоздало, Теймураз. Иной раз одна беда приводит за собой множество других, одну за другой. Была та пшеница заранее опрыскана или нет – мне противно спрашивать об этом и выяснять это обстоятельство. Надо просто знать человека. И знать, на что он способен, а на что нет. Разве может присвоить чужое тот, кто раздает свое? А тем более наложить руку на колхозное добро? Это самая грязная клевета, какую можно возвести на честного человека! Так опорочить – хуже, чем убить!
– У меня давно уже неладно на душе из-за этого парня и приписываемых ему злодеяний. Но тут еще прибавилось множество слухов: он и гараж дяди Нико взорвал, он и вино у него в марани вычерпал, он и стельную корову председательскую свел и зарезал где-то в овраге…
– Слухи еще не доказательство. Повторяю – надо знать человека! – И чувствовать, какие поступки ему свойственны.
– Но он сам сказал дяде Нико при всем бюро, во всеуслышание: дескать, если не отстанешь, еще худшего от меня дождешься.
– Сам сказал, – что он все это сделал?
– Сначала отпирался что было сил, но потом признался: да, говорит, я все это сделал и, если не отвяжешься, еще хуже будет.
– Послушай меня, Теймураз… Я знал одного убийцу, его застали над трупом жертвы, с окровавленным ножом в руках, и приговорили к десяти годам. Он не отпирался: сказал, что убитый оскорбил его жену и он не мог этого стерпеть… Пять лет провел он на Колыме, в тундре. А через пять лет написал в соответствующие инстанции, что теперь с него достаточно, он отвык от пьянства и пора его освободить. Скачала думали, что имеют дело с сумасшедшим. Потом направили комиссию, и… выяснилось следующее. Человек этот был алкоголиком, пил каждый день и никак не мог отстать от вина, хотя обращался к врачам и сам прилагал всяческие усилия, чтобы перестать пить. Случайно он оказался свидетелем убийства.
Виновный скрылся, оставив нож в теле жертвы. И вот этот пьяница вытащил нож из раны и объявил сбежавшимся тем временем людям и прибывшей милиции, что убийца – он. Пять лет немалый срок, и тебе хорошо известно, что заключенных не балуют спиртными напитками. Когда самозванец-убийца заметил, что потребность в алкоголе у него исчезла, он объявил о своей невиновности. Следственные органы потратили на расследование этого дела два года и наконец обнаружили-таки настоящего преступника… С большим вниманием надо относиться к человеческой природе, Теймураз. Нельзя бездумно полагаться на слова человека, надо присмотреться, поразмыслить: а что его вынудило это сказать? Что заставило так поступить? – Шавлего долго в задумчивости ходил по комнате и вдруг повернулся к хозяину. – Да простит меня великий Дарвин, но почему-то я не верю, что происхожу от обезьяны или другого подобного ей животного… Хотя поведение многих моих собратьев наводит на такое предположение.
В изумлении смотрел на гостя Теймураз. Словно в первый раз видел он старого друга. И в душе называл себя «тупицей», «дубиной»: почему все это не пришло в голову ему самому? Потом покачал головой и сказал с сожалением:
– Ты сегодня поистине открыл мне глаза, Шавлего. Я сам теперь возьмусь за это дело. Я сам все расследую и выясню. И если дядя Нико в самом деле… Тогда пусть побережется! Но как же корова, гараж, машина, вино?
– Это дело милиции… Кстати, мне было приятно узнать, что вы восстановили Джашиашвили. А как с начальником?
– Начальнику пришлось собрать пожитки. Серго и председатель райисполкома ездили в Тбилиси.
– Значит, вы выиграли первый раунд. Желаю успеха и в дальнейшем.
– Постой, что ты заторопился?
– А хинкали? Раздумал меня угощать?
– Ах да, совсем забыл… Ростом небось ждет нас не дождется. Сейчас, дай только одену ребенка. Заодно покажем тебе свежий номер газеты. После республиканского совещания передовиков-агрономов мы уже второй раз печатаем портрет вашего агронома.
Лицо у Шавлего внезапно омрачилось. Складка на лбу круто изогнулась, сизо-синеватый шрам принял темно-розовый оттенок.
Теймураз заметил внезапное изменение настроения своего гостя. Выйдя за ним в переднюю, он снял с вешалки его плащ.
– Спасибо, Теймураз… за твое обещание и… за приглашение – на хинкали. Только у меня в Телави еще немало дел… Сейчас вспомнил. Так что передай от меня привет Ростому. А поем я позже – еще не проголодался.
Теймураз застыл в изумлении с плащом Шавлего в руках.








