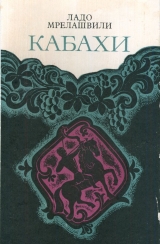
Текст книги "Кабахи"
Автор книги: Ладо (Владимир Леванович) Мрелашвили
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 62 страниц)
– Сколько там будет песку?
– Машин пять-шесть выйдет.
– Как ты думаешь, хватит для новой кузницы?
Кузнец заколебался.
– Так его же учителя просеяли, этот песок, для клуба… Я сам грохот чинил!
– К черту учителей!
Дядя Нико с силой ударил ладонью по столу и соскочил с него.
– Клуб принадлежит колхозу, а значит, и этот песок – колхозный, и просеяли его для меня. На что хочу, на то и употребляю. Пока что нам нужней кузница, а без клуба мы прекрасно обходились до сих пор и впредь обойдемся. Чем занята производственная бригада? Все наши мастера работают на стороне. Кузница должна быть готова через два-три дня. Ступай найди Шио и приведи его ко мне, скажи – иначе я распущу эту их бригаду, а если какой-нибудь каменщик или плотник посмеет брать работу со стороны, буду урезать приусадебные участки. Ну, вали, да побыстрей! Нет, постой, я напишу записку – отдашь ее сторожу в сушилке. Возле забора под орехом лежат трехсаженные бревна. Пусть Леван сегодня же распилит их на балки.
Кузнец схватил исписанный листок и, стуча тяжелыми башмаками, выбежал из комнаты.
Председатель поглядел на маленькую огороженную бамбуком грядку в цветнике за окном и задумчиво проговорил вслух.
– Пойду-ка теперь выведу свою «Победу»… А то, если ось у арбы не смазать вовремя, будет скрипеть.
Шавлего перекинул свое охотничье ружье «геко» через плечо, намотал лесу на удилище и зашагал по пологому спуску.
Неторопливо шел он по тропинке, затерянной среди высокого клевера, поглядывая на стремительно носившихся в воздухе стрижей.
Подсолнечники в поле за Берхевой, чуть склонив широкие головки, окаймленные полуувядшими лепестками, подставляли солнцу, уже склонявшемуся на запад, свои золотистые лица.
А по эту сторону речки тянулись вдоль проволочных шпалер виноградники – притихшие, разморенные духотой и зноем; казалось, им лень пошевелить хотя бы одним широким, резным листом, крапленным голубыми пятнышками медного купороса.
Лишь заботливые, трудолюбивые руки виноградарей не знали роздыха, и жар раскаленной солнечной печи был им нипочем. Между рядами лоз сновали женщины в платках, закрывавших лицо чуть ли не до самых глаз. Они обрезали сверху чересчур буйно разросшиеся кусты. Временами то там, то здесь вздымалось голубое облачко – верный признак того, что любимое растение праотца Ноя опрыскивают бордосской жидкостью.
На краю виноградника торчала ветхая сторожка. Прислонившись покосившимся боком к древнему вязу с обрубленной верхушкой, она печально взирала на четырехугольный цементный резервуар, видневшийся неподалеку.
В тени вяза стояла верховая лошадь с длинной веревкой на породистой шее и поминутно мотала головой, отмахиваясь от надоедливых мух. Временами ей становилось невмоготу, она негромко, угрожающе ржала и хваталась зубами за место, укушенное оводом. Длинный, пышный хвост ее со свистом хлестал по лоснящимся бокам.
К бассейну вышел из виноградника человек в широкополой соломенной шляпе. Скинув со спины пустой опрыскиватель, он зачерпнул из резервуара большой кружкой раствор медного купороса.
Шавлего насилу узнал перепачканного голубым купоросом виноградаря. А узнав, поздоровался, прислонил удочку к стенке сторожки и подошел к коню.
Жеребец при виде его наставил уши, потом вздернул голову, сверкнул глазами, фыркнул и попятился.
Шавлего схватил веревку, заглянул ему в глаза и ласково погладил светло-коричневую гриву.
Трепет волной пробежал по спине лошади от холки до хвоста.
– Узнал! – улыбнулся Шавлего. – Вот, смотри, – повернулся он к виноградарю. – Шея высокая, голова небольшая, ноги длинные, сильные, с тонкими бабками, грудь мускулистая и крепкая. Весь поджарый, легкий, и ноздри тонкие и широкие – превосходный конь!
Жеребец подрагивал и тихо, тонко ржал.
Поставив кружку на край резервуара, виноградарь смотрел на человека и на жеребца из-под сросшихся бровей. Потом быстро налил раствор в опрыскиватель и сказал:
– Тех, кому так покорны животные, женщины обходят с опаской.
Шавлего бросил лошадь и подошел к резервуару.
– К сожалению, это так и есть, Реваз. Наверно, потому я и остался до сих пор одиноким. А запоздалая роза, как известно, рано увядает.
– Ты так же похож на розу, как я на ромашку.
– Насчет ромашки не знаю, а вот на подсолнух ты очень похож в этой соломенной шляпе. Только стебель, пожалуй, чересчур толст.
– Не надоело тебе в деревне?
– Что тут надоедного? Вот я сейчас иду на рыбалку…
– Рыбу ловить лучше с утра… – Реваз нагнулся за кружкой, налил еще раствору в аппарат.
Шавлего поймал взгляд виноградаря, устремленный на его руки.
– Не нравятся?
– Руки у тебя маленькие и нежные. Редко встретишь такие при богатырских плечах…
– Да, маленькие… непривычные к труду и бессильные.
– В таких руках бывает скрыта страшная сила. А женщины – те сходят по ним с ума.
Шавлего улыбнулся:
– Ты так хорошо знаешь женщин?
– Женщин сам черт не разберет.
– А все-таки?
– Была когда-то одна добрая фрау…
– Молодая и красивая?
– Так лет под тридцать. Но правда красивая.
– Когда это было?
– После окончания войны я пробыл еще какое-то время в Берлине. Она говорила мне:
«Герр лейтенант, женщине трудно вас полюбить».
«Почему, фрау Вульф?»
«Потому что вы даже в женском обществе суровы и мрачны».
Шавлего кивнул:
– Женщины, как кошки, любят тепло и ласку.
Он взял здоровенную, обожженную солнцем руку бригадира и стал разглядывать ее ладонь.
Ладонь была огрубелая, шероховатая, с целой сетью извилистых линий, бледно-лазоревых от въевшегося купороса.
Реваз высвободил руку.
– Гадать собираешься?
Шавлего поставил ногу на край резервуара и оперся локтем о колено.
– Правду говорила твоя фрау. Ну и ручища у тебя! И откуда такое берется? Чем обусловлено? Трудом? Наследственностью? Удар такого кулака должен быть смертоносным. Тебе следовало стать боксером.
Реваз отставил в сторону наполненный опрыскиватель.
– Не люблю бокс. У кулачного бойца и вне ринга всегда руки чешутся.
– Руки вообще у многих чешутся, но таким людям надо буйную свою головушку беречь. Бывает ведь и так, что рука виновата, а голова отвечай.
К сторожке подошел маленький мальчик и остановился в нескольких шагах, обрывая зубами листья со стебля лакрицы и поглядывая исподлобья на Шавлего.
– Дядя Реваз, дядя Иосиф привез плуг и велел тебе прийти.
Шавлего обернулся к нему:
– Ты что здесь делаешь, пострел?
Мальчик молчал.
– Ты по-грузински понимаешь или нет?
Мальчик проговорил, потупившись:
– Джон-Буля будем в плуг запрягать, приучать к упряжке.
Шавлего изумился:
– Это что еще за Джон-Буль?
Мальчик мотнул головой в сторону жеребца.
Шавлего глянул на лошадь и засмеялся:
– Какой из тебя лошадиный объездчик, неслух ты этакий?
– Не я, а дядя Реваз и Иосиф объезжать его станут, а я впереди буду идти.
– Ну-ка, дуй сейчас же домой! Тоже мне предводитель нашелся! Да если этот Джон-Буль тебя копытом огреет – только мокрое место останется.
Мальчик отступил в сторону.
– Не уйду.
– Уходи, а то он лягнет тебя или укусит.
– Не уйду.
– Смотри, дедушке скажу, Тамаз! Уж он тебе задаст трепку.
– Пусть задаст.
– Весь в вашу семью, – улыбнулся Реваз. – Помешан на лошадях.
– Ну, так я сам тебя вздую, если не уберешься отсюда.
– Ладно, отсюда уберусь, но домой не пойду. Хочу посмотреть, как Джон-Буля объезжать будут.
– Упряжь налажена? – спросил мальчика Реваз.
– Налажена. И ремень, что был разорван, заменили.
Мальчик оборвал последний листок лакрицы и ушел.
– Скажи, что я опрыскаю еще один ряд и приду, – крикнул ему вдогонку Реваз.
Из виноградника вышел еще один человек. Он обрызгал остатками голубого купоросного раствора последние несколько кустов и побрел к резервуару. Это был глубокий старик, дряхлые его колени подкашивались, он шел мелкими, неуверенными шажками, словно утаптывал землю.
Скинув со спины на край бассейна пустой опрыскиватель, старик затенил узловатой рукой морщинистый лоб и поглядел на незнакомого человека.
– Не узнаешь, дедушка Зура? Это внук твоего друга-приятеля.
Старик опустил руку и устремил свой тусклый взгляд теперь уже на Реваза:
– Какого друга-приятеля, малый?
– Годердзи Шамрелашвили.
Смерив Шавлего взглядом, старик сказал удивленно:
– Та-та-та-та! Как это ты вырос таким, сынок, в болоте, что ли, стоял? Ох и порода у вас, дай бог вам жизни! – Он вздохнул и отер глаза полой фартука, запятнанного купоросом. – Твой родич тоже был богатырь, вот такой же точно. Эх, горько сказать, каких ребят мы потеряли!..
– Кто старше, Зура, ты или его дед?
Зурия задумался, сжал беззубый рот, втянул бледные губы.
– Как сказать?.. Да, пожалуй, Годердзи лет на пять, на шесть моложе меня.
– Не больше? – изумился Реваз.
– Годердзи в горах вырос, сынок, здоровье у него крепкое, неподорванное. Он еще одну молодость износит, как пару калаан. – Старик огляделся с таинственным видом. – Как-то он сказал мне по секрету, что выпустил меченого ворона: хочу, говорит, проверить, правда ли, что эта птица триста лет живет.
– А вам сколько лет будет, дедушка? – спросил Шавлего.
– Уж и не помню, сынок, – снова задумался Зурия. – В ту пору, когда в Телави впервые пришли русские войска, я был мальчишкой лет так тринадцати – четырнадцати. Помню, поставили они палатки под горой Надиквари и весь город оглушили музыкой, все на гармони наяривали.
Зурия взял кружку и стал наполнять опрыскиватель.
– Как ты его с места сдвинешь, дедушка? И ведь надо еще таскать на спине этакую тяжесть, пока аппарат не опорожнится. Неужели не надоело? – спросил Шавлего.
– Эх, сынок, так привязывает к себе человека виноградная лоза. Знаешь виноградники Телиани в Цинандали? Так вот, в этом Телиани я первый целину поднимал. Раньше там лес был непроходимый. А теперь, посмотри, кругом виноградники, глазом не окинешь!.. Вот с тех пор и полюбил я виноградную лозу.
Зурия присел, подставил спину под аппарат и, повозившись, с большим трудом продел руки в наплечные ремни.
– Ну-ка, подсобите малость! – сказал он молодым людям, стараясь приподняться.
Шавлего поддержал одной рукой опрыскиватель и помог старику встать.
Зурия пошатнулся раза два, потом утвердился на ногах, встряхнулся, чтобы поправить аппарат на спине, и, согнувшись под его тяжестью, двинулся напряженным шагом вдоль крайнего ряда кустов. Правой рукой он медленно покачивал длинную рукоятку опрыскивателя.
Реваз проводил старика грустным взглядом.
Обернувшись, Шавлего посмотрел на жеребца.
– Вы в самом деле собираетесь этого скакуна в плуг запрягать?
– Чему ты удивляешься?
– Да ведь это же не конь, а сокол!
Губы Реваза скривились в каком-то подобии улыбки.
– Не настолько еще пошла у нас вперед механизация, чтобы лошадь всюду заменить машиной.
– Вы совсем механизацию не применяете?
– Не всегда и не везде она применима. В виноградниках старой посадки ряды расположены слишком тесно – трактор в междурядье не пройдет, и приходится проводить культивацию с конской тягой.
– Но такого коня – и в плуг… Как же вам не жалко?
Реваз вылил в опрыскиватель последнюю кружку раствора, вскинул аппарат на спину и, извинившись перед Шавлего, легким шагом вошел в виноградник.
Шавлего снова подошел к лошади. Жеребец тихо заржал. Шавлего почесал у него за ушами, ласково притронулся к мягкой морде с бархатными ноздрями. Вспомнил он своего Антониуса, что с тревожным ржанием бегал вокруг него, когда он лежал раненый в лесу возле Гибки, в сорок третьем году. Верный Антониус! Раза два он даже осторожно ухватил зубами отворот его шинели и попытался приподнять распростертого на снегу хозяина. Как он был похож на этого жеребца! И рост почти тот же самый – пожалуй, чуть-чуть повыше, но только чуть-чуть… Жаль, недолго он принадлежал Шавлего, – кто знает, кого он носил потом на своей упругой спине и где его нашла слепая пуля. А может, он жив и сейчас? Тогда ему было всего лет пять или шесть. Что ж, возможно, он и жив, возможно, его тоже, как этого скакуна, собираются сейчас запрягать в плуг…
Шавлего покачал с сожалением головой и взял удочку, прислоненную к сторожке.
«Что это за имя – Джон-Буль? Забавно! Надо же было такое придумать!»
Дорога, змеившаяся среди мелкого кустарника, выбежала в поле. С обеих сторон тянулись пожни. Стога обмолоченной комбайном соломы были похожи на опрокинутые мохнатые шапки чабанов.
Кто-то досужий, пустив собаку в жнивье, шел за нею с ружьем наперевес.
«На перепелок охотится», – подумал Шавлего и тут же, закинув голову, проводил взглядом голубей, с шумом пролетевших над ним.
Дорога повернула налево, в рощицу, шириной не более сотни шагов.
Здесь было тихо, лишь откуда-то доносился мерный топот копыт.
Вдруг совсем близко послышался мужской хохот, а вслед за ним сдержанный женский смех.
В рощицу въехала двуколка.
Лишь на мгновение встретились взгляды Шавлего и агронома. Девушка сразу узнала «деверя Нино», несмотря на его охотничье-рыбачье снаряжение, и улыбка мгновенно сбежала с ее лица.
Шавлего степенно поклонился и отступил в сторону, вежливо уступая дорогу.
Девушка ответила ему холодным кивком и стегнула вожжой мерина, который плелся шагом.
«А загар к лицу агроному», – подумал Шавлего.
Рощица осталась позади. Насвистывая, шел он вдоль свежескошенного поля.
На берегу Алазани он выкопал нескольких червей. Устроившись под ольхой, он наживил одного из них на крючок и закинул удочку.
Он довольно долго сидел, дожидаясь клева, но поплавок и не пошевелился.
Тогда Шавлего вытащил приманку из воды и осмотрел ее. Червяк был целехонек. Насажен он был на крючок по всем правилам…
Шавлего переменил место.
Но здесь тоже рыбы не было и в помине. Он пошел дальше, и едва успел устроиться, как послышались смех и веселые восклицания:
– Ох, Надувной, разрази тебя гром, и чего ты только не выдумаешь!
– Вот умора!
Шавлего приподнялся и посмотрел в ту сторону, откуда доносились голоса.
С десяток подростков, развалясь голышом на прибрежном песке, грелись в косых лучах предвечернего солнца и наблюдали за схваткой двух борцов, возившихся тут же на широкой отмели.
Противники были совсем не под стать друг другу. Один из них, высокий, ухватив за плечи другого, низенького, таскал его по площадке, как собачью подстилку, и притом пускал в ход такие потешные приемы, что зрители держались за животы и изнемогали от хохота.
Ребята хлопали от восторга в ладоши, кувыркались на песке и подбадривали низенького – дескать, не унывай, это ты сам упал, не повалили тебя.
Шавлего заметил: прилетели голуби и сели на ветви сухого дуба, что торчал на утесе за рекой. Он воткнул удочку в землю у края заводи, скинул брюки, положил их рядом с башмаками и, схватив ружье, перебрался вброд на противоположный берег.
Тут он пересек отмель, поднялся по тропинке, протоптанной скотиной, в рощу и направился к сухому дубу.
Временами он спотыкался, прихрамывал – давно уж не приходилось ходить босиком, и было больно ступать голыми подошвами по сухой, спекшейся земле, изрытой копытами животных.
В трех шагах от него выползла из-за куста рыже-красная медянка. Гладкая, блестящая, четырехугольная ее голова была высоко поднята, Змея повернула шею, скользнула по охотнику холодным взглядом блестящих черных бусинок-глаз и неторопливо унесла свое упругое тело в колючую заросль.
– А хороша, проклятая! Отчего зло должно было выбрать себе такое красивое обиталище?
А может, она вовсе и не зла? Разве индейцы из некоторых южноамериканских племен не оставляют детей под защитой прирученной анаконды, когда уходят на охоту? Нет, в змее, так же как в человеке, несомненно существуют два начала – поскольку ее яд может и убивать и исцелять. Недаром медицина избрала это таинственное пресмыкающееся своей эмблемой. Страх, испытываемый нами при виде змеи, – лишь темный инстинкт, не имеющий достаточного основания. Иначе как объяснить историю того отчаянного человека, который провел на ферме, где выводили змей, двое суток, лежа на голой земле, и остался невредим? Что это? Рискованная игра своей жизнью ради сенсации? Или самоотверженное служение науке? Если это делалось для науки – такого человека можно поставить рядом с Джордано Бруно. Только люди, подобные им, достойнейшие из достойных, создавали ценности для человечества!
Несмотря на все старания, охотнику никак не удавалось подобраться к сухому дубу. Колючие кусты сплошной стеной тянулись вдоль тропинки.
Оставалось только спуститься вниз, на берег, и подойти, обогнув подножье утеса. Иного пути не было.
Тропинка привела Шавлего на кукурузное поле. Опаленные зноем растения вздымали, как пики, свои длинные, свернувшиеся на солнце листья; жесткая их изнанка колола и царапала его голые ноги.
Он потратил немало времени, чтобы спуститься со скалы. Потом кое-как пересек камышовую заросль и, согнувшись в три погибели, исчез в лозняке.
Шавлего двигался осторожно, крадучись.
Наконец он остановился, рассчитав, что, должно быть, подошел на достаточно близкое расстояние. Он раздвинул дул. ом ружья ивовые ветви и выглянул в просвет.
На ветке сухого дуба, что высился на краю скалы, сидели рядышком, ласкаясь, дикий голубь и его голубка.
Растопырив крылья и часто перебирая лапками, отбегал в сторону голубок и снова мелкими шажками возвращался к своей подружке, которая поджидала его, нахохлясь и втянув головку. Оба взъерошенные, встопорщенные, они обнимали друг друга крыльями, терлись клювами и так громко, самозабвенно ворковали, что охотник трижды, уже приготовившись выстрелить, опускал ружье.
А подняв его в четвертый раз, так и застыл с прикладом, прижатым к плечу.
В двух-трех вершках от целующихся птиц, в развилине двойной ветви, глаз его заметил четырехугольную, плоскую голову.
Огненно-красная змея, высунувшись чуть ли не до половины, застыла в воздухе. Мелькнул и снова исчез раздвоенный язык.
Охотник не стал медлить и нажал собачку. Раздался сухой, отрывистый треск выстрела.
Испуганные голуби взмахнули крыльями и с быстротой молнии взвились в небо.
А змея повисла, как плеть, на сухом дереве. Медленно сползла она через рассоху, полетела с обрыва и упала у подножья скалы. Отчаянно извиваясь, она била хвостом по мокрому илистому песку.
«Не разучился еще стрелять!» Охотник бросил последний взгляд на издыхающую змею, всадил еще одну пулю в пестрый клубок и ушел.
Он пересек ручей и очутился на острове.
Под высоким осокорем чернела яма, похожая на обвалившийся окоп, – отсюда увозили речной ил.
Шавлего поставил ружье в яму и прилег в тени дерева.
Все вокруг изменило свой вид, на всем лежала печать разрушения, но также и обновления. Остров раньше был весь занесен илом – лишь кое-где зеленела на нем трава. А теперь он зарос камышом и затенен огромными ивами. Раньше вся Алазани, сливаясь в один поток, протекала этой стороной, и там, где сейчас под скалой валялась мертвая змея, был глубокий омут с водоворотом.
С тех пор Алазани, разрезав надвое земли караджальцев, проложила себе через них прямое русло, а часть осиновой рощи превратила в остров.
Большие изменения произошли за это время – в сущности, такое недолгое, – а сколько чего случилось с тех пор, как первое живое существо вышло из океана на сушу? Эх, к черту! Поистине сизифов труд искать начало всех начал, ломать себе голову над этой огражденной железными запорами вековой тайной.
Ну, а Шавлего даже не может толком разобраться, где следует искать первоначальный след грузин, стертый неумолимым бегом времени: в Месопотамии, в Малой Азии или на Кавказе? А может быть, во всех этих местах да, сверх того, еще на Эгейских островах и на полуостровах Южной Европы? Разве не красноречивы геометрические орнаменты на сосудах, найденных в Гриалети? Золотой чаше, наверное, не меньше трех с половиной тысяч лет! Разве исключено, что греческий орнамент, знаменитые «меандры», заимствован ими от нас, так же как миф о Прометее? История подобна красивой женщине, которая утоляет свою страсть к кокетству незначительными приключениями, но самое драгоценное, что в ней есть, хранит для достойного.
Лишь после захода солнца вспомнил Шавлего, что на оставленную им удочку могла пойматься рыба. Он встал, пересек островок и перешел через проток Алазани на другой берег.
На «ристалище» было тихо, борцы и зрители давно ушли домой. Ольха, склоненная над заводью, утратила свою тень, а вода под ней уже не сверкала и не искрилась.
Шавлего остановился и стал в изумлении смотреть по сторонам.
Удочки нигде не было видно.
«Неужели клюнула такая большая рыбина, что вырвала из земли и утащила в реку здоровенное удилище?»
Но где же брюки и башмаки? Или рыбы иной раз выходят на берег, чтобы отомстить рыбаку?
Вот так штука, нечего сказать!
«Это шалости тех самых ребят!»-подумал Шавлего.
Лишь во втором часу ночи, под покровом темноты, незадачливый охотник решился пробраться в деревню.








