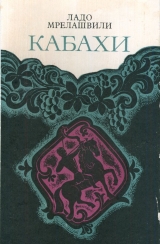
Текст книги "Кабахи"
Автор книги: Ладо (Владимир Леванович) Мрелашвили
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 44 (всего у книги 62 страниц)
– Но если ты понимал, что это все равно неизбежно, разве не уместнее было бы высказать тогда же твое мнение и отношение к делу?
– Нет, не было бы уместней.
– Почему?
– Все по той же причине, о которой я вам говорил тогда.
– А именно?
– Да то, что бюро – это бюро, и на заседаниях его должны присутствовать только члены бюро. Я знаю вас и знаю себя: вы не отказались бы от своей позиции, я не поступился бы своим мнением, и получилось бы перед всем этим людным собранием вавилонское столпотворение. Думаете, я такой уж глупец, чтобы выставлять райком на всеобщее посмешище? У людей и без того много забот, надо щадить их нервы, да и как-никак авторитет райкома необходимо оберегать.
Луарсаб долго сидел, опустив голову, в задумчивости. Карандаш в его руке постукивало стекло то отточенным, то тупым концом. Тонкие губы чуть кривились под седеющими усами. Наконец он, покачав головой, взглянул исподлобья на Теймураза:
– И сейчас ты хочешь, неожиданно изменив все течение этого давно решенного дела, одним ударом низвергнуть авторитет самого секретаря райкома?
Теймураз горько улыбнулся:
– Уважаемый Луарсаб…
– И показать воочию всем, кто присутствовал здесь и слышал тогда постановление, что райком, как рыночные весы, склоняется то в одну сторону, то в другую?
– Уважаемый Луарсаб…
– И вообще, объяснить и доказать всему свету, что секретарь райкома – беспринципный человек, говорящий сегодня обратное тому, что говорил вчера? Просто в зависимости от настроения?
Все почувствовали, что в кабинете сгущается грозовой заряд небывалой силы.
В тусклых глазах секретаря райкома уже порой мелькала молния. Теймураз не опускал непоколебимого, поистине стального взгляда и с сожалением качал головой.
Председатель райисполкома еще раз протер очки и опять надел их. Его густые, длинные брови сдвинулись над переносицей. На лице выразилось крайнее неудовольствие.
– Товарищ Луарсаб, я хотел бы прервать ваш спор и очень прошу, прежде чем вы продолжите обсуждение ваших несогласий, выслушать то, что я вам собираюсь сказать.
– Пусть сначала он даст мне ответ!
– Ответ дам я.
– Нет, пусть ответит он сам.
– Товарищ Луарсаб, я вижу, что Теймураз был тогда прав, в тот самый день…
– Как так – прав?!
– А так, что мы, люди, на которых лежит такая ответственность за судьбы тех, кто избрал нас и доверил нам высшие посты…
– Короче, пожалуйста, к чему эти высокопарные речи!
– Ладно, я буду краток, – председатель райисполкома нахмурился еще больше. – Мы не вправе приносить в жертву личному, так называемому «авторитету», дело, затрагивающее людей, чьи взгляды устремлены на нас, людей, которые считают нас примером для себя и полностью полагаются на нашу высокую этику, на непреложную справедливость наших суждений. Секретарь райкома – это не простая абстракция, в глазах народа значение его огромно. И в то же время личность, находящаяся на должности секретаря райкома, – это человек, такой же, как другие люди.
– Тут вся твоя философия?
– Я прошу вас выслушать меня, товарищ Луарсаб. Это не частный вопрос, касающийся, скажем, вашей или моей семьи.
При упоминании о семье Луарсаб невольно с досадой сжал губы и поморщился.
– Что ж, говорите, пожалуйста. Интересно, откуда у вас берутся такие перлы? – Он перевел недобрый взгляд с Серго на Вардена. Потом посмотрел на сидящего с невозмутимым видом Теймураза: «Когда-то я наконец избавлюсь от этой занозы?»
Председатель райисполкома говорил уже горячась и все больше распалялся.
Лишь вечером, когда Луарсаб вернулся домой и заперся в своей комнате, он дал волю накопившейся за день досаде. Схватив телефонную трубку, он набрал номер.
– Хорошо, что я застал тебя дома, Вано. Ты уже знаешь? Каким образом, от кого? Я только что оттуда вернулся… А, к черту Вардена, чтоб он провалился! Сейчас же садись в машину и поезжай в Тбилиси. Я больше уже ничего не могу… К черту, говорю, все это! Поезжай в Тбилиси. Хотя, признаться, сомневаюсь, чтобы теперь даже и там можно было как-нибудь уладить дело. Словом, поезжай сию же минуту. Потом все подробно расскажу. Никого не могу назвать, да тут и не один человек орудует. – И он с яростью швырнул трубку.
Шавлего положил перо и встал. С минуту он стоя тер утомленные глаза. Потом прошел через комнату, отворил дверь и вышел наружу.
Дедушка Годердзи спал, лежа навзничь на своей тахте. Ровное дыхание старика было едва слышно.
В глубокий сон была погружена и вся деревня.
В тусклом свете, вырывавшемся из приоткрытой двери, смутно виднелись темные очертания деревьев.
Шавлего спустился по лестнице во двор. Трава была мокра, вода хлюпала под ногами. Приятно освежала лоб ночная прохлада после дождя. Он пошел к калитке. Чуть похрустывал на тропинке недавно насыпанный гравий. Шавлего расстегнул ворот рубахи и повернул от калитки назад.
Он чувствовал тяжесть в голове; каждая клетка наэлектризованного разнообразными представлениями мозга казалось, бушевала. Из туманного хаоса постепенно выступали культовые сцены хеттского мира, высеченные на скале. А вот искусно вычеканенные на Триалетской серебряной чаше стройные пляшущие фигуры… Вокруг увенчанного венком из виноградных листьев Диониса скачут веселые фавны… Обступив убитого зверя, извиваются в ликовании полуголые люди языческих племен… Разнообразные, часто противоположные гипотезы и концепции сталкивались в голове Шавлего. Постепенно выкристаллизовывались четкие, ясные мысли.
Глаза уже привыкли к темноте, и очертания окружающих предметов стали вырисовываться яснее. Небо, загроможденное темными, дряблыми, как опустевшее вымя, тучами, тяжело нависало и как бы насаживалось на столбы ворот и колья забора.
Чуть хрустел под ногами гравий садовой тропинки.
Греки…
Греки…
Греки…
«Бесконечно многим обязано человечество гению этого народа! Без сомнения, правы те, кто сближает грузинское слово «брдзени», «мудрый», с названием «бердзени», обозначающим по-грузински эллина! Миф об аргонавтах древнее, но возникновение этого слова относится, несомненно, к эпохе, в которую греческая культура столкнулась с грузинским миром на берегах Понта и Галиса. Сколько исследователей истощало свое воображение, сколько пролито чернил, и все же пока еще окутана мраком ранняя история тех племен, владения которых занимали весь север Малой Азии, начиная от Фракии и вплоть до Гиркании, Аракса и Кавказа…
Когда Митридат Евпатор, названный Великим, создал, опираясь на картвельские племена, свою огромную Понтийскую империю, наводившую часто страх даже на Рим, в его армиях имелись представители народов чуть ли не всего Ближнего Востока. Плутарх утверждает, что самыми доблестными воинами этих армий считались иберы… Неужели иберы тех времен не обладали ничем, кроме храбрости? Мы, грузины, – народ несколько честолюбивый и стремящийся к славе, – не впадаем ли мы в преувеличение, отождествляя ветхозаветного библейского «кузнеца» тубала, ассирийского табала и греческих тибаренов с предками грузин иберами? Племя Тубал – то самое, которое впервые познакомило тогдашний мир с железом. Тут, кстати, одно мое наблюдение… Наши кузнецы называют металлический пепел, отлетающий от раскаленного железа во время ковки, «тогал». Наверно, это тоже что-то означает… Не случайно, должно быть, и то, что аргонавты, на своем пути в Колхиду, сделали первую и довольно долгую остановку на острове Лемнос. Древнейшими обитателями этого острова были синтии. Гомер считает синтиев не греческим племенем. Аристофан прямо называет их варварами. Согласно Филокару, синтии были пелазгами. Элленик Логограф считает их народом, пришедшим с Востока, а их ремеслом – переработку железной руды. Они первыми применили огонь для закалки железа. И более всех богов почитали огонь, божество огня. Знаменательно и то, что в «Илиаде» сброшенный с Олимпа Зевсом бог – кузнец Гефест падает именно на остров Лемнос, где его укрывают и оказывают ему гостеприимство синтии. Не было ли это племя колхским по своим корням, не переселилось ли на Лемнос с Востока? Тем более что корень племенного названия «синтии», «син», без сомнения имеет связь с эквивалентом грузинского названия железа «сина»…
Еще одно интересное обстоятельство: когда Гектор отнял у Патрокла доспехи Ахилла, сам Ахилл остался безоружным. И тогда Гефест выковал для Ахилла, который был не греком, а пелазгом, такие доспехи, которым никакое оружие не могло принести вред. Уязвимой осталась лишь пятка, Ахиллесова пята, та часть тела, которая не может быть защищена броней. Не означает ли и это, что если не сам Ахилл, то хоть его доспехи были грузинского происхождения? Нет, эти иберы и их Иберия доведут меня до безумия… У всех народов были времена подъема, возвышения и эпохи упадка. Исчезли, были сметены с лица земли огромные империи, многочисленные народы, а иберы сохранили крепость своего кованого железа и, брошенные в общий давильный чан мировой истории, сберегли до сегодняшнего дня невыдавленный сок своей самобытности…»
Шавлего не заметил, как он свернул с дороги. Снова шуршала под ногами мокрая трава, хлюпала вода в лужицах.
Холод стал сначала щипать его ноги, потом заполз за ворот рубахи. Ненастная ночь поздней осени дышала сыростью.
Шавлего закинул голову, подождал – ни одна капля не упала ему на лицо. «Больше дождя, надеюсь, не будет. Завтра хорошенько возьмемся за наш ручей и уж закончим наконец работу. Здорово побаловала нас погода. А дело все же порядком затянулось. Да и не удивительно – работаем первобытными способами. А впрочем, разве наши предки не такими же способами работали, когда прорыли большой алазанский канал во времена царицы Тамар?»
Шавлего поднялся на балкон, прошел к себе в комнату, снял обувь и лег навзничь на постель. Так он лежал, подложив руки под голову, и смотрел, не отводя взгляда, на висящую на стене ветку лозы, отягченную тугими виноградными гроздьями. Долго смотрел на нее Шавлего.
«Вот эти листья, увядшие, сморщенные коричневые виноградные листья, разместились в свое время на ветке так, чтобы свет и тень равномерно распределялись между гроздьями. Своим слабым телом они защищали гроздья от зноя и грозы. Они первыми подставляли свою хрупкую грудь вихрям и граду. Они отдавали испарившуюся с их поверхности излишнюю влагу и переработанную ими солнечную энергию виноградным гроздьям. И делали все это для чего? Разве не знали они, какой их ждет конец? Разумеется, знали, и, однако же, отдавали все ради этих гроздьев. Жертвовали собой – погибли сами, но оставили свой плод… Так разве кто-нибудь вправе уклониться, не сделать того, что в его силах, ради благоденствия своих собратьев?.. Я, до сих пор прочная, крепкая единица, раскололся надвое, как атомное ядро урана, и хочу одновременно молиться двум кумирам. Но какая пара брюк выдержит коленопреклонения перед двумя жертвенниками? Черт побери! Русудан права, но где, на каком посту я нужнее своему народу? Русудан, моя славная Русудан! Она уже определила, ради чего должна жить, и поэтому сама жизнь для нее полна смысла. А Реваз? Какой большой надеждой был для меня этот парень! Мог ли я думать, что он так легко, сразу сломится? Я, кажется, готов обожествить Митридата – вот с кого следовало бы брать пример каждому. Удивительный сплав бодрости и воли!.. Нет, невозможно простить Ревазу, что он так от всего отстранился и замкнулся в своей скорлупе… Сабеда – женщина, испытавшая в жизни много бед, ее подкосило несчастье единственного сына…
А на что стал похож сам этот бедняга Солико! Это же только призрак, тень того человека, каким он был когда-то. Уже с месяц назад он вернулся домой, и до сих пор ни одна душа в селе, кроме его матери, ничего не знала. Что-то мужественное в нем все-таки сохранилось – для себя-то ведь ничего у Нико не взял, даже малости не присвоил: машину разнес вдребезги, вином полил хозяйский двор, корову оставил в добычу воронью. Како рассказывал, что наткнулся на нее во время охоты, в ущелье, что против крепости. Солико, бедняга, и сам чуть не пропал, едва не сложил голову. В первый раз он отморозил ноги на Колыме, в тундре. А теперь, когда похитил корову, увел ее по реке, шагая прямо по воде, вброд, чтобы не оставлять следов. И холодная вода заставила его вспомнить, что ноги-то отморожены… Тетушка Сабеда удачно придумала – прийти за помощью ко мне. Сейчас все в деревне убеждены – доктор к старухе ходит, лечит ее. Впрочем, от любопытства соседей навряд ли что скроется, сомневаюсь, чтобы можно было долго таить шило в мешке… Доктор, бедный доктор!.. Какой же он, оказывается, несчастный, обездоленный человек… И, несмотря на свое несчастье, только и делает, что старается облегчить другим тяготы жизни. И у него тоже есть свой идеал, своя высокая цель. Но каким оружием он располагает, мечтая схватиться с этим страшным врагом человечества? Чем собирался он поделиться, что хотел открыть мне в ту ночь? Немножко наивной кажется мне его возня в этой доморощенной «лаборатории», без единого пациента для наблюдений…»
Шавлего встал с постели, погасил свет.
«Завтра я должен рано встать».
Стягивая с себя рубаху, он посмотрел в окно.
За окном на окраине сада ночь уже начинала бледнеть.
В подвале вдруг стало темно – чья-то фигура заслонила дверной проем. Вошедший стал спускаться по лестнице. Вахтанг бросил считать деньги и задвинул ящик.
– Малодушны все купцы. Восемьсот лет назад сказал это Руставели, и он прав по сей день.
– Я думал, кто-нибудь чужой… Не хотел, чтобы видели у меня оружие.
– Не видал я добра, накопленного трусом. – Купрача перегнулся за прилавок, выдвинул ящик и посмотрел в него.
– Где ты раздобыл эту древность? Сию минуту выбрось ее подальше!
– Зачем? – изумился продавец. – По городу ходит бог знает сколько всяких грабителей.
– Неужели с твоими мускулами тебе еще нужно оружие? – Купрача залез рукой в ящик, достал оттуда шестизарядный «смит-вессон» и сунул его себе в карман. – За это тюрьма полагается… – Он отряхнул руки одну о другую. – И тогда все эти доходы, прибыли и все вообще – фьюить!
Вахтанг предостерегающе приложил палец к губам и взглядом показал на занавеску.
– Знаю. – И Купрача направился к отгороженному занавеской закутку.
Там стояла перевернутая вверх дном большая бочка. На ней были навалены хлеб, маринованный перец, лук, чеснок и всевозможная зелень. Вокруг бочки стояли четверо крестьян в войлочных шапочках и наливали вино прямо из большого кувшина в чайные стаканы. Слышалось чавканье, на хмельных лицах ходили вверх и вниз коричневые желваки.
– Пожалуйста, выпейте стакан с нами.
Купрача принял поднесенный стакан.
– Пью за могучую шею воловью, за росу небесную, за урожай изобильный и за вашу трудовую десницу. Добро пожаловать в этот благословенный погребок, и не давайте его порогу зарасти травой!
– Ну что ты! Мы всякий раз, как приедем в Телави, – сразу сюда.
Купрача внимательно посмотрел вокруг и только потом выпил.
– Чтобы так пусто было вашим врагам, – сказал он, перевернув стакан, поблагодарил крестьян и вышел из-за занавески.
Вахтанг по-прежнему складывал в пачки сторублевки, пятидесятирублевки и десятирублевки.
– Сколько входит в этот кувшин?
– Семь литров, – ответил Вахтанг, не поднимая головы.
– Чтобы я больше здесь его не видел! Ротозеи! На каждом кувшине теряете по пол-литра.
Вахтанг широко раскрыл глаза.
– Где Серго?
– Я послал его за вином в Шашиани.
– У Серго еще коготки не отросли. Его могут надуть.
– Не надуют. Я сам побывал там, пробовал вино и уже купил.
– И все же пока на него не полагайся, пусть наберется опыта. Теперь слушай: Наскида приходил ко мне. Говорит, в списки жителей я его внес, дом с усадьбой на него перевел, что же он не рассчитается со мной до конца?
– А я и не отказываюсь. Разве я такой человек? Сегодня же вечером прикачу в сушилку.
– Чтобы только не вышло с тобой, как с тем ишаком, что отправился воровать, да и оставил там подковы. Это же кража. За это – тюрьма и всякая такая штука. Повидайся с Георгием, председателем вашей ревизионной комиссии, договорись о процентах и сделай с кукурузой так же, как сделал с пшеницей. С бухгалтером снова надо согласовать… Подожди еще два дня. С декабря начнется выдача авансов. Без бухгалтера в колхозе камешек о камешек не стукнет, так что ты не скупись. Того, что придется на твою долю, хватит, чтобы расплатиться за дом и еще останется. А потом – айда, сматывай удочки оттуда.
Вахтанг жалобно сморщился:
– Что я вам сделал, зачем вы меня гоните из этой замечательной деревни?
Купрача посмотрел на засаленный кусок холстины на стене, возле двери, сразу догадался, что под ним скрывается баранья туша, и остался очень доволен.
– Вы хорошо сделали, что вместо стола поставили там бочку.
– Серго сказал, что стол будет бросаться в глаза, а на бочку никто не обратит внимания.
Купрача улыбнулся с отцовской гордостью:
– Дельный парень растет. Мангал достали?
– Достали. Но не разводить же огонь для этих крестьян!
– Клиент есть клиент. На деньгах не написано, кто их заплатил. Слушай теперь. Мне нужно хорошее вино, неразбавленное. У меня в столовой все вышло.
– Есть у меня десятиведерная. Много тебе нужно?
– Литров семьдесят хватит.
– Сейчас возьмешь?
– Сейчас.
– Ты на машине?
– Да.
– А вино опять для той шайки?
– Для них.
– Никак от компании не отстанешь?
– Не отстану. Завтра они кончают работы, и по случаю шабаша…
– Какой богач! Добро в воду выкидываешь?
Купрача засмеялся, показав красивые, ровные белые зубы.
– «Что хранишь ты, то пропало, что ты отдал, то твое», – сказал Руставели.
– Счастливчики ты и Лео! Одного Шекспир уму-разуму учит, другого Руставели.
– Потому-то мы оба всегда в выигрыше. Нынче атомный век, и вот тебе от меня поучение. Запомни: раньше скупостью добро наживали, а теперь только щедрый может нажиться. Не посеешь – не пожнешь.
Из занавешенного закутка вышли крестьяне.
– Ну-ка, хозяин, подсчитай наши убытки!
Вахтанг заметил, как вспыхнули четыре пары глаз, и поспешно задвинул ящик, набитый пачками ассигнаций, Потом пододвинул к себе несоразмерно большие счеты.
Губы Купрачи тронула насмешливая улыбка.
Глава четвертая
Все болото было изрезано узкими, мелкими канавами. Место, где из земли била вода, заметно понизилось, ушло вглубь и напоминало издали кратер вулкана, в котором все еще бурлит и бормочет неостывшая лава. К этому кратеру сбегались все каналы, подобно тому как в большом городе улицы сходятся на центральной площади. Вода, просачивавшаяся в почву из этой впадины в течение десятков лет, сейчас возвратилась к своему истоку, чтобы отсюда, по глубокому главному каналу, стекать в Алазани. Земля вокруг местами уже подсыхала. Жирная, черная, омытая дождевыми водами почва проглядывала пятнами среди камышовых зарослей.
«Если зима будет сухой и теплой, я подпалю камыш, и в январе же перепашем все болото. Потом, на пороге весны, запашем во второй раз. Здесь уродится столько арбузов и дынь, что дохода с них хватит на несколько деревень. Это ведь огромная полезная площадь! А огурцы, помидоры – только поспевай собирать! Одни огородные культуры поставят колхоз на ноги… В первую очередь надо построить ясли – освободится много женщин, и людей на работах прибавится. Можно объединить ясли с детским садом. Это еще удобнее. Потом – клуб и библиотека с читальней. А за ними последуют, наконец, спортивные площадки. Ребята надеются, нельзя их вечно обманывать. Они заслужили. Это все их руками сделано. Работали, не жалея сил. Почему-то я верю, что сейчас они сами гордятся делами своих рук. Понимают, что совершили. И колхозники радуются. На правлении никто ни слова не сказал против, когда им раздали бесплатно резиновые сапоги и выписали за каждый день работы по два трудодня».
Шавлего перешел через главный канал по перекинутому через него бревну и пошел дальше вдоль осушенного болота.
«Очень большую помощь нам оказал Закро. Работал каждый день, и работал за троих! Надо это соответственно отметить. Ребят мы не распустим. Прибавить еще десяток человек, и получится бригада. Закро назначим бригадиром. Эрмана уже получил под свое начало бригаду. Больше о молодежной бригаде он не заикнется, – по-видимому, честолюбие его удовлетворено, звание бригадира он уже носит. У каждого человека есть в каком-то уголке сердца такой червячок. Ну, и что тут особенного? Пока что Эрмана управляется с этой бригадой не хуже, чем Реваз. А Иосиф Вардуашвили обижен. И его можно понять. По справедливости бригадиром должен был стать он, но посчитались с Медико, уважение к ней перевесило все. А она возлагает большие надежды на своего комсомольского секретаря. Хороший, крепкий мужик этот Иосиф. И жена ему под стать. Такие и нужны сейчас нашему колхозу».
Вдали, в противоположном конце бывшего болота, пылал большой костер. Сквозь клубы дыма проглядывали яркие языки пламени, лизавшие ветви, брошенные в огонь. Громкий, веселый смех, перекатившись через старое русло и камышовые заросли, доносился до Шавлего, шагавшего по краю болота.
«Веселятся ребята. Должно быть, приехал Купрача или Шакрия Надувной рассказывает о своих проделках. Ох этот Надувной! Вот еще кто заслуживает всяческой похвалы! Да и другие ребята от него не отстали. Нет, надо еще что-нибудь придумать, раззадорить их, подстегнуть – пусть почувствуют, что всякий труд вознаграждается по заслугам».
Вокруг старого русла блестели еще не просохшие лужи. От лужи к луже перетекала маленькими ручейками сочившаяся из осушительных канав вода. Старое русло пролегало почти целиком посередине болота.
Шавлего пошел по заросшему травой высокому, скалистому, берегу Алазани. Река, вздувшаяся после дождей, текла мутным потоком; она затопила большую часть каменистого русла. С глухим, низким, басовитым гудением катилась она по широкому своему ложу.
Под большим дубом балагурили и хохотали Надувной с ребятами. Они сидели или полулежали на корягах, на валунах, на расстеленных пальто и время от времени, заходясь смехом, хлопали себя по бокам и по коленям.
– Ох, чтоб твоей матери по тебе не плакать, Надувной!
– Перестань, все нутро вывернул – куска проглотить не сможем!
– Ой, чтоб тебе сгинуть и пропасть! – по-женски замахал на него руками сын Тонике.
Шакрия, заметив приближающегося Шавлего, тотчас замолчал, словно язык проглотил.
Парни поздоровались с подошедшим и попросили его – пусть заставит Надувного продолжать.
– Все смолол, вот только не рассказал, что вчера во сне видел.
– А может, ему ничего и не снилось? – улыбнулся Шавлего.
– Как не снилось – вот дядя Софром ему приснился.
Только сейчас заметил Шавлего притулившегося у корней дуба, закутанного в старую грязную шинель человека с костылем. Лицо у хромого было хмурое, голова ушла в плечи, точно у нахохленного воробья, безбровые, водянистые глаза злобно смотрели на Шакрию, этаким чертом восседавшего на большом камне в сторонке от костра.
– Что полыцик Гига сказал – когда он подойдет? – спросил Махаре.
– Пока вы там все устроите, говорит, я и подоспею, – отвечал Шавлего.
Все так и покатились со смеху.
Теперь Софром устремил пронзительный взор на Махаре.
Сначала Шавлего удивился – над чем смеются ребята? – а потом вспомнил о непримиримой, извечной вражде между Софромом и полыциком Гигой и сам улыбнулся.
Софрома в Чалиспири прозвали Злыднем и Змеиным жалом. Считалось, что из-за его клеветнических обвинений в свое время пострадало несколько ни в чем не повинных семей. Некоторые злоречивые люди настойчиво утверждали, что и сейчас от него добра не надо ждать. И все село смотрело на этого человека с отвращением.
Однажды ночью кто-то поджег его дом. Все его достояние, ценную обстановку пожрал огонь. Сам он еле выбрался из горящего дома в одном белье. Разбуженный пожаром, очумев от страха, он выбросился спросонья с балкона второго этажа и сломал себе ногу. На его крики и вопли сбежалась вся деревня. Люди стояли словно вкопанные и смотрели, как извивались, взлетая к небу, рыжие змеи входящего в силу пламени.
Пока не обрушилась крыша и не погребла под собой весь дом, ни один человек даже близко не подошел.
Первым спохватился дядя Фома:
– Сам-то цел ли, не повредил ли себе чего?
Только тогда Годердзи, стоявший с хмурым, неприязненным видом, неохотно двинулся с места, а за ним последовали садовник Фома и еще несколько человек.
В больнице Софром лежал недолго и вышел оттуда с костылем, охромел. А полыцик Гига твердит:
– Вор он, мошенник, говорю вам! Симулянт! Ради пенсии прикинулся хромым. А по ночам ходит без костыля и ворует чужих кур. Однажды пошел я к нему, отколотить хотел, а его нет дома. Гляжу – в этой его берлоге, в амбаре, что уцелел во время пожара, полно куриного пуха.
– Ну, что за сон тебе приснился, Шакри?
Надувной застеснялся.
– Ничего особенного, Шавлего. Вот дядю Софрома во сне видел.
Софром с трудом повернул голову к Шавлего. В бесцветных, словно заледенелых его глазах мелькнуло подобие улыбки.
– Ну говори уж, говори, что снилось. – Теперь уже хромой сам заинтересовался. – Правда, язык у тебя дрянной, как и у твоего деда. Значит, меня видел во сне? Ну, так что же со мной было, Надувной? Чем смешить всех этих молокососов, не лучше ли сон про меня мне же и рассказать?
– Расскажи ему, Шакри!
– Ну ладно, рассказывай уж, не томи нас, Надувной.
Шакрия отодвинул свой камень подальше от костра и посмотрел дружелюбным, даже теплым взглядом прямо в лицо Злыдню, в глазах которого нет-нет да и вспыхивала плохо скрытая злоба.
– Видел я, будто бы мы с тобой, дядя Софром, померли и были похоронены. – Рассказывал свои истории Надувной с самым серьезным видом, даже никогда не улыбался. – Закопали, значит, в землю обоих, и в ту же ночь ангелы представили нас к божьему престолу – совсем голыми, в чем мать родила. Врут художники, когда рисуют бога с густыми усами и бородой. На поверку-то он оказался бритым, без бороды, а усы у него были как у Гитлера, под самыми ноздрями… Так вот, стоим мы с тобой – оба голые, ничего на нас не надето, никакого лоскутка… Гляжу по сторонам, вижу – и другие все голые и выглядят как-то странно. Думаю: видно, они одного набора, в один и тот же день похоронены. Ангел, который нас привел, подходит и шепчет мне на ухо:
«Не удивляйся, все тут имеют вид сообразный своему ремеслу. Вон тот, у которого голова с алавердский купол величиной, – шахматист. Рядом, видишь, у одного руки и ступни как лопаты – это пловец. А другой, с крохотной головкой и толстенными икрами и ляжками, – футболист. А там, видишь, один совсем вроде без головы, зато с длинными-предлинными ногами, – это танцовщик. Первыми к богу подойдут они».
Оказывается, и там, как и у нас на земле, спортсмены больше всех в почете.
Когда пришел наш черед, дядя Софром, бог сказал, что должен нас взвесить. Люди вы, говорит, одинакового ремесла, и вес у вас должен получиться одинаковый точка в точку. А если один окажется тяжелей другого, никакой кассации, обоих загоню прямехонько в ад.
Тут я подумал про себя: какое, собственно, у нас ремесло, ничего мы с тобой в земной жизни не делали, только языком молотили… Смотрю – у обоих у нас свисают, как у овчарок, аршинные языки.
Ангел подвел нас к весам.
Насчет твоих весов ничего не могу сказать, а мои я сразу узнал, как только увидел.
Говорю: «Уважаемый боже, это весы Бочоночка, нашего зав– складом. Они ни разу за все свое существование правильного веса не показывали. Семь человек семь дней работали, не могли исправить. Потому завскладом и скончался безвременно. Взвешивайте меня на других».
Но бог заупрямился – как говорится, подбросил камень и подставил голову. То бишь не камень, а мяч, из уважения к футболистам.
Заставили нас влезть на весы.
Сидит бог, молчит, Сзади, по обе стороны от него, парят ангелы, перед одним – гора сахару, перед другим – куча навозу. И у обоих в руках большие половники.
Значит, вскинули нас на весы и взвесили. И получилось, что ты, дядя Софром, тяжелей.
«Уравновесьте!» – повелел бог.
Ангел положил мне целый половник сахару на язык.
Взвесили снова.
На этот раз я перевесил.
Другой ангел положил тебе на язык половник навоза.
Тут опять ты оказался тяжелее меня.
Тогда рассерчал бог, отрезали у тебя язык и привесили мне промеж ляжек.
А теперь я вышел тяжелей.
Бог прямо-таки с ума сходит: что это за люди свалились, говорит, мне на голову! Отрезали у меня…
Но Софром уже вскочил на ноги. Он ругал последними словами Хатилецию и всех его родичей, грозясь, размахивая костылем. Потом, что-то сердито бормоча, пошел прочь, по направлению к деревне.
– Постой, дядя Софром, доскажу до конца. У меня-то ведь не язык отрезали…
Ребята от хохота катались по земле, раскачивались, держась за живот, хрипели и отплевывались.
– Ох, чтоб тебе пусто было, Надувной!..
– Уморил, ну просто уморил!..
– Даже аппетит пропал со смеху!..
– Зачем ты прогнал его? – смеялся и Шавлего.
– Доброе дело сделал. Скоро полыцик Гига появится. А он, как напьется, случись Софром под рукой, убьет бедолагу, непременно убьет.
Шавлего понял, что с годами отвращение к Софрому-злыдню нисколько не ослабело в чалиспирцах.
Обойдя большой бочонок, наполненный доверху мешок и битком набитые хурджины, он вышел из-под дерева.
Чуть поодаль Купрача потрошил баранью тушу, подвешенную к ветви боярышника.
– Как поживаешь, Симон? – приветствовал его Шавлего.
– Как царь Ираклий после битвы под Аспиндзой.
– Дядя Нико не придет?
– Дядя Нико на седьмом небе от радости. Как это он не придет?
– На шашлыки мясо есть?
– Вон, целая говяжья нога.
– Не знаю, как я сумею тебя отблагодарить…
– Ты только из-за этого не печалься. Опять с них же сдеру, будь уверен. Ты же знаешь – черт своему дому никогда убытка не причинит.
– Что ты один тут возишься, никого в помощь не возьмешь?
– Все тут помогали, да пришел Злыдень, вот и разбежались.
– А мне жалко стало беднягу. Ребята его прогнали, а он, может быть, голодный.
– Не прогнали бы ребята – я бы его все равно тут не оставил.
– А тебе что он сделал плохого?
Купрача вырвал из туши ливер, бросил его на вывернутую шкуру и отер лоб окровавленной ладонью.
– Барсук ведь, знаешь, зверь очень чистоплотный. Нору себе он роет глубокую, прокладывает запасные ходы на случай опасности, а посередине устраивает целый зал – большой, теплый и чистый. Очень он любит чистоту. Это хорошо знает хитрая и ленивая бездельница лиса. Она проникает в барсучью берлогу и, загадив ее, ждет своего часа. Барсук, не переносящий вони и грязи, покидает свое жилище. И лиса завладевает берлогой – получает ее, не затратив ни малейшего труда.
Шавлего ничего не ответил, отошел и вернулся к костру.
– Ступайте, ребята, подсобите Симону. Кстати, где у вас лопата – не взяли с собой? В главном канале осыпалась стенка, и канал запрудило.








