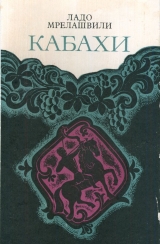
Текст книги "Кабахи"
Автор книги: Ладо (Владимир Леванович) Мрелашвили
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 62 страниц)
Уже несколько месяцев в Чалиспири не привозили ни одного кинофильма. Поэтому никого не удивило, что афиши, развешанные у родника, возле магазина и на толстом стволе древнего шамрелашвилевского ореха собрали вечером чуть ли не всю деревню во дворе сельсовета.
После того как старый клуб был разобран, широкий балкон здания сельсовета перегородили, одну половину обнесли стенами и превратили в комнату. Наскида был вынужден переселиться сюда, а прежний его кабинет, площадью в тридцать пять квадратных метров, отдали под клуб. Стену, отделявшую это помещение от библиотеки, пробили, навесили дверь и тем самым объединили оба этих культурных очага в одно целое. А единственную дверь, ведущую в помещение сельсовета, напротив, упразднили, так что попасть в «клуб» можно было теперь, только пройдя через библиотеку.
В ожидании кинопередвижки, не успевшей еще приехать из Телави, люди толпились во дворе. Было шумно, со всех сторон слышались немолчный говор, взрывы смеха, сыпались острые и меткие, а порой и пресные шутки.
Шакрия шнырял в толпе и давал руководящие указания своим сверстникам: билеты будут продавать, как и в прошлый раз, через окошко читальни. Надо быть наготове.
От группы преподавателей, беседовавших на краю двора, возле штабеля дров, отделилась Русудан; она пошла навстречу Максиму, показавшемуся в воротах.
– Что это ты второй день убиваешься над кукурузой? Сегодня домой даже не заглядывал – не проголодался разве?
– Откуда ты знаешь, что не заглядывал? – улыбнулся Максим.
– Обед, что я для тебя оставила, так и стоит нетронутым на столе.
– Вот и ошиблась, я только что съел его вместо ужина. Еще вкуснеё показалось. А вчера знаешь, Русудан, где я был?
– Конечно, знаю. Кукурузу нашу пропалывал.
– Вот и не угадала.
– Как, ты не мотыжил вчера кукурузу?
– Мотыжил, да не здесь, а в Лапанкури.
– Что тебя в Лапанкури занесло, Максим?
– Помнишь, я рассказывал тебе в прошлом году, как одного чабана-лапанкурца по соседству с нами, в горах, покалечил медведь?
– Да, что-то такое припоминаю.
– Зверь отъел у бедняги кисть левой руки, и вскорости вся рука до плеча отсохла. Мы с ним были товарищи – вместе пасли баранту и на туров охотиться вместе ходили. Вчера я навестил его – и чуть не заплакал от жалости. Вижу, несчастный ухватил мотыгу посередке, заправил конец рукоятки под пояс и таким образом пропалывает свою кукурузу. Что было делать – выхватил я у него мотыгу и стал сам полоть. Вчера весь день там провел и сегодня с утра туда отправился. Кончил работу рано, видишь, даже в кино поспел.
Девушка широко раскрыла глаза от изумления.
– Как, Максим, разве ты не промотыжил нашу кукурузу?.
– Что ты, Русудан! Сама тут без меня всем распорядилась, все устроила и меня же спрашиваешь? Я нашел ее уже прополотой, да так чисто, что ни одной травинки не сыщешь, даже на лекарство.
Русудан скрестила руки на груди.
– Постой, постой, Максим… Так это и в самом деле не ты?..
– Да нет же, Русудан! Ведь с первого взгляда видно, что работа сделана не сейчас, а дней пять назад. Я думал, ты позвала полольщика…
– Не до того было, сам знаешь, дел у меня по горло. Но как же так?..
– Чудеса! – Максим глядел растерянно, недоумевающе. – Кому же это взбрело в голову – руки, что ли, чесались?
Взревел автомобильный гудок, два ярких луча ударили в глаза людям. Автофургон, крытый черным брезентом, въехал во двор, и беседующие расступились, чтобы дать ему дорогу.
– Приехали! Приехали! – завопили ребятишки и бросились к клубному окошку, занимать очередь.
Волчком закружился Шакрия, и вскоре его стараниями перед кассой получилась настоящая свалка.
Максим стал тоже пробиваться к окошку. «Сейчас вернусь», – обернувшись, кинул он Русудан.
Люди постарше поддались общему возбуждению – толпа кишела перед библиотечным окном, словно пчелиный рой, облепивший ветку дерева. Давка была неимоверная. На Эрмане, который оказался в самой гуще этого роя, разодрали сверху донизу рубаху. Опираясь о чьи-то плечи, он высунулся чуть ли не до пояса из толпы и, сдавленный телами соседей, беспомощно ворочал головой из стороны в сторону. У Шота шея, казалось, стала еще длинней, чем обычно, но, как он ни вытягивал ее, заглянуть в окошко ему все же не удавалось.
Coco и Отар, пришедшие с опозданием, яростно бросились на эту переминающуюся и колеблющуюся живую стену, но не сумели ее прорвать. Тогда они попытались вскочить на плечи сбившимся в плотную массу людям; Coco поначалу это удалось, но через минуту под ним как бы разверзлась почва, он стал медленно опускаться и наконец исчез, как бычок, засосанный вязкой трясиной.
Раздался чей-то отчаянный вопль, кто-то с силой двинул кого-то в бок, мастера цветистой ругани решили щегольнуть перед всем светом своим искусством – пошла свистопляска…
Девушки, явившиеся без кавалеров, робко стояли поодаль, окончательно потеряв надежду попасть в клуб.
Шофер ловко остановил машину перед другим окошком, оттеснив жаждущих билета к забору. Окно открыли и протащили через него электрические провода. Механик пронес в клуб звуковой репродуктор и присоединил к нему провода, протянутые вдоль стены.
Откуда-то притащили длинные доски с кое-как прилаженными к ним ножками и втиснули между скамьями, уже стоявшими в помещении.
Лили сидела за окном библиотеки и неторопливо, с подобающим достоинством считала билеты, врученные ей для продажи. Ее нисколько не заботили устремленные со всех сторон жаждущие, полные нетерпения взгляды.
Сухощавая, невысокая женщина, учительница местной школы, подошла к Русудан, заговорила с возмущением:
– Слыхала, Русудан? Кто-то увез песок, который мы, педагоги, своими руками просеяли для строительства нового клуба.
Русудан удивленно взглянула на учительницу.
– Кто увез? – поинтересовалась она из вежливости.
– Неизвестно. Полевой сторож говорит, что всю ночь с Берхевы доносился шум автомобильного мотора.
– Не беда, Нуца! – успокоила учительницу Русудан. – Все равно, пока дошло бы до постройки нового клуба, весь этот песок смыло бы половодьем. А так хоть кому-нибудь да пригодится, в дело пойдет.
Подошел Максим – весь растерзанный, с разорванным воротом рубашки и двумя недостающими пуговицами. Он принес два билета и извинился перед учительницей: знал бы, что она тут, купил бы и третий.
– Скорей, Русудан, пройдем в зал, а то все хорошие места займут и придется сидеть на корточках перед самым экраном.
Картина уже шла, когда появился Шавлего. Кинопередвижка была установлена прямо во дворе, против раскрытого окна клуба; механик, склонившись к аппарату, поправлял сместившийся кадр. Помощник его сидел на ящике с лентами, равнодушно прислушиваясь к глухому стуку генератора и тарахтению проекционного аппарата. Мальчишки, не сумевшие проникнуть в клуб, заняли на ветвях деревьев и на крышах все мыслимые позиции, чтобы хоть краешком глаза увидеть экран через окно. Те же из них, кому не хватило места и на галерке, убедившись, что им не дорваться до зрелища, устроили состязание по борьбе.
Шавлего осведомился, где продают билеты, и, когда ему показали на библиотеку, постучал в дверь.
Ответа не последовало.
– Сильней, сильней стучите! – посоветовали ему мальчишки, и Шавлего послушался их совета.
Дверь наконец приотворилась, и в щелку выглянул с угрожающим видом Маркоз. Увидев перед собой Шавлего, он отступил внутрь темной комнаты и извинился:
– Я думал, это ребятишки в дверь колотят. Прошу вас!..
Шавлего, войдя, спросил;
– Где продают билеты?.
– Билеты все уже проданы, и кино началось. Ну-ка, ребята, посторонитесь, дайте дорогу! Проходите внутрь, пожалуйста, – предложил он Шавлего.
В дверях, между библиотекой и клубом, теснились зрители. За спиной у них тоже толпилось немало народу. Переминаясь на носках и вытягивая шею, каждый старался увидеть хотя бы уголок экрана.
Шавлего хотел было уйти, но, поколебавшись с минуту, решил все же воспользоваться учтивым приглашением и протиснулся через дверь. Стоило ему очутиться в зале, как послышались недовольные возгласы, и он поспешно подался вбок, к стене, чтобы никому не мешать.
На экране бежали солдаты с автоматами. Одних скашивали пули, другие падали, ползли, поднимались, снова бежали и снова падали. Взмывали к небу черные фонтаны земли, разлетались в клочья от взрывов сплетения колючей проволоки, рушились под гусеницами танков извилистые ходы траншей, зияли темными дырами подземные укрепления с пробитой или сорванной крышей, выплевывали сгустки огня артиллерийские орудия, метали громы и молнии «катюши». Временами появлялось на экране снятое крупным планом орудие. Выпустив снаряд, оно откатывалось назад, как бы отступая на шаг, другой, чтобы оценить взглядом результаты выстрела. Свистели, ревели, с гулом и грохотом рвались снаряды, и этот нескончаемый гром сливался со скрежетом передвижки, доносившимся через окно.
Привыкнув к полутьме, Шавлего отвел взгляд от экрана и осмотрелся. В битком набитом зале иголке негде было упасть. Зрители сидели на сколоченных наскоро скамьях, прижатые друг к другу так тесно, как листья табака в связке. Менее удачливые, те, кому не удалось заполучить сидячее место, выстроились по обе стороны от скамей, притиснув друг друга к стенам. Впереди, под самым экраном, расселись прямо на полу ребятишки – они смотрели картину, запрокинув головы, как курица, пьющая воду.
Весь зал тихонько шевелился, как нива под ветром, – это безостановочно колыхались платки и газеты, которыми обмахивались зрители.
Зал клуба напоминал огромный котел, и все эти люди, так стремившиеся туда попасть, казалось, варились в нем на собственном пару.
Оглянувшись, Шавлего заметил вдруг совсем близко от себя девушку-агронома. Прислонившись к стене, она не сводила глаз с занавеса, служившего экраном. Стоявший рядом с нею высокий юноша с любопытством поглядел на Шавлего.
Вдруг девушка обернулась к соседу и сказала, сдвинув брови:
– Пойдем, Максим!
Шавлега хотел было дать ей дорогу, но девушка протиснулась стороной.
Но не успела Русудан добраться до дверей, как посреди зала раздался громкий треск – одна из скамей подломилась и рухнула. Послышались крики, визг; люди барахтались на полу, пытаясь выбраться из общей кучи.
Задние ряды зашумели, заволновались: потерпевшие катастрофу, встав на ноги, совершенно заслонили собой экран. Поднялся отчаянный гомон. В конце концов весь этот ряд заставили опуститься на корточки.
Едва успел стихнуть поднявшийся из-за этого происшествия переполох, как возникла новая суматоха. Мальчишки, оставшиеся из-за недостатка мест на дворе, сумели после долгой возни открыть снаружи ставни окна, выходившего на дорогу, столкнули с полдюжины зрителей, устроившихся на подоконнике, прямо на головы тем, кто сидел на полу, и всей ватагой хлынули в зрительный зал.
Завизжали, завопили ребятишки, на которых навалилось сверху столько людей, заволновались задние ряды, а передние повскакали с мест и попытались, вступив в бой, отразить это нашествие. Но нападающие не испугались контратаки, приняли сражение, и то, что делалось в зрительном зале, стало как бы продолжением происходящего на экране.
Шавлего, осторожно, шаг за шагом, прокладывая себе дорогу, снова протиснулся в дверь и выбрался наконец во двор.
Около кинопередвижки механик и его помощники спокойно, невозмутимо возились с лентами – вставляли новую бобину в аппарат.
Шавлего, пересекая двор, видел, как мальчишки обстреливали окна клуба каменными снарядами своей карманной артиллерии.
Выйдя за ворота, он зашагал по дороге, перешел через мост и стал спускаться вдоль каменистого русла Берхевы…
Вернувшись домой, Шавлего застал дедушку Годердзи уже в постели.
Мать хлопотала на кухне.
Шавлего вынес во двор тахту и, как обычно, приставил к ней стул, чтобы удлинить постель: на стуле укладывались мутака и подушка.
– Постели мне, мама! – крикнул он матери, а сам вернулся в дом и направился в комнату, которую после женитьбы занимал его старший брат, погибший на войне.
Через открытую дверь он увидел маленького Тамаза, спавшего в своей кроватке. Мать Тамаза, невестка Шавлего, сидела у окна, опустив голову на подоконник. Плечи ее вздрагивали от беззвучных рыданий.
Шавлего взглянул на стенку, где обычно висел портрет брата, и все понял.
Десятый год был на исходе, а безутешная вдова все не могла примириться со смертью мужа, все исходила слезами. Улучив свободную минуту, она прижимала к груди снятый со стены портрет в траурной рамке и, плача, поверяла ему все, что накипело за день на сердце.
Шавлего тихо подошел и остановился возле нее.
Так ласково и нежно, с такой любовью шептала что-то бедная женщина, видимо, все еще живому в ее воображении мужу, что сердце Шавлего наполнилось жалостью. Он осторожно коснулся плеча невестки:
– Довольно, Нино! Посмотри, на кого ты стала похожа!
Женщина подняла голову и, увидев склонившегося к ней деверя, долго смотрела на него затуманенными от слез глазами. Потом встала, посмотрела на портрет, снова перевела взгляд на Шавлего и, еще раз убедившись в совершенном сходстве обоих братьев, уронила голову на грудь деверю и разрыдалась.
– Ну, ну, не надо, Нино, довольно! Хоть мать мою пожалей. Если она сейчас войдет и застанет тебя в слезах, разольется ручьем, потом уж не остановишь. Погляди в зеркало, во что ты превратилась: исхудала, истаяла! Не щадите вы себя обе, и ты и мама.
– О Шавлего, почему мне не довелось быть счастливой хоть один год? Один только год, Шавлего! Судьба пожалела для меня и этого. Мать твоя потеряла сына, дедушка Годердзи – внука, ты – брата, но я… Муж – это совсем другое, это гораздо больше!.. Тебе этого не понять, Шавлего, ты поймешь меня, только если когда-нибудь понесешь такую же утрату… Когда теряешь все, и жизнь не имеет больше никакой цены. И уже ничто не привязывает тебя к этому миру…
Шавлего, обняв невестку за плечи, бережно отвел ее от окна, посадил на стул.
– Не надо, ведь и маму жалко, Нино… Как бы не вошла, не увидела твоих слез… Посмотри на Тамаза. До чего он спящий похож на своего отца! Тот ведь тоже спал вот так, раскинув руки, будто все ему нипочем. Ну, посмотри, посмотри хорошенько – мальчик просто вылитый отец! А эти сжатые губы, а брови! Присмотрись к бровям – скоро пушок на переносице подрастет, и брови сольются в одну линию, как у отца…
Нино посмотрела на кроватку и долго не сводила с ребенка глаз, полных глубокой нежности и любви. Слабая тень улыбки тронула уголки ее девически свежих губ.
Шавлего воспользовался минутой, осторожно взял у нее портрет брата и повесил его на место.
Со двора послышался голос матери, сообщавшей ему, что постель постлана.
– Побереги себя, Нино. Ты еще долго будешь нужна своему сыну. – Шавлего нагнулся над кроваткой, поцеловал привольно раскинувшегося мальчика в лоб и вышел из комнаты.
Хорошо летней ночью спать в зеленом, уютном деревенском дворе! Ласково шелестит трава, неутомимо пиликают на своих скрипках сверчки и кузнечики, на речке гремят лягушечьи перепалки, временами в листве шныряет болтливый, озорной ветерок, тихий свист ночной птицы раздается в чаще деревьев, а вдали заливается-лает собака – это в чьем-то саду верный страж дома негодует на гуляку ежа, свернувшегося под деревом. Месяц заливает окрестности своим холодным серебристым сияньем, и в бездонных глубинах неба как бы тихо звенят яркие звезды, говоря о чем-то таинственном и непостижимом. А вокруг кипит и бурлит жизнь, все охвачено жаждой жизни, напоено ее могучей силой. И при этом всюду царит такая глубокая тишина, что, если рядом плюхнется в лужу лягушка, слабый всплеск громко отдается в ушах, словно целый утес обрушился в воду.
Хорошо летней ночью спать на дворе!
Но Шавлего не спалось. Он лежал на постели навзничь, с открытыми глазами, отдавшись прихотливому течению своих мыслей.
Как переменилась деревня – все здесь стало совсем другим. Ведь не сразу же это случилось! Впервые после возвращения из армии Шавлего пришло в голову, что он совсем оторвался от родных мест. Пять лет в университете… Потом аспирантура… Зимние каникулы в публичной библиотеке, а летние – в горах. Конечно, заглядывал домой на два-три дня, чтобы повидать родных, но это не в счет. В Чалиспири чуть ли не на каждом шагу строится новый дом. Но кому принадлежат лучшие из этих домов? Почему молодежь держится от всего в стороне? Видно, немало есть здесь такого, от чего она отворачивается и на что, кажется, махнула рукой? Куда делось то гордое и прямое, честное и трудолюбивое поколение, которым еще так недавно гордилось это село? Неужели целиком, без остатка, поглотили его соленые пески керченского побережья, непроходимые болота Полесья, бескрайние поля Украины, закарпатские дремучие чащи и побитая шрапнельным градом земля Пруссии? Да, война… Только в одном родстве Шамрелашвили восемнадцать человек не вернулось с полей войны к родному очагу. Молодежь! Надежда и упованье старших поколений, опора и стержень будущего! Что же она поделывает, чем она занята, эта молодежь? Многое понял Шавлего сегодня вечером, не зря он завернул в клуб. О многом говорит этот вечер. Но какие все же цели ставит себе молодежь? Кто о ней заботится, кто думает о ней? Кто руководит ею в самом неустойчивом возрасте? Нет, что-то в селе не чувствуется такой заботливой руки, и похоже, что молодежь предоставлена самой себе, что никто и не пытается направить в нужное русло ее кипучую юношескую силу и живую фантазию…
В чем-то, пожалуй, прав дедушка Годердзи.
Какой славный, умный парень получился из Реваза! Недаром Шавлего рассматривал его руку у цементного резервуара. А как он поглядел вслед бедному старому Зурии, когда тот побрел в виноградник, сгибаясь под тяжестью опрыскивателя!..
А эта красавица, здешний агроном!.. Не перебарщивает ли она по части вежливости… или невежливости?.. Интересно, что за молодой человек был с нею сегодня в кино?
Да, а вот конь… Конь просто замечательный. Грех запрягать такого скакуна в плуг. Надо еще раз навестить доктора; Шавлего почему-то тянет к этому странному человеку. Он очень переменился, стал совсем не тот, что прежде. И дядя Нико тоже стал каким-то другим. А может быть, сам Шавлего переменился? Бедная Сабеда, дом вот-вот обрушится у нее над головой, надо бы его подправить, укрепить… А молодежь разрушает то, что уже построено, разваливает, обстреливает камнями… Нет, что-то где-то явно расстроилось, что-то нужно исправить и укрепить…
Ведь и ветка не шелохнется, если не подует ветер.
Глава восьмая
Дядя Нико обвел взглядом собравшихся у него в кабинете членов правления и бригадиров и обратился к агроному:
– Ну, так как же, дочка, начинать нам пахоту под озимые?
Русудан, успевшая трезво оценить положение, пошла на уступку:
– Ладно, будем палить пожню у большого дуба, но только ту часть, которая сильно заросла сорняками. На остальной площади стерня должна быть запахана в землю, чтобы в ней и сгнила.
– Огонь ведь уничтожает сорняки – разве это не на пользу идет?
– Уничтожает, но не полностью: семена некоторых трав могут все же сохранить способность к прорастанию. А почва теряет влагу, крошится, и ее плодородность падает. Почему вы меня не послушали и не прицепили к комбайну культиватор? Вот как раз заведующий сушилкой здесь – пусть он сообщит правлению данные об урожае, и рассчитаем число тонн на гектар. Сколько собрано зерна, Лео?
– Никаких данных у меня нет. Я взвешиваю только то зерно, что поступает ко мне. А там, за деревней, комбайн работает, как молотилка, – говорят, еще две скирды стоят нетронутые. И в Подлесках молотят на трех гумнах, сегодняшний обмолот еще и не привозили. Так что я пока ничего не могу сказать.
– А я могу. Я ходила и за деревню, и в Подлески, и на берег Алазани. И знаю, сколько хлеба уже сдано в сушилку. По моим подсчетам, получилось примерно семь с половиной центнеров на гектар.
– Так чего тебе еще нужно? В прошлом году взяли с гектара семь центнеров. Двадцать пять никогда не соберем, это же не ветвистая пшеница.
– Нам и без ветвистой пшеницы надо собирать побольше хлеба, Сико. Когда еще до нее дойдет дело, а кашу маслом, говорят, не испортишь. – Реваз, положив ногу на ногу, обхватил большими руками колено.
– Хорошо, согласен. Будем палить у большого дуба, а на остальные участки сразу пошлем тракторы. Это я беру на себя.
– Но, повторяю, палить стерню только между дорогой и кустом боярышника, там, где комбайн не брал под корень – Русудан смотрела в лицо председателю твердым взглядом.
– Ладно! – коротко заключил председатель. – Вопрос решен. Только надо как можно быстрее вывезти обмолоченную солому с полей.
– Дозволь мне сказать слово по-простецки, Нико.
– Ну давай, Элизбар, что ты хочешь сказать?
– Не будем больше складывать солому на краю участков. Раз уж потратим средства и труд – отвезем ее сразу к хлеву.
– Правильно! – согласилась с заведующим животноводческой фермой Русудан. – В прошлом году всю солому растаскали прохожие, и зимой нам не хватило грубых кормов. Давайте хоть в этом году распорядимся поумней. Прав был ветеринарный врач, когда корил нас за это. Давайте же постараемся, чтобы весной не было больше падежа скота.
– Кстати, так оно будет и бережливей – не придется зимой опять тратить время и силы на привоз соломы с поля. Одним выстрелом двух зайцев убьем. – Реваз переменил ногу и обхватил теперь другое колено.
Председатель долго молчал, рассматривая свои руки, сложенные на столе.
– Ты, конечно, прав, Элизбар… Только придется нам все же сначала скопнить солому на краю участков. С пахотой задерживаться нельзя. И надо еще вовремя позаботиться об отборе семенного зерна. С одним только триером не управимся – придется посадить женщин, чтобы руками перебирали. Закончим уж с семенным зерном, засыпем его и скинем с плеч эту заботу.
– Только не будем больше хранить его в старой церкви, а то опять придется осенью покупать семена в Акуре или в Ахалсопели.
– А где же его хранить, дочка, другого-то места у нас ведь нет!
– Амбар нужен. Надо построить сухое зернохранилище. В церкви одно-единственное окошко, да к тому же до того узкое, что сквозь него и воробей не протиснется. Сырость там такая, что за неделю зерно прорастает.
– Русудан права. Нам необходим амбар, хоть для семенного зёрна.
Председатель даже не оглянулся на Реваза – словно и не слышал, что тот сказал.
– Женщин созвать поручаю тебе, Сико. Скажи Марте Цалкурашвили, пусть будет за старшую. Она уже, должно быть, поправилась. Ну-ка, Тедо, что там у тебя еще?
Рыжеволосый бригадир растерянно заморгал и прочел скороговоркой:
– Сенокос на горе Пиримзиса.
– Да, на это дело не легко будет народ подобрать. Косить умеют далеко не все, а молодежь и не старается научиться. Ну, Эрмана, говори – кто из твоих комсомольцев поедет в горы траву косить?
– Так сразу не сумею сказать. Кто там у нас из ребят умеет косить, ума не приложу. Вот, может, Джавахашвили справится.
– Какой Джавахашвили?
– Дата.
– Это один. Еще кто?
– Coco умеет, сын Тонике, да он не поедет.
– Почему не поедет?
– Откуда я знаю? Не поедет, и все.
– Кому же знать, как не тебе? – нахмурился председатель. – Ты секретарь, комсомольцы – твои.
– Да не поедет этот парень, балованный он.
– Зря мы время теряем – так ничего не выйдет. Надо послать тех, кто ездил в прошлом году.
– А старшим поставим Сабу Шашвиашвили.
– Очень уж сдал Саба, совсем постарел. Куда ему нынче в горы ходить.
– Так назначим Годердзи Шамрелашвили. Он и в прошлом году этим делом ведал.
– Согласен. И уж поручим самому Годердзи косцов подобрать. А ты, Элизбар, повидай завтра Левана и скажи ему от меня, что две большие сноповозные арбы нам сейчас нужны позарез. А ту пару колес, как только покроют кузницу крышей, оттащи к Миндии, пусть сдерет обручи с ободьев и поставит другие, потоньше, а то эти так толсты, что молодые буйволы арбу с места не стронут. Много там заявлений, Тедо?
– Прежде чем мы станем рассматривать заявления, я хочу сам заявить тут, на собрании: на складе мало медного купороса, и надо как можно скорее его достать, чтобы своевременно провести опрыскивание виноградников. С этим необходимо поторопиться, а то как бы не пришлось покупать на стороне. Рыночная цена всемеро, а то и вдесятеро выше государственной. – Реваз с озабоченным выражением лица почесывал свернутой в трубку газетой широкий подбородок.
– А ведь привезли купоросу не мало – куда же он делся? – удивился бригадир первой виноградарской бригады.
– Вот Лео, наверное, знает.
– Лео, Лео! Чего вы все от меня хотите? Может кто-нибудь сказать, что он просил купоросу и я ему не отпустил? Сколько я принял, столько у меня и было. Пока весь не выйдет, я обязан каждому отпускать.
– Вот, Лео, говорят, совсем мало купороса осталось. Куда ушли так быстро три тонны?
– Не забрал же я этот купорос к себе домой! Шашлыка из него не изжаришь и хлеба не испечешь. Ступайте посмотрите – сколько осталось, все там на месте.
Председатель не стал продолжать этот допрос. Он глянул искоса на бухгалтера, сразу же отвел от него глаза и сказал:
– Ладно, пока есть, выдавай. Ну, Тедо, зачитывай заявления.
– А купорос?
– Читать или излагать содержание? – спросил Тедо.
– Как тебе удобней. Впрочем, ты ведь их уже читал, так что можешь пересказывать. Скорее окончим собрание.
– А купорос?
– Купорос у нас на исходе, дядя Нико. Как бы не кончился в самое неподходящее время, – напомнила Русудан.
– О купоросе Лео позаботится.
– Сын Датии Коротыша Автандил просит выделить ему приусадебный участок. – Тедо водил веснушчатым пальцем по строкам. – Говорит, что отделился от отца и хочет ставить свой дом.
– В чьей он бригаде?
– В моей, – поднялся с места Маркоз.
– Как работает?
– Ничего, работает неплохо.
– Удовлетворим его просьбу?
– Надо удовлетворить. Парень стоящий.
– Давай сюда заявление. Дальше!
– Дальше тут акт.
– Какой акт?
– На птицеферме околело от воспаления легких двадцать восемь цыплят. Просят списать.
– Дальше?
– Опять акт.
– А это о чем?
– Опять с птицефермы. Пятнадцать курочек сдохли от гнойного воспаления яичников.
Тихий смех пробежал мелкой рябью по рядам присутствующих.
– Что там у вас случилось, Нато? Что за мор вдруг напал на кур? Врачу не могла сказать?
Женщина средних лет отвернула большую голову к окну.
– Дохнут – что ж я могу поделать? От смерти рукой не загородишь. Вон, посмотрите, в конце акта – подписи и ветврача, и ревизионной комиссии. Давно уж дохнут.
Тедо передал председателю оба акта и взял со стола новый листок с заявлением.
– Ефрем заявляет, что в его участке нет законных двадцати пяти сотых гектара. Просит добавить ему недостающие четыре сотки.
Ефрем поднялся с места. Дядя Нико смерил его взглядом с головы до ног.
– Кто тебя сюда приглашал – с какой стати ты расселся тут, словно почетный гость? Может, ты член правления, или бригадир, или активист, или хотя бы усердный колхозник? Не мог на дворе подождать?
Ефрем опустил голову и стал мять в руках войлочную шапчонку.
– Я ничего… Ежели к слову сказать… Так я выйду… – Он поднял на председателя простодушный взгляд.
– Теперь уж поздно! Садись, куда ты? А впредь знай: заседание правления – это не общее собрание. Что там за участок ты просишь?
– Не хватает мне до нормы, Нико.
– Так ведь у тебя давно не хватает – или ты только сегодня догадался?
– Да нет, какое там! Уж сколько времени заявление летжит наготове – сына я попросил, он и написал. Мал у меня участок, Нико, надо бы прирезать…
– Не для того ли, чтобы было где поставить новую печь?
– Какую там печь… После той несчастной ярмарки мне на гончарный круг даже смотреть противно.
Председатель вдруг оживился:
– Кстати, как там твой суд?
Ефрем ответил не сразу.
– Уже был, – ответил он, немного поколебавшись.
– Ну и как дело вышло?
– Да никак. Свидетели подтвердили, что осел и ослица перебили мою посуду.
– Заплатили тебе за нее?
– Какое там! Приговорили обоих хозяев заплатить.
– Сколько?
– Шестьсот рублей.
– Когда ты их получишь?
– Почем я знаю. Хозяйка осла отказалась платить половину, сказала, что возьмет на себя только двести рублей.
– Это почему? – удивился дядя Нико.
– Поди спроси! Говорит, мой осел ломал посуду двумя ногами, а ослица – четырьмя.
Нико откинулся назад и разразился громовым хохотом – казалось, опрокинулся кузов груженного камнем самосвала.
Те, кому уже довелось слышать об этой истории, присоединились к нему.
– Уф, дай бог тебе радости на том свете, Ефрем, за то, что ты меня развеселил. Значит, мой, говорит, осел двумя ногами ломал? Вот потеха! Давай сюда заявление, Тедо! – Дядя Нико положил перед собой листок и размашисто черкнул поперек заявления несколько слов. – Двумя, говорит, ногами, а?.. Так вот, получай в свое распоряжение три ряда, что отрезаны от. виноградника Сабеды Цверикмазашвили. Ступай, владей и хозяйствуй.
Реваз, который сидел упершись локтями в колени, вдруг выпрямился и насторожился.
– Никакие три ряда у Сабеды Цверикмазашвили не отрезаны, и никто там хозяйствовать не будет!
Дядя Нико, казалось, ожидал этого. Молча обвел он глазами притихшее собрание, приостановился на бухгалтере и наконец упер взгляд в бригадира, сидевшего в углу.
– Реваз, сынок! Подумай, напряги память, припомни: в позапрошлом году, когда комиссия обмеряла приусадебные участки колхозников, сколько получилось у Сабеды?
– Комиссия обмеряла и подсчитывала неправильно. Написала она ровно столько, сколько нужно было, чтобы отрезать от виноградника Сабеды эти три ряда.
Председатель изобразил на своем лице удивление:
– Реваз, сынок! Как говорит Топрака, вот тебе ружье, а вот птички. Вон она, земля, а рулетка у нас найдется. Обмерить и подсчитать – нетрудное дело.
– Я сам уже сделал обмер, и оказалось как раз столько, сколько полагается. Может, десять – пятнадцать метров лишних. Вы лучше у других поищите излишки. Я могу на многих вам указать.
– Комиссия занималась этим делом целый месяц и отмерила каждому, сколько по закону положено. Пять человек работало – не будешь же ты один их учить!
– Нет, буду. До виноградника Сабеды пальцем никто не дотронется. Довольно с вас и того, что уже второй год урожай с этих трех рядов собирает колхоз, а бедная старуха платит налоги за весь участок. Если эти три ряда принадлежат не ей, зачем же вы ее за них облагаете?
– О налогах спрашивай сельсовет, колхоз за его действия не отвечает. Если Наскида в самом деле берет с нее лишнее, это, конечно, никуда не годится.
– Кто там и за что должен отвечать, разбирайтесь сами, а я говорю, что в виноградник Сабеды ногой никто не ступит!
– Рева-аз! Эти три ряда числятся за твоей бригадой. Если колхоз не соберет с них винограда в этом году, то недостающее возьмем из твоего личного виноградника.








