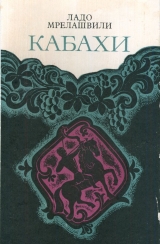
Текст книги "Кабахи"
Автор книги: Ладо (Владимир Леванович) Мрелашвили
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 47 (всего у книги 62 страниц)
– А теперь ступай к нему, и, если больше за тебя некому заступиться, я буду твоим братом.
Тут влетел разъяренный Валериан:
– Шлюха, шлюха, шлюха! Теперь с этим обнимаешься? Видите, ребята, теперь она с Закро обнимается! И сейчас мне не верите? Шлюха, ух, так твою… Не будь ты потаскухой, разве пошла бы работать медсестрой?
Закро схватил подскочившего Валериана за ворот и за пояс, легко поднял его и швырнул в угол.
Большая, как тыква, голова Валериана ударилась об стену, он рухнул на пол.
Закро прислонился к опорному столбу, скрестив руки, заложив ногу за ногу, и молча уставился на паутину в углу под потолком.
Все последующее произошло с быстротой молнии.
Он не заметил, как Валериан встал, схватил со стойки длинный нож, как перепрыгнул через стойку в зал Купрача. Словно издалека донеслись до него слова: «Что ты делаешь!», как бы единый вздох, вырвавшийся из груди двух десятков человек, и отчаянный женский крик. Он лишь внезапно почувствовал, как что-то холодное, как лед, скользнуло внутрь его живота, вышло наружу через спину и глухо вонзилось в столб. Закро вздрогнул, прижался к столбу, напряженно вытянулся вдоль него, глаза его часто заморгали – и вдруг полезли на лоб; на всем лице заблестели внезапно появившиеся крупные капли пота. В одно мгновение Закро весь покрылся испариной. Рот его приоткрылся, руки осторожно скользнули вдоль тела и нащупали крепкую деревянную рукоятку на животе, чуть пониже пупа. От прикосновения к ней он снова вздрогнул. Потом еще раз бережно, осторожно тронул рукоятку своими массивными пальцами и замер.
Зал затаил дыхание, окаменел. Растерянный Купрача не мог оторвать глаз от этой рукоятки, торчащей из живота борца.
Закро крепко стиснул зубы, зажмурил глаза, с силой тряхнул курчавой головой и обеими руками обхватил рукоятку ножа. Потом, подождав немного, потянул ее со сдавленным стоном, скрипя зубами, и, собравшись с силами, дернул – вырвал острие из столба и постепенно, дюйм за дюймом, извлек из своего тела. На мгновение он замер, потом отыскал рану левой рукой и зажал ее. Между пальцами побежали тоненькие струйки крови.
Борец, не глядя, перехватил правой рукой нож и крепко стиснул рукоятку. Багрово блеснуло залитое кровью длинное лезвие. У раненого задрожал подбородок, застучали зубы. Он посмотрел взглядом обезумевшего быка на дверь, глухо взревел и сорвался с места, но не смог ступить и шагу. Как оглушенный ударом молота, упал он на колени, потом бесформенной массой рухнул на пол и скорчился в судороге.
Нико перегнулся через перила балкона.
– А тебя на свадьбу не пригласили? – Наскида стоял внизу, расставив чуть согнутые в коленях ноги, подняв к балкону красное лицо, и смотрел на Нико злорадно-торжествующим взглядом.
– Сапоги больше не жмут?
– Разносились, стали по ноге. Если собираешься, пошли бы вместе.
«Радуется, что набьет свое ненасытное брюхо!» Нико спросил равнодушно:
– Чья свадьба?
– Испытываешь меня?
– Думаешь, я тебя мальчишкой считаю?
– В самом деле не знаешь?
– Перестань болтать. Чья свадьба?
– Нет, ты подумай! В самом деле не пригласили?
– Не пригласили.
– Так ты действительно не знаешь?
– Не знаю.
– Всему Чалиспири известно, что невестка старого Миха выходит замуж за охотника Како. Сегодня они расписались у меня в сельсовете. Если собираешься, так пойдем вместе.
– Ах вот ты о ком! Нет, благодарствуй, не пойду. Да, они меня звали, только мне некогда.
– Пойдем, какие сейчас дела! Пожелаем счастья, по нашему обычаю, «новоцвету», новобрачным.
«Значит, правду говорила тогда Марта, – шагая по балкону и ероша усы, думал председатель, когда Наскида ушел. – И уже играют свадьбу! Тупица, пролаза! Разумеется, он все знает. Не мог даже радость свою скрыть. Думал, что поразит меня в самое сердце. Плохо меня знаешь, слюнявый! Хм… «новоцвет»… Красиво сказал, дубина! Только это не он, я должен был сказать… Не пригласили… Что ж, обижаться не могу: понятно, что Марте не хочется видеть меня на своей свадьбе. Да и много ли народу поместится в этой дощатой хибарке? Все село не позовешь! А может, жених не пожелал моего присутствия? Выходит замуж колхозница из моего колхоза, – значит, я должен быть на свадьбе, да при этом тамадой, так уж повелось с давних пор. А на этот раз… На этот раз закон нарушили, и через это как будто нарушено еще что-то важное. Впрочем, если бы меня и пригласили, я все равно, наверно, не пошел бы. С той ночи мы только раз и встречались, во время уборки кукурузы. Она, пожалуй, даже еще похорошела. Взглянула на меня тепло, с дружеской улыбкой, хотела заговорить, но я и не посмотрел на нее, и хорошо сделал. Даже не поздоровался. А теперь она замуж вышла. Да какое мне до этого дело, об камень тот горшок и псам ту простоквашу, что мне не пригодятся. Покатился камень с горы – так пусть хоть до самой реки не останавливается, какое мне дело!.. А этот длинноногий… Верзилу этого не надо было вообще в село впускать. Во всем слюнявый Наскида виноват. Задарили его, видите ли, медвежьими шкурами! Да и всякой другой дичи подносили вдоволь. Эх, жаль, что я не знал… Раньше надо было обо всем проведать. А теперь что поделаешь? Войдет в дом, станет хозяином усадьбы, и Наскида внесет его в колхозную книгу. Теперь противиться поздно. А впрочем, мне-то что? Пусть оба себе хоть головы сломают. Хорошо я сделал тогда, на уборке, что не заговорил с нею. Она держала в руках акидо – два кукурузных початка, связанные вместе. Початки были хорошие, один чуть-чуть больше другого. Держала акидо в руках и смотрела на меня с улыбкой. А я не поздоровался с ней, так молча и прошел мимо и тут же перебросился шуткой с женой Иосифа, Тебро… А сейчас вот – у нее свадьба. Кого она к себе назвала, интересно? В этом ее домишке не хватит места и мыши хвостиком махнуть. И из приглашенных многие не придут. Кому это нужно? Вот Наскида – тот явится. Хотя бы мне назло. Даже если не хочется, все равно пойдет. Я-то знаю, что он за змея подколодная. Если гости не поместятся внутри, может быть, хозяева посадят часть в галерее. Знаю их, совести у них ни на грош, в этакий холодище рассадят народ на дворе! Когда этот бродяга втаскивал виноградный пресс к ней в ворота, я уже сразу должен был догадаться, чем это пахнет. Эх, мне-то что за дело, – то, что сокол выронил, пусть подхватит хоть ястреб, хоть коршун… И не заикнулась, и не подумала позвать на свадьбу… Правильно я сделал, что тогда не заговорил, так ей и надо. Так и застыла у нее на лице улыбка. Подняла связку початков и мне показывает. Потом как-то странно прищурила глаза и повесила эту самую акидо себе на шею. Початки были длинные-предлинные, и кончики их доставали ей до самых сосков. А что, собственно, она хотела этим сказать? Не мы ли, то есть я и Како, были эти початки? Длинные были початки и так славно разлеглись на ее высокой груди…»
До самых сумерек ходил взад-вперед по балкону председатель колхоза. Время от времени ветер приносил влажное дыхание мокрого снега и забирался к нему за ворот. Нико не чувствовал холода. Когда стемнело, он прислонился к столбу балкона и подставил лицо обжигающе студеному ветру. Постояв так, он обернулся и взглянул на свет в окнах у дочери.
Вдруг он вспомнил, что в этот вечер собирался подняться к лесникам в Лечури. Очень не хотелось месить грязь, но дело не терпело отлагательства.
«Попрошу Купрачу свозить меня на машине».
Он вошел в комнату, достал из шкафа пальто, надел… и тут же понял, что сейчас даже общество Купрачи будет ему неприятно. Он снял пальто, накинул бурку, сказал сестре, что скоро вернется, и вышел.
На дороге не было ни души. Вода в лужах блестела при свете редких лампочек, развешанных на столбах. Монотонно стучали по асфальту шоссе лошадиные подковы. Дождь, смешанный со снегом, летел в лицо всаднику. Нико поправил бурку, поморщился и надвинул шапку на лоб. Порывы ветра приносили откуда-то визгливые звуки гармоники и глухой барабанный грохот.
Чалиспири уже был далеко позади, когда Нико остановил лошадь.
«Что, если хоть одним глазком заглянуть во двор к Миха? Хотя бы для того, чтобы узнать, много ли у них гостей? Пришел ли хоть вообще кто-нибудь? А если пришли, хватило ли места в доме или пришлось поставить стол на дворе? Ничего, Нико только посмотрит одним глазком и уедет. Лесники никуда не денутся».
С чувством странного удовольствия он повернул коня и поскакал назад.
Двор Миха Цалкурашвили был погружен во мрак и безмолвие.
Нико остановился в изумлении и прислушался. Ни малейшего звука не доносилось ни из дому, ни из галереи. Ни шороха, ни движения во всей усадьбе. Лишь раскачивалась на фоне черного неба верхушка одинокого кипариса.
Нико погнал коня в прежнем направлении.
Но не проехал он и двадцати шагов, как опять вернулся. Спешился у калитки, накинул уздечку на столб. Осторожно пошел по дорожке. Нога скользила по мокрой глине. Нико прошел по галерее и нащупал дверь. На ней висел замок. Долго стоял Нико в неподвижности. В галерее было сухо и не так чувствовался ветер.
Нико пошел вдоль дома на ощупь. Обойдя дом сзади, он подошел к окошку, выходившему на огород, прижался к стеклу носом, но ничего не увидел в темноте.
Окно было наглухо закрыто. Неприятно холодило лицо мокрое стекло.
Председатель отошел от окна.
Мрак казался здесь еще гуще. Можно было наткнуться на столб, не разглядев его перед самым носом.
Нико еще раз посмотрел на окошко. Потом тихонько потрогал размокшую от дождя раму.
Когда-то… В этот самый час… Вот в те времена, когда… Нико трижды постучал по раме и один раз по каждому стеклу – постучал и замер в ожидании. Довольно долго стоял он так, прислушиваясь. Потом еще раз прижался носом к мокрому стеклу и повернул назад.
«Какая ерунда! Не могут же они праздновать свадьбу в свинятнике этого Како! Наверное, веселятся в Напареули, у отца Марты».
Конь, подхлестнутый плеткой, обиженно взял с места в галоп, расплескивая с шумом воду из луж.
Но и в отцовском доме Марты председатель не нашел пирующих. И этот дом был пуст и заперт на замок.
То ли ночной холодок, то ли быстрая езда принесли всаднику облегчение. Он, в который раз уже, повернул коня и пустил его шагом.
«Не наплел ли мне все Наскида? Казалось, он был не под хмельком. Но в чем же дело? Ей-богу, наврал Наскида. Как бы в Лечури не опоздать. Ну-ка, Лурджа, давай с ветром наперегонки!»
В Чалиспири, у столовой, он придержал коня.
Купрача стоял, облокотясь о стойку, и скучающим взглядом смотрел на единственного посетителя, сидевшего за грязным столиком.
Медленно жевал старый пшав. Черными, сухими пальцами отламывал от хлеба мелкие кусочки и издали метал их в рот.
При виде Нико Купрача сразу оживился и вытащил из-под стойки бутылку с водкой.
– Почему у тебя пусто? Где твои музыканты?
Купрача искоса глянул на председателя, вытащил пробку из бутылки, отвел взгляд и налил гостю.
– Здешняя чача, чалиспирская.
От председателя не ускользнул взгляд Купрачи, брошенный украдкой.
– Что-то твоя столовая сегодня как брошенная церковь. Где гармоника с барабаном?
– Увели на свадьбу.
– На какую свадьбу?
– Здесь, в Чалиспири.
– У кого свадьба?
– У Како с Мартой Цалкурашвили.
– Ух, какая крепкая, как огонь! – Нико вытер усы ладонью. – А тебя не пригласили?
– Пригласили.
– Что ж ты не пошел? Како был бы тебе рад.
– Он-то был бы рад, да мне не захотелось столовую закрывать, думал, сегодня будет много посетителей. А ты туда не собираешься?
– Я и не знал… Только что вернулся из Телави и сразу еду в Лечури, по делу. Куда мне по свадьбам веселиться – не продохнуть от бюро да от совещаний. Вот и сейчас – еду в Лечури, к лесникам. Ну, будь здоров. Спокойной ночи. За водку спасибо.
– Всего хорошего.
– Заходи ко мне, побеседуем, – обернулся у дверей председатель. – Вино у меня дома хорошее, своего марани. Подсахаренный ежевичный сок, не в пример тебе, я не пью.
Купрача криво улыбнулся и бросил украдкой взгляд на старика пшава.
– Для хорошего человека и у меня найдется вино не хуже.
– Здесь?
– Хотя бы и здесь.
– Очень хорошо… Но теперь мне недосуг. Будь здоров.
– Будь здоров, Нико.
Не успела дверь захлопнуться, как ушедший снова протиснулся в нее.
– Кстати, где свадьба, у Миха? Неужели в этом домишке с пепельницу? Я, может, и загляну к ним, если вернусь вовремя.
– Прислушайся к музыке – гармошка с барабаном сами тебя поведут.
– Ну, где тут рыскать под гармошку по всей деревне!
– Свадьба в доме Тедо Нартиашвили.
– У Тедо?
– Ну да. Дом у него большой – хоть полдеревни поместится.
– Тедо же жмот – с чего это он?..
– Како болтал тут – сам предложил.
– Вот хитрюга, черт! Увидишь, три шкуры сдерет с Миха.
– Нет, говорят, он предоставил дом без всякой платы. А заодно и посуду. Сказал: как не помочь хорошему человеку, когда он семью строит.
– Когда ему нужно, мед стекает у него с языка! А все же, увидишь, возьмет плату. Ха-ха-ха! От Тедо щедрости и бескорыстия не жди! Заставит заплатить – увидишь. Ну, всего хорошего.
– Будь здоров, Нико.
Подходя к тому концу деревни, где жили Тедо Нартиашвили и его родичи, Нико услышал хвастливую скороговорку барабана:
– Бей, барабан, дуй, барабан, дуй, барабан, бей, барабан…
Двор был ярко освещен. В повети, в сатонэ{3} и под аккуратно устроенными брезентовыми навесами пылал огонь. На треногах стояли котлы всех размеров, над ними хлопотали повара и стряпухи с половниками и шумовками. Растопленный жир, стекающий с шашлыков, шипел, сгорая в голубом дыму среди раскаленных углей. По высокой лестнице поднимались в дом на больших деревянных блюдах горы вареной говядины-хашламы, а навстречу им спускалась грязная посуда.
В застекленной галерее наверху тоже было полно гостей. Слышались голоса – кого-то заставляли осушить стакан до дна, временами азартно вскрикивали танцующие.
– Уже вошли во вкус. – Нико перешел на другую сторону проулка и притаился у забора.
По-прежнему бегали вверх-вниз по лестнице прислуживающие.
Нежно мурлыкала гармоника.
Ухарски грохотал барабан, и на застекленной террасе мелькали человеческие фигуры.
Кто-то спустился, пошатываясь, по лестнице и подошел вплотную к забору.
Нико отвел с отвращением взгляд, ударил пяткой коня и объехал дом сзади.
Окна были закрыты спущенными занавесками. За ними двигались смутные тени.
Он вернулся на прежнее место. Долго стоял он под деревом, скрытый забором, и ждал. Крупные капли дождя падали ему на шапку. Потом шапка промокла насквозь, несколько капель скатилось на шею, заползло под рубаху.
Внезапно он почувствовал холод – леденящий холод, который прохватил его до костей. Он плотно закутался в бурку, но не мог унять дрожь.
В проулок въехала машина, и перед ней вспыхнули два световых фонтана.
Нико повернул коня, натянул повод, дал шенкеля и пустился вниз, под гору.
В постели было тепло. Тепло было и в комнате. Огонь в камине уже угасал, но все еще было тепло. Перед камином на полу громоздились нарубленные дрова – целая охапка дров. Тускло светила лампочка-ночник.
Шавлего лежал на спине, откинув одеяло с груди, и, подложив руку под голову, смотрел в потолок.
– Дров в огонь подбросить?
– Зачем – с тобой мне и в Антарктиде не будет холодно. – Флора не говорила, а мурлыкала. Мурлыкала, как сытая, довольная кошка, свернувшаяся у огня. И глаза у нее были как у кошки, только что выбравшейся из кладовки. Она перевернулась, как Шавлего, на спину и устроилась поудобней, положив голову на его голую руку.
От нее шел слабый запах вина и ореховой подливки… и еще какой-то другой, легкий и сладковатый.
Шавлего лежал молча и думал о том, что случилось. Ничего похожего не было у него в мыслях ни тогда, когда они уходили со свадьбы, ни после, на всем пути до дома Русудан, ни здесь, когда он рубил дрова и разжигал камин. Все произошло так просто, как бы само собой… А женщина была прекрасна! Вот она лежит рядом с ним, теплая, мягкая, свежая, щедрая плоть… А лицо, с еле заметными веснушками на переносице, такое детски-невинное, простодушное, тихое и спокойное!
Флора высвободила руку, погладила его по шее, потом закрыла ладонью его губы.
– Поцелуй!
Шавлего послушался.
– О чем думаешь?
– О всяких глупостях.
– Не надо, любимый, зачем думать о глупостях?
– Вот – думается.
– До утра уже недолго – зачем думать о глупостях?
– Не надо было мне идти на свадьбу.
– Почему? Чуть ли не вся деревня была там. Боже, сколько ты пил! Целый большой квеври, наверно, опорожнил.
– Я нарочно пил, хотел рассеять дурное настроение.
– Но ты совсем не пьян, милый, вовсе даже не заметно, что пил.
– Не называй меня милым.
– Почему, любимый?
– Не нужно. Почему ты не удерживала меня от питья? Ненавижу опьянение.
– Я пыталась, но ты не слушал. Ни капли не оставлял в стакане. И даже выпил несколько раз не в очередь. Пил и смотрел на невесту. Глаз не сводил – так настойчиво на нее смотрел.
– Она же сидела против нас – на кого еще было смотреть?
– Нет, это был не случайный взгляд, ты не так смотрел… Я в этом кое-что понимаю. Ты стал на нее так смотреть, когда немного подвыпил. Я тебя не виню, любимый, я ведь сама женщина, и я тоже смотрела на нее с удовольствием. Вот настоящая женщина – сильная, здоровая, вся – изобилие. Если бы я была художником и хотела изобразить кахетинскую осень, то нарисовала бы эту женщину: красивую, спелую.
– Женщина… Жена… Мать… Кто понимает теперь тайную силу и скрытую красоту этого слова?
– Мне кажется, Како вполне доступны вся сила и все тайны этой женщины.
– Этот охотник, видимо, ловок и хитер. Да и везет ему. Думаю, он часто одной наглостью берет.
– Не всегда наглость приносит успех.
– Вернее, не всем. Но иным каким-то образом все сходит с рук. И никто о них худо не говорит, напротив, некоторых даже хвалят за дерзость. А ты попробуй хоть раз сделать то, что люди этого сорта делают на каждом шагу, и тебя повесят на ближайшем столбе.
– Но что ты имеешь против этого охотника, Шавлего? Мне он показался даже приятным человеком.
– Како совершил воровство.
– Какое воровство? Когда?
– Он украл чужую любовь.
– Ах вот в чем дело! Значит, правду говорят насчет этой женщины и дяди Нико?
– А ты не знала? Неужели ничего не заметила, когда мы спускались с лестницы?
– Ничего. Кроме того, что никак не могла раскрыть зонтик и ты мне помог. Ах, я совсем о нем забыла – как ты близко от огня его расставил!. Как бы не сгорел.
Флора соскочила с постели и пошла переставить зонтик. Она красиво несла свое безукоризненно изваянное тело. Каждое движение ее было изящно, легко и женственно-привлекательно.
– О чем ты говорил, что я должна была заметить? – спросила она, после того как, отодвинув от огня раскрытый зонтик, нырнула обратно под одеяло.
– Разве ты не видела, как под лучами фар появившегося в проулке автомобиля всадник в бурке, притаившийся за забором около калитки, сорвался с места и понесся вскачь под гору?
– Нет, не обратила внимания… Да и мало ли – пьяный дружка пустил вскачь коня…
– Это был не дружка. Где в наши дни найдешь верховых дружек! Даже в темноте я узнал бы дядю Нико.
Флора широко раскрыла глаза от изумления:
– Это был дядя Нико? Господи! Значит, он в самом деле любил, и еще как сильно! Вот пример для молодых! Но как же, как мог уступить такую женщину другому такой человек?
Шавлего презрительно скривил губы:
– Все дело в женском непостоянстве! Сам Шекспир не смог понять до конца душу женщины.
– Вот почему ты всю дорогу был те в духе, да и сейчас лицо у тебя темнее тучи.
– Я неисправимый азиат. Женская измена для меня равноценна измене родине. Считают, что тяжкое преступление клевета, но женская измена не многим легче.
– Что ты знаешь – может быть, дядя Нико сам ее оставил?
– Будь это так, человек, подобный дяде Нико, не стал бы жаться за забором и выставлять на всеобщее обозрение свои чувства… Нет, не надо было мне ходить на эту свадьбу, а уж если пошел, не следовало уходить оттуда до самого утра!
– Почему, любимый?
– Тогда я не встретил бы дядю Нико.
– Только потому?
– Со свадьбы я на чьей-нибудь машине отправился бы прямо на станцию встречать Русудан. А теперь мы зависим от милости какого-нибудь проезжего на дороге.
– У Русудан целая куча попутчиков. Зачем ее встречать?
– Не знаю, как ты, но я непременно должен ее встретить.
– И поклажи у нее немного. Встречать незачем.
– Не говори вздор, Флора.
– Любишь ее?
Шавлего кинул на нее взгляд искоса.
– Странный вопрос.
– Очень любишь?
– Я обязан ответить?
– Даже сейчас любишь – вот сейчас, когда ты со мной?
– Неужели ты никогда не любила?
– Не знаю, может быть, любила… Может, это и была любовь – то, что я испытала с мужем. – Голос молодой женщины, был печальным.
Шавлего повернул к ней голову.
Тихим, доверчивым, покорным взором смотрела на него Флора. И еще… она была красива, очень красива.
– Ты работала после окончания университета?
– Муж не пускал меня на работу.
– А вообще хотела бы работать?
– С удовольствием работала бы в Чалиспири.
– Почему именно в Чалиспири?
– Это мой секрет.
– Так я постараюсь, чтобы ты работала.
– Только пока не надо.
– Почему?
– Хочу насладиться обретенным сегодня счастьем.
– Ты же знаешь – я на тебе не женюсь.
– Знаю.
– Зачем же ты мне отдалась?
– Не знаю.
– Женское скудоумие! Вот оно, женское скудоумие! Рим погиб от разврата, разврат погубит и Европу. И он же положит конец нам, если вы будете подражать Европе и делать глупости. Ты должна выйти замуж, Флора. Иметь детей.
Флора пододвинулась к нему еще ближе, уткнулась носом ему в шею и промурлыкала:
– Разве доктор когда-нибудь сказал тебе, что ты не можешь иметь детей?
Вкрадчивой; как хмель киндзмараули, была ее ласка.
– Я тут ни при чем, Флора. Тебе нужна семья.
– Будет у меня и семья. Сыновья будут такие же большие, как – ты, ужасные и… и умные. У меня их будет много – десять. Воры, разбойники, силачи, умницы и… дерзкие, как ты. Ты в тот раз совершенно правильно все предсказал, только утаил, кем будет десятый. Скажи сейчас. В комнате светло – вот моя рука. Кем будет десятый?
– Оставь этот вздор, Флора, и дай мне заснуть. Утром я должен рано встать, чтобы успеть на станцию.
– Ах ты разбойник! Вор, бандит и разбойник вместе! Все помнишь о своей Русудан, даже сейчас помнишь ее! Неужели не можешь забыть ее хоть теперь, когда ты со мной?
– «Память о друзьях и близких нам вреда не принесет».
– Смеешься?
– Забавляюсь.
– Знаю, что забавляешься. И я забавляюсь. Только я хочу, чтобы эта забава была вечной, нескончаемой, неисчерпаемой, неиссякаемой. Я уже люблю тебя. Шутя и забавляясь, успела полюбить. И теперь мне жалко уступать тебя Русудан. Не хочется огорчать подругу, но тебя я никому не хочу отдавать. Разве я не хороша? Скажи, Шавлего, разве я не хороша?
– Хороша, но для того, зачем мне нужна Русудан, ты не годишься.
– Ах, как ты груб! Как ты груб и беспощаден! Скажи, что ты хочешь, чтобы я сделала, и я сделаю.
– То, чего я от тебя хочу, ты делаешь и без просьб. И, ей-богу, для этого дела ты просто великолепна. Но все же ты должна выйти замуж. Ты должна иметь хорошую семью. Ты должна иметь очень хорошую семью, а не быть гетерой.
– Я гетерой никогда не была и не буду.
– У Помпея была гетера, ее тоже звали Флорой. Какой факультет ты окончила?
– Исторический.
– Как же вышло, что ты подружилась с Русудан?
– Очень просто – она приходила к моему отцу. Папа давал ей разные темы и задания. Она часто приходила. Папа очень любил ее, она столько там проработала, что хватило бы на докторскую диссертацию. Она очень талантлива. Ну, мы и подружились. Она чудесная девушка… Тебе нравится Помпей?
– Помпей? Нет. Это был человек, которому везло. Не люблю удачливых.
– Но ведь не случайно его назвали великим?
– Это «великий» я воспринимаю как «большой», «старший». Как в Америке – Форд-старший, Форд-младший.
– И победы его тоже были случайны?
– Судьба ему благоприятствовала. Порой все само давалось ему в руки. А иногда и случай помогал – иным, бывает, очень везет.
– Мало ли что на свете происходит случайно… Мне кажется, иногда и героические поступки бывают случайными.
– И не только иногда, но даже очень часто. Но случайность всегда – нарушение логики.
– Что же логично?
– То, что проистекает из душевных свойств. Хотя, конечно, случай играет большую роль в человеческой жизни.
– И следовательно, не так уж чужд логике.
– Возможно, что так. И все-таки я не люблю счастливчиков. Митридату не благоволила удача. Именно поэтому я ставлю его выше Помпея.
– Не люблю Митридата – он отравлял женщин.
– Это был сильный человек, муж чести – только несчастливый. Сколько низостей совершают люди из одной зависти! Если бы Тигран своевременно пришел ему на помощь, быть – может, сегодняшний мир был бы несколько иным. Если не весь мир, то хоть Передняя Азия. Это предупреждение на вечные времена: грузины и армяне должны всегда быть заодно.
– Шавлего!
– Что?
– Не хочу больше истории. Приласкай меня.
Шавлего повернулся к ней.
Длинные ресницы опускались и вновь поднимались над глазами; в которых горела страсть, из-под приоткрытых юных, розовых губ выглядывала первозданная белизна свежего снега.
Шавлего обнял ее, притянул к себе.
– Только не изломай меня, – промурлыкала Флора.
Это была настоящая женщина – из плоти и крови, полная неподдельной страсти.
– А теперь скажи, кем будет десятый?
– Брось эти глупости, Флора, и дай мне поспать. Ты же знаешь – я должен выйти отсюда на рассвете.
– Так-таки собираешься встречать?
– А ты разве не поедешь? Ведь просилась!
– Да, просилась. Но это было прежде… давно, во времена Митридата и Помпея.
– Ну, довольно. Я уже отправляюсь.
– Куда? – испуганно спросила Флора.
– В царство снов. Ты не со мной?
– С тобой – хоть в джунгли.
– Ну, так в путь.
– Н-но, лошадка! Поехали!
– Дверь не будем запирать?
– Зачем? С таким защитником, как ты?
– Так в путь!
– Поехали.
Наутро первой проснулась Флора. Она протерла глаза, приподнялась, села в постели. Посмотрела на свою белоснежную, высокую, безупречно изваянную грудь и потянулась с удовольствием. Потом ее прохватил холод, она вся сжалась, вздернула красивые плечи.
В комнате было холодно. Холод проникал через щель чуть приоткрытой двери.
Флора вздрогнула, внимательно посмотрела на дверь и перевела взгляд на Шавлего, спокойно и ровно посапывавшего во сне рядом с нею.
«Дверь закрывается плотно. Неужели он выходил ночью и, вернувшись, забыл аккуратно притворить ее?»
Она легко соскочила с кровати и на цыпочках побежала закрывать дверь.
И тут она заметила на пороге свежие, мокрые следы.
Флора узнала их. Следы были женские.








