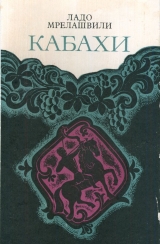
Текст книги "Кабахи"
Автор книги: Ладо (Владимир Леванович) Мрелашвили
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 45 (всего у книги 62 страниц)
– Знаем. Закро пошел туда и лопату с собой захватил.
– Почему же я его по дороге не встретил?
– Он пошел по старому руслу. Наверно, в камышах вы разминулись.
– Так вот, подсобите Симону, ребята. Надо почистить лук, картофель, нарезать прутьев на шампуры для шашлыков. Ты, Джимшер, принес красного перца для каурмы?
– Принес. Вон там, в хурджине.
– Так я пойду помогу Закро. Замучился небось один – земли там осыпалось немало.
На берегу главного канала Закро, подняв до бедер голенища резиновых охотничьих сапог и стоя по колено в воде, расчищал проток для запруженного ручья. Он зачерпывал щебнистую землю лопатой и, вместо того чтобы скинуть этот груз в воду тут же, рядом, отбрасывал его сильным взмахом лопаты как можно дальше. Быстрый поток мгновенно подхватывал сброшенную землю и сносил ее в Алазани. Закро работал, не поднимая головы, исступленно. В том, как он двигался, чувствовалось большое нервное напряжение. В ответ на приветствие он едва поднял голову, бросил снизу вверх словно нехотя ответное «гамарджвеба!» и, нагнув шею, как бугай в ярме, налег с удвоенной силой на лопату.
«Что с ним такое? – изумленно глядя на него, думал Шавлего. – Случилось что-то… Как видно, нехорошее. Почему ребята мне ничего не сказали? Что же его рассердило? И при чем тут я? Кажется, он нарочно убрался подальше от веселья, от смеха и отводит душу в работе, вымещает свой гнев на этой злополучной осыпи».
Ни разу еще не видел Шавлего этого богатыря рассерженным. Густые, кустистые брови, сдвинутые над переносицей, образовали одну сплошную полосу. Опустив мрачное как туча лицо, Закро не отрывал глаз от лопаты. Рукоять ее стонала и гнулась в могучих руках, отсекая каждую новую глыбу от сырой, клейкой глинистой почвы, но выдерживала, не ломалась. Некоторое время Шавлего молча смотрел, как яростно трудится силач, потом скинул пиджак и крикнул ему:
– Вылезай оттуда, Закро, теперь я поработаю.
Закро ответил не сразу: сперва до самой рукоятки всадил лопату в оползшую стену канала, с силой вывернул и отвалил огромную глыбу и только потом глухо бросил, обращаясь словно к этой самой глыбе:
– Сам управлюсь.
Шавлего еще долго стоял озадаченный и глядел, как вода размывает осыпь, облегчая работу человеку с лопатой.
Вдруг кто-то, прижавшись сзади, закрыл ему рукой глаза. Он почувствовал спиной прикосновение теплого, нежного и упругого тела и сразу догадался, кто это. Осторожно сжав длинные, точеные пальчики, он отвел их от своего лица.
– Откуда ты здесь взялась?
– Думаешь, раз не приглашали, так я вас и не найду?
– Тут такая грязь… – Шавлего бросил взгляд на ее высокие сапожки.
– Я тебя издали заметила. Оставила Флору в двуколке, на краю болота, и тихонько подкралась.
– Вовремя приехала. Ребята будут рады. И Флора, значит, с тобой?
– Да, она здесь. Непременно захотела приехать. Почему ты снял пиджак? Думаешь, все еще сентябрь? Уже довольно холодно.
Русудан сама надела и оправила на Шавлего пиджак, потом попыталась застегнуть ему рубаху, распахнутую на груди, но ворот оказался узковат, пуговица не застегивалась.
Шавлего взял ее руки в свои, с чувством неловкости бросил взгляд вниз, в канал, и бережно отвел от своей шеи ласковые женские пальцы. Внизу, в канале, послышался сильный, глухой удар.
Русудан обернулась.
В обвалившейся стене канала торчала всаженная в землю до половины рукоять лопаты. За осыпью, с шумом и плеском вспахивая воду резиновыми сапогами, шагала к Алазани прямо среди потока могучая, рослая мужская фигура.
Здесь, в этом бурливом месте, где сталкивались люди и страсти, где решались судьбы человеческие, откуда уходили одни осчастливленными, а другие несчастными, где взвешивалось на весах – быть или не быть, где одни утрачивали, а другие обретали, где слезы и смех сменяли друг друга, здесь, в этом самом беспокойном месте, секретарь райкома испытывал по утрам чувство удивительного покоя. Было что-то возвышенное в спокойной дремоте черных, блестящих телефонных аппаратов, прикрепленных к стене мягкими длинными шнурами, в мудром безмолвии стульев, расставленных вокруг покрытого красным сукном стола заседаний. Тут можно было ощутить всю сладость безмятежного отдыха пастуха, утомленного целодневной маетой. Пастуха, которого в эти минуты уже не гнетет страх перед зверем или злой и жадной человеческой рукой. Дверь хлева прочна, стены надежны… Усталый после трудового дня, он может наконец погрузиться в сладкий сон – под спокойное дыхание лежащих телят и мерный шорох бесконечной коровьей жвачки.
А потом начиналась ночь мельника.
Лишь под стрекот своих свежевытесанных жерновов и под шум бьющей в мельничное колесо струи засыпает мельник. Только под суетню, прыжки и стук коника может он спать. Ну-ка, попробуйте перегородите ручей, остановите вдруг течение воды, вращение жерновов и ритмическую пляску коника, – даже если мельник спит летаргическим сном, он сразу проснется, встревоженный внезапно наступившей тишиной, и не успокоится до тех пор, пока шум, все покрывающий и заглушающий шум, не воцарится снова.
Давно уже Луарсаб привык, давно приспособился к такому образу жизни. В этом огромном кабинете почти каждый день сменяли друг друга пастух и мельник. И чаши обеих этих форм существования были нагружены равномерно… Только в последнее время как будто повредилось что-то в мельничном механизме, расстроился его равномерный ход, и у самого мельника спутались рефлексы. Постепенно чаша пастуха на весах отяжелела, стала опускаться и, кажется, вот-вот окончательно перевесит другую.
Некогда сменяли друг друга в полном согласии и единстве дом и работа. Потом они разошлись, оказались на противоположных полюсах. А теперь, в эти последние благополучные времена, вновь соединились, словно заключили союз, но только уже для того, чтобы стать опасностью, угрозой всему его преуспеванию.
Уж не постарел ли Луарсаб? Или, быть может, сама жизнь изменила свой облик? Прошла мимо – так, что он и не заметил?
Отстающих бьют!
Интересно, кто сказал это впервые?
О нет, молодость допризывника – ничто в сравнении с опытом прошедшего через огонь и воду испытанного бойца. Пораженный недугом маленький царевич в сказке просит отца поставить стражем у его постели не двадцати-двадцатипятилетнего ловкого и сильного юношу, а опытного сорокалетнего ландскнехта, чтобы смерть не посмела протянуть к одру болезни свою костлявую руку… До старости еще далеко… А поприще пенсионера, все, что ему остается, – прохладный парк, костяшки домино и шахматная доска.
Нет, сейчас – самая пора зрелости, вершина сил и возраста. И он не даст другим сорвать созревший для него плод.
Здесь, в этом огромном котле, где кипят вместе, не смешиваясь, сладкое и горькое варева, по утрам, когда утихомирятся метла и тряпка уборщицы, царит удивительное спокойствие.
Луарсаб поднял голову, подпертую ладонями, и долгим рассеянным взором поглядел через стол на девушку-секретаря, стоявшую перед ним.
– К вам председатель чалиспирского колхоза, – повторила девушка чуть смущенно.
– Пусть войдет, – процедил сквозь зубы с неохотой Луарсаб и зачем-то застегнул пиджак.
Вошел Нико – поздоровался, снял шапку, сел.
Удивительное дело – при виде этого человека секретарь райкома всегда обретал спокойствие и уверенность в себе.
– Что-то зачастил в последнее время в Телави, Балиашвили.
– Думаю, действующему председателю подобает чаще здесь бывать, нежели бывшему, Я пришел жаловаться.
– Жаловаться?
– Чему вы удивляетесь? Было время, жаловались на меня. А теперь вот заставили самого стать жалобщиком.
Луарсаб, разумеется, догадался, на чьи визиты к нему намекает Нико, и еще раз удивился: нет, право, от всевидящих глаз этого человека ничего не скроется! Тедо его не перехитрит! И вот эти самые глаза, прищуренные, проницательные, чуть насмешливые, сейчас устремлены на него и требуют справедливости. Они глядят сквозь узкие щели век настойчиво и настороженно, вкрадчиво и в то же время почти нагло.
– На кого жалуешься? Опять на Енукашвили?
– Нет, теперь не на него. Теперь я на ваших людей жалуюсь.
– На каких это наших людей?
– На тех, кого вы прислали для расследования.
– Я послал Торгву Бекураидзе, заведующего сельхозотделом.
– И еще одного инструктора.
– Какого инструктора?
– Фамилии не помню. Тоже тушин.
– Знаю, кого ты имеешь в виду. Так чего тебе еще нужно? Тушины, известно, народ твердый – к ним не подступишься.
– Правильно, к ним не подступишься, зато сами они как к чему захотят, так и подступятся.
– Этот инструктор – человек новый. За него, правда, с давних пор ходатайствовал Теймураз. Но что такое могло с Торгвой стрястись? – Луарсаб потянулся к звонку, вызвал секретаря. – Есть кто-нибудь в сельхозотделе?
– Все на месте. Кого вызвать, Луарсаб Соломонич?
– Пусть придет Бекураидзе… Очень быстро до тебя все доходит, Нико. Вчера только докладывал мне Торгва, что ничего предосудительного не мог обнаружить.
Председатель чалиспирского колхоза покачал с сожалением головой:
– Персы не погубили, арабы не погубили, турки не погубили, монголы не погубили; если что погубит нас, грузин, так это хлеб-соль, застолье…
– Как? – возмутился Луарсаб. – Я посылаю людей для расследования, а они пируют за столом у подозреваемого?
– Ну вот, придет он, спроси самого. Отпираться не станет.
В кабинет вошел заведующий сельхозотделом. Шел он характерной походкой тушина: легко, четким шагом, твердо ставя ногу. Он обменялся рукопожатием с председателем колхоза и сел напротив.
– Утургаидзе здесь? – спросил Луарсаб.
– Здесь. Вызвать его?
– Не надо. С ним я после поговорю. А сейчас вот пришел человек и говорит: расследование дела о частной винокуренной установке в Чалиспири было тенденциозным.
– Да, но на каком основании он это утверждает? Я же вчера доложил вам все подробно.
– Доклад был действительно подробным, но тут вот заявляют, что он, в общем, неверен, не соответствует истине.
– Что там, по-вашему, неверно, дядя Нико?
– Вроде бы не так уж много, сынок. Но все же достаточно. Твоей вины здесь нет – причиной твоя неопытность. Села ты, по существу, не знаешь как следует, людей не знаешь и при деле своем состоишь не очень давно. Человек, о котором идет речь, – это позор нашего села, как говорится, его гнойник. Он еще и во многом другом замечен. Ты не смотри, что дом у него покосился, хотя, правда, такая вещь и более опытному, чем ты, глаза отведет. Горы камня и кирпича во дворе видал? Он собирается поставить себе целый дворец.
Заведующий сельхозотделом возразил с живостью:
– Насколько мне известно, цель, которую преследует наш колхозный строй, заключается в том, чтобы каждый колхозник стал зажиточным и дом имел хороший. Ставить в вину колхознику, что он хочет построить себе дом, – такого я еще не слыхал.
– Строить себе дом – не вина и за грех не почитается, сынок, но надо всегда помнить, кто строит, что он за человек.
– Я обошел весь тот конец деревни, и ни одна душа плохо об этом человеке не отозвалась.
– Что ж, рука руку моет. Скольким он водку гнал? Многих мы можем назвать, а, думаешь, мало таких, о ком и знать не знаем?
– Он перегнал водку всего лишь для троих.
– Достаточно и того, сынок, но тебя обманули. Он многим водку гнал и еще продолжал бы гнать, кабы это не дошло до нас вовремя.
– Где он куб достал? – заинтересовался секретарь райкома.
– Был у него свой, собственный.
– И вы не отобрали?
– Так куб же дедовский, в наследство остался!
– Нельзя так, сынок, надо отобрать. И куб и все, что к нему полагается, – средство производства; он должен был с самого начала, при объединении имущества, передать его колхозу. Но за это на него и обижаться нельзя, ведь в нем меньше чувства коллективизма, чем в любом ишаке. Вместо того чтобы на совесть работать в колхозе, он занимается частным образом винокурением. От этого, сынок, колхоз теряет и рабочие руки, и доход. Тот процент водки, который взимается в качестве платы за перегонку чачи в пользу колхоза, попадает при таком положении дела в руки частника, в руки этого человека.
– Я допросил двух колхозников, которым он гнал водку. Ни с одного он не взял ни капли в вознаграждение. Напротив: для одной старухи не пожалел собственных дров и взял на себя все обслуживание, так что ей не пришлось и рукой пошевелить.
– Расследование, сынок, заключается в том, чтобы все точно выяснить. Кто же сам тебе признается, что уплатил за перегонку? И почему ты других не допросил, а только этих двоих?
– О других я ничего и не слыхал.
– Верю, сынок, что не слыхал, – мог и не услышать. Есть еще один такой бедняк, как эта старуха, – недаром его прозывают «воробушком», «Бегурой». Почему ты его не спросил – сорвали с него кувшин водки в уплату или нет?
– Об этом человеке я вообще ничего не знаю.
Председатель чалиспирского колхоза посмотрел на секретаря райкома и улыбнулся.
Многое сказала эта улыбка Луарсабу.
Он откинулся на спинку стула, нахмурился.
– Зачем я тебя и Утургаидзе посылал в Чалиспири? Только для того, чтобы вы посидели за накрытым столом? – Луарсаб повысил голос, брови у него совсем сошлись над переносицей. – Сколько раз я вам повторял: когда занимаетесь делами такого рода, чтобы не смели принимать никаких приглашений! И вообще, чтобы всячески держали себя в узде и избегали любых соблазнов.
Заведующий сельхозотделом так и вскинулся:
– О чем вы, товарищ Луарсаб, какие столы, у кого столы, кто наплел такое?
– Ну как же так – наплели, все село только об этом говорит.
Лицо у заведующего отделом вспыхнуло, на широких квадратных челюстях вздулись желваки, в глазах появилось выражение некоторой растерянности.
– Как – вся деревня? Кто говорит?
– Ну, всех я не могу перечислить, сынок… А говорят, начали, дескать, у самого перегонного аппарата.
– Это чистейшей воды ложь, товарищ Луарсаб, мы только попробовали… Один стаканчик… Чтобы определить, какого качества водка… То есть умеет ли он ее гнать… Некогда мой отец гнал водку, в мои детские годы, из дикой груши и бузины. Я только пригубил, чтобы посмотреть, знает ли этот Енукашвили дело…
Председатель колхоза бросил очередной выразительный взгляд на насупленного секретаря райкома и вновь обратился к заведующему отделом:
– И я, и товарищ Луарсаб верим тебе, сынок, но, знаешь, чем деревне на язык попасть, уж лучше крокодилу на зубы. Полагаю, что по неопытности у тебя все получилось – и проба, и застолье.
– Честью клянусь: не было никакого застолья и не угощался я ни у кого!
– Послушай меня, сынок. С порядочным человеком хоть вверх ногами ходи – никто слова не скажет, ну а…
– Все соседи утверждают, что он порядочный, честный человек.
– Двое-трое, у которых, наверное, есть с ним какие-то отношения, это не все соседи, а соседи – не вся деревня. Ты не знаешь, что это за личность и чего он стоит. Он очень опасный человек, и не только для нашего колхоза, но для всего того дела, что называется коллективным хозяйством. Этот человек – интриган и пролаза. Своим поведением он и других, вполне порядочных, людей толкает к правонарушениям и к частному хозяйству. Многие в деревне стали брать с него пример – кто обжег известь для себя, кто лепит посуду, кто делает винные кувшины, а кто – кирпич да черепицу. За этими завтра последуют соседние села, послезавтра – целые районы, а там, глядишь, и все станут возвращаться к частному хозяйствованию. Это нужно понимать, сынок, это нужно уметь видеть и предугадать. Я уже сказал, что ты неопытен и плохо знаешь тех, с кем тебе пришлось иметь дело. Известно тебе, что это за человек? – Председатель колхоза обернулся к секретарю. – Этот человек, товарищ Луарсаб, нынешней осенью украл четыре мешка колхозной семенной пшеницы – увез к себе домой!
– Постой, постой, так это тот самый Реваз Енукашвили?
– Тот самый.
– Ах, вот что! Ну, все ясно. Что же вы раньше мне не сказали?
– А зачем? С него и этого нового преступления хватит с избытком. Помните, сколько я вас упрашивал освободить его из-под ареста – еле уговорил. Жалости поддался, подумал: молод еще, почти мальчишка, может, исправится. Так вместо того он стал мне угрожать и вот теперь видите, что натворил! Если ему сразу не подрезать крылья, не наказать как должно, то найдется у него немало последователей и подражателей, и скоро, глядишь, потребуют у нас, чтобы мы колхоз распустили.
– Почему вы не рассмотрели вопрос на собрании партийной организации колхоза? Где вы были до сих пор?
– Всего четыре дня, как наша ревизионная комиссия обнаружила эти факты, да и то, видимо, анонимка была прислана с опозданием.
– И все же, когда факты обнаружились, почему вы не вынесли вопрос на партийное собрание?
– Решили воздержаться, товарищ Луарсаб, ничего бы мы так не добились. Очень много у него сторонников Помните, как они пригнали сюда, к вам, силой чуть ли не целую бригаду из-за него?
– Это он взорвал у тебя машину и зарезал корову?
– И еще вычерпал все вино в придачу. Но это – частное, личное дело, и я не придаю ему значения. Тревожным мне представляется то, что в лице этого человека наше социалистическое сельское хозяйство обрело недремлющего врага.
Луарсаб презрительно улыбнулся:
– Похуже его встречались – и не таких мы сгибали в бараний рог, Балиашвили. Печально, что в вашем колхозе коммунисты инертны и коммунистическая бдительность не стоит еще на должной высоте… Ладно, Торгва, ступай к себе. Сказал бы уж с самого начала, что не сможешь справиться с заданием, я бы поручил дело кому-нибудь другому.
Заведующий сельхозотделом поднялся со смущенным видом.
– По-видимому, я в самом деле был введен в заблуждение, товарищ Луарсаб. Но откуда я знал, что имею дело с таким отпетым негодяем?
– Ничего, сынок, многих других, более искушенных, чем ты, вводил этот молодчик в заблуждение. Винить тебя нельзя. – И когда Торгва вышел из кабинета, продолжал: – Надо послать какого-нибудь опытного работника и сызнова проверить все с начала до конца… И жалко мне его, чудака, в то же время. Всего в доме – он сам да его старая, полуслепая мать. Прежде он был вроде парень неплохой, да вот видите – показал волчьи зубы… Предлагал я ему работать в колхозе по этому же делу, на винокурне. Не пожелал! Мог ли я догадаться, что у него на уме?
– Кого же послать на расследование – финагентов?
– Да нет, финагенты ничего не добьются. Пошлите такого человека, чтобы и авторитет имел, и село знал хорошо.
– Такой у меня, пожалуй, Варден. Он раньше был как раз к Чалиспири прикреплен.
– Пусть будет Варден. Он, кстати, и заведующий отделом. И он знает все наши дела и обстоятельства.
– Но с какой стати заведующий сектором учета должен заниматься расследованиями?
– Были бы, как говорится, плоды, а из какого сада – кто спрашивает… Задохнется ваш Варден от безделья в своем кабинете. Выйдет во двор, хоть распрямится, воздуху глотнет.
Луарсаб сидел неподвижно и молчал.
Холодное декабрьское утро закинуло на верхушку липы бледное, бессильное солнце. Пробравшийся в окно луч разбился о грани хрустального графина на осколки – изумрудно-зеленые и сапфирово-синие. Что-то тускло-безрадостное было в этом несмелом блеске лучей.
Луарсаб отвел взгляд от графина и посмотрев на председателя. Узкие щелки-глаза были уставлены на него. Давешний мерцающий свет в них погас – на этот раз словно погруженный в туман дремучий лес уходил вглубь перед ним, настороженный и неразгаданный.
Луарсаб вызвал девушку-секретаря и сказал, чтобы начальника милиции, как только он явится, сразу пропустили в кабинет.
Девушка вышла.
Председатель чалиспирского колхоза простился с секретарем и ушел.
Луарсаб проводил взглядом его крепкую, коренастую фигуру с могучей шеей.
Не успел Нико выйти за дверь, как в нее просунулась чья-то голова, и пожилая женщина в черном вошла без спроса в кабинет.
Секретарь райкома не стал выговаривать ей за это вторжение – начиналась ночь мельника.
Шавлего вскинул мешок на двуколку, отряхнул руки и помог молодой женщине влезть на сиденье.
– И что вас, женщин, заставляет мучиться в этих узких, облегающих платьях, стиснутыми, как клинок в ножнах! – Шавлего влез сам на двуколку и хлестнул лошадь вожжами.
Он был заметно не в духе. Неожиданное бегство Закро и отсутствие борца на «шабаше» неприятно поразило его. А потом, когда Купрача посадил в машину председателя колхоза и агронома и увез их на совещание передовиков в Телави, настроение его совсем испортилось… Не ожидал он от Закро такого явного выражения ревности. И все же душа у него болела за беднягу. Очень много охоты и усилий вложил Закро в работу на болоте. А когда все кончилось, не захотел сесть с Шавлего за стол! Что делать – иначе не могло быть, Шавлего этого ожидал. Логическое завершение: чтобы одному спастись, надо другому пропасть, так уж говорится.
– Какого черта навязала нам мешок эта старуха? – смеялась Флора. – Всю одежду обоим перепачкает.
– Какая старуха?
– Я ее не знаю. Живет в хибарке у самой дороги. Попросила свезти зерно на мельницу, так просила, что нельзя было отказать. Муж у нее болен, лежит в постели. Ах, Шавлего, какая там бедность, у меня просто сердце зашлось. Не думала я, что на свете бывает еще такое…
Шавлего понял, что старуха, о которой рассказывает Флора, – Сабеда. Значит, Русудан все знает… И не сказала ничего даже ему! Вот она какая, Русудан! Догадывается ли, что это Солико, а не Реваз устроил давеча в честь дяди Нико фейерверк? «Неужели она так умна и осторожна, что скрывает даже от меня? А люди… Странные они, люди. Почему-то мне кажется, что чалиспирцам приятны неудачи их председателя. Многие считают Реваза виноватым – и хвалят его за удаль. Пусть заблуждаются. Раскрыть вину Солико, подвести его никак нельзя… Чутье подсказывает мне, что дядя Нико что-то пронюхал, только ему больше с руки взваливать все свои беды на Реваза… А Солико стало лучше, немножко ожил. Дядя Сандро надеется за месяц поставить его на ноги. Сегодня я вырвал у Купрачи целую баранью ляжку, авось хватит матери с сыном на неделю. Пусть набирает силу. Господи, какие же тяжелые дни пришлось несчастному пережить!»
– Шавлего!
– Что, Флора?
– Я уже второй раз тебя окликаю. Что ты затих? Не бойся, когда приедем, Русудан будет уже дома.
– Оставь в покое Русудан.
– Помнишь, Шавлего, как ты гадал мне в ту ночь?
– Я-то помню, а ты, видимо, забыла.
– Почему ты так думаешь?
– Не исполняешь проигранного пари.
– Исполняю, как же не исполняю? Просто с тех пор я не шила себе новых платьев. Спроси Русудан – она подтвердит, что не шила. А это тогдашнее платье. Всем нравится, только ты один почему-то против него.
Шавлего то понукал лошадь вожжами, то слегка хлестал ее по крупу плеткой.
Маленькая сильная лошадка шла охотно, перемежая ровный шаг с рысью. Временами она оборачивалась и искоса поглядывала на плетку. По размокшей дороге тянулись за колесами узкие, глубокие следы.
– Ох этот мешок! И зачем Русудан захватила этот мешок!
– Чем он тебе мешает?
– Тесно. И потом, на каждом ухабе он прижимается ко мне, точно влюбленный.
– Не придирайся, Флора, – мешок лежит себе спокойно, как полагается мешку.
– А как же ему еще лежать?
– Так, как лежит.
– Ну и пусть.
– Он и лежит.
– Пусть лежит, только пусть меня не стесняет.
– Может, и я тебя стесняю?
– Нет, ты меня не стесняешь. А твое дурное настроение угнетает. С той минуты, как уехала Русудан, у тебя с лица уксус стекает.
– Такая у меня порода.
– Нет, ты такой с той минуты, как уехала Русудан. Не бойся, не уведут ее. Приедем, застанешь дома.
– Чирикай себе, клюв ведь не простудишь!
– Шавлего, а Шавлего! Ты тогда не кончил свое гаданье. Погадай сейчас. Вот, держи мою руку. Погадай, Шавлего, Скажи, кем будет десятый.
– Что еще за десятый?
– Мой десятый сын. Ты же предсказал, что у меня будет десять сыновей. Скажи, кем станет десятый. Но лучше сначала скажи; кто будет мой второй муж. Вот, возьми мою руку.
– Что за глупости, Флора! Неужели ты веришь, что в самом деле…
– Тебе я верю свято, что бы ты ни сказал. Гадай.
Положив руку на мешок ладонью вверх, Флора глядела на него и улыбалась.
– Уже темно. Я не вижу линий.
– Присмотрись, подними к глазам, разберешь. У тебя же орлиное зрение. Вот рука.
– Погоди, пока доедем до дому, Флора. Ничего не видно.
– Не хочу домой. Там тебе не до меня. Дома Русудан – куда она ни пойдет, ты за ней головой ворочаешь, как подсолнух за солнцем. Вы как школьники. Готовы, кажется, в душу друг к другу влезть.
– Ах ты, Флорушка, маленькая хитрюга! Откуда ты взяла, что мы не обращаем на тебя внимания? Вот тебе только один пример…
– Не нужны мне твои примеры. Не интересуют меня вовсе твои примеры. Если б ты не держал вожжи в руках, можно бы подумать, что тут два мешка…
– Какая ты смешная, Флора! Ах, какая ты смешная! Право, ты заслуживаешь, чтобы к тебе прикрепили личную гадалку. Ладно, так и быть, погадаю. Ну, давай сюда свою руку. Дуешься? Давай, говорю, руку.
– Да, да, да, дуюсь. Для тебя этот мешок значит больше…
– Чем что?
– Ничего.
– А все-таки?
– Зачем ты спрашиваешь? Видишь, я дуюсь.
Алазанская долина тонула во мраке. Едва виднелись сохранившиеся местами подлески и одинокие, богатырской стати дубы и вязы. Лишь вдали, высоко над линией селений, светились снежные вершины Кавказского хребта, похожие на огромные, выстроенные в ряд сахарные головы. Лошадь с трудом пробиралась по глубокой грязи. Временами она останавливалась, фыркала с неудовольствием, но, почувствовав легкое прикосновение вожжи, снова пускалась в путь. Ось двуколки скрипела под тяжелым грузом. Монотонно стонали не смазанные колеса.
Шавлего стало жаль коня. Он сошел с двуколки и пошел рядом, ведя лошадь на поводу. Мысли его вернулись к Закро. Большие надежды возлагал Шавлего на борца и сокрушался, что убыло рабочих рук. Да и вообще жаль ему было хорошего парня, доброго молодца. Но от железной логики никуда не денешься. Две ноги в один сапог не обуешь.
– Шавлего!
– Да, Флора.
– Я боюсь.
– Чего?
– Мне кажется, за нами кто-то гонится.
– Кто за нами может гнаться? Мельник мельницу не оставит. А ребята сразу после нас уехали на машине в Чалиспири.
– Не знаю… Мне чудится, что кто-то идет за нами на цыпочках. И я все боюсь, вот сейчас чья-то рука схватит меня.
– Какая же ты трусиха!
Шавлего отошел в сторону, пропустил вперед лошадь, а сам оказался позади двуколки.
Клейкая, глинистая грязь большими комьями налипала на сапогах, тяжелила ноги. Шавлего останавливался по временам и рукояткой плети счищал ее с обуви.
Мрак полностью застлал долину; вокруг была сплошная чернота.
– Шавлего!
– Да, Флора.
– Сядь со мной. Когда ты рядом, мне не так страшно.
– Жалко лошадь. Потерпи немножко – сейчас выедем на хорошую дорогу.
– Значит, лошадь ты жалеешь, а меня нет? Тогда и я сойду и буду идти пешком.
– Какая ты глупышка, Флора! Ну, как ты сможешь идти по этой грязи?
– Очень даже смогу. Останови лошадь, я сойду.
– Не сможешь идти, Флора.
– Смогу. И притом так будет лучше для мешка.
– Что ты прицепилась к этому мешку!
– Мне кажется, я мешаю ему развалиться поудобней.
Шавлего еще раз очистил сапоги рукояткой плети и поднялся на двуколку.
– Ты же со мной поссорилась!
– Да, поссорилась.
– Так чего ж ты со мной заговорила?
– Потому что мне стало страшно.
– А теперь?
– Теперь я опять с тобой в ссоре.
– Тогда я снова слезу.
– Слезай, я уже не боюсь.
– Хорошо, если так, то…
Шавлего собирался сойти, но Флора схватила его за руку:
– Ради бога, Шавлего, не пугай меня больше, и без того я насмерть перепугана.
– Ах ты маленькая трусишка, Флорушка! Что это у тебя рука так застыла?
– Застыла, когда ты сошел с двуколки. Стало холодно. Согрей.
Маленькая женская рука ловко скользнула в рукав пиджака Шавлего и замерла там, как птичка в гнезде.
– Какая же ты мерзлячка! Так не согреешься. Давай руку сюда.
Он взял руку молодой женщины, растер ее и стал согревать своим дыханием.
– Ну, как теперь?
– Хорошо, Шавлего. Ах, как хорошо! Еще, еще, Шавлего!
– Ну вот, хватит.
– Не хватит.
– Ладно. А теперь хватит.
– Нет, нет, не хватит!
– И сейчас не хватит?
– И сейчас.
– Ах, какая ты глупенькая, Флора, что ж, я должен до самой весны дышать на твою руку?
– Мне и тогда не хватит.
– Не дури, Флора. Ну, убери руку.
– Ах, какой ты недобрый, Шавлего, какой ты неласковый! Кахетинец, настоящий кахетинец. Ты ведь кахетинец, Шавлего, правда?
– Разумеется, и стопроцентный. Впрочем, нет, во мне есть немножко хевсурской крови.
– Знаю, знаю из писем Русудан… Шавлего!
– Да, Флора?
– Что такое «цацалоба»?
– Разве ты не знаешь?
– Не знаю, объясни, Шавлего. Была у меня в студенческие годы одна подруга, поэтесса. Она влюбилась в хевсура. С ума сходила по нем. Письма ему писала в стихах:
Мой жестокий Шатильский цацали,
Твои ласки меня истерзали.
– Цацали – это у пшавов.
– А хевсуров?
– У хевсуров называется «сцорпери».
– Какая разница?
– Есть кое-какая.
– В чем?
– Ох, Флора, умеешь же ты приставать!
– Страшный ты человек, Шавлего! Каждое слово надо из тебя вырывать клещами. Небось при Русудан у тебя развязывается язык!
– А ты не пишешь стихов?
– Не пишу. На что мне они?
– Неужели ты никого больше не смогла полюбить? Тбилиси полон женихов.
– Как будто не знаешь, как у нас смотрят на женщину, которая побывала замужем…
– «Следом парни городские, словно стая голубей…» Помнишь, это из «Песни об Арсене».
– Ах, какой у тебя злой язык, Шавлего!
– Значит, после развода ни один человек не подходил к тебе всерьез?
– Человек? Нет, человек не подходил. А от бездарных писак, от журналистов, выдвинувшихся с помощью влиятельных родичей, и от заносчивых франтов, хвастающихся отцовскими кошельками, меня давно уже тошнит. Ну, а всякие жирные, засаленные дельцы, уютно устроившиеся в артелях, фабричках и комбинатах, совсем уж внушили мне отвращение ко всей мужской породе.
Шавлего внимательно посмотрел на молодую женщину, помолчал немного.
– Что ж, тебя можно понять. Закон естественного отбора не Дарвином придуман, он существовал в природе раньше. Всякое существо ищет себе пару под стать, стремится к равному. Но неужели ты до сих пор не встретила ни одного достойного человека? Может быть, тебе не надо было уходить от мужа?
– Не знаю… Иногда и мне это приходит в голову, но я все же не раскаиваюсь. Сейчас я свободна как ветер – куда хочу, туда повею.
– А замуж выходить больше не собираешься?
– Зачем? Чтобы вся морока началась сначала? Не хочу, сыта по горло.
– Никто не принес столько вреда стране, как в последнее время наши женщины, подражая всему уродливому, отвергая все добрые традиции и упрямо цепляясь за все, что следует отвергать. Какие же у тебя намерения? Может, боишься, что иссохнет твоя высокая грудь? Или что беременность испортит тебе фигуру?
Труд, семья
Без затей,
Много детей.
Пылает очаг,
И злобится враг.
Видишь, и у меня получились стихи.








