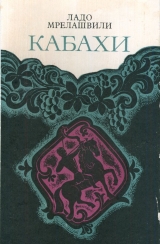
Текст книги "Кабахи"
Автор книги: Ладо (Владимир Леванович) Мрелашвили
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 62 страниц)
– Пока я жив, сад разорять никому не позволю.
Слетевшиеся пчелы облепили брошенный плод и стали с жадностью пить его сладкий сок.
– А пасека у тебя большая, дядя Фома, – я заметил под орехами множество ульев.
– Не так уж много – всего пятнадцать пчелиных семей. У Топраки их тридцать. Он смолоду этим делом промышлял и очень хитро приспособился. На диких пчел ходил и пудами мед продавал. Вечно, как лесной дух, бродил по чащобам. Глаз у него был зоркий, наметанный – и немало он находил дупел, набитых медом.
– А как он их искал?
– Черт его знает! Отправится, бывало, в лес, возьмет чашку с медом и поставит где-нибудь, где, по его расчетам, должны водиться пчелы. Ну, прилетит пчела, возьмет мед и улетит с поноской, а Топрака проследит за ней, докуда хватит глаз. Зрение у него было как у ястреба. Проследит, значит, за пчелой, заметит, где она скрылась из виду, и поставит чашку с медом теперь уже на том месте. Снова прилетит пчела, снова возьмет мед – и снова Топрака следит за ней, пока она не затеряется среди деревьев. Так, идя за пчелами, он в конце концов добирался до места, где они гнездились. Топор у него всегда был за поясом. Оставалось только срубить дерево и унести его вместе с медом.
– А пчелы Топраку не кусали?
Старик покачал головой, полузакрыв глаза.
– Наша грузинская пчела смирная и умная. Другой такой работящей и сильной пчелы нигде не сыщешь.
– Зачем ей сила? Чтобы больше меду унести?
– Ты не смейся и не дивись. Пчеле очень даже нужна сила. Так вот, по выносливости, по силе и по храбрости с нашей пчелой никакая другая во всем мире не сравнится. У покойного Титико пчельник был на сотню ульев, а то и больше. Ходили за ним я и Топрака. Князь по пчелам с ума сходил, и по его поручению я объездил всю Россию и всю Грузию, разыскивая самые лучшие породы. Каких только пчел я не привез – и всем им поставил ульи в том большом саду, что сейчас в таком разоре и запустении. Выйдет, бывало, князь в сад – а был он генерал – и пройдется по-генеральски вдоль ульев, выстроенных в ряд. Пчелы гудят, поют, пляшут на крышах ульев, летают по-над травой, кружат между деревьями, заползают в летки и выходят наружу. Одни улетают за взятком, другие прилетают, нагруженные цветочным нектаром, третьи встречают их на летках, отбирают поноску и уносят в улей, а те отправляются на новые поиски. Что делалось, когда, бывало, зацветут эспарцет, трилистник и клевер, а к концу месяца и подсолнух, не описать! Надо было видеть, как. надрывались бедняжки с утра до вечера… – Старик прервал свой рассказ и предупредил гостя: – Осторожней, не вырони банку, а то ударится о край бассейна, разобьется. Зачем тебе посуда понадобилась – не за медом ли пришел?
Шавлего вспомнил о банке, которую держал на коленях. Выскользнув из бумажной обертки, она сползала вниз, и он вовремя подхватил ее.
– Да, я хотел взять у тебя немного меду для матери. Врач ей мед прописал.
– А что с твоей матерью?
– На сердце жалуется.
– Мед лечит от всех болезней, сынок, с медом ничто не сравнится. Вот фрукты, например, очень полезны, но разве можно поставить их наравне с медом? Мед и для глаз полезен, и для слуха, и для сердца, и для души. Почему ты раньше не сказал? Мать, верно, ждет тебя.
Пасечник встал и направился вместе с гостем к дому.
– Еще одна вещь нравится мне у пчел – хорошо, если бы люди подражали им в этом.
– Что же именно? – поинтересовался гость.
– Трутни в пчелиной семье ничего не делают, только питаются плодами чужого труда. Зато, когда кончается медосбор, рабочие пчелы выбрасывают этих тунеядцев из улья, а если медоношение внезапно оборвется, отправляют вслед за ними и трутневых куколок.
Глава седьмая
Властители Ирана из бесчисленных персидских династий, монгольские ханы и султаны сельджукиды – чья только кровавая рука не терзала издревле грузинскую землю! Жадному взору кизильбашей и пашей в зеленых тюрбанах цветущие долины Картли и Кахети представлялись Магометовым обетованным раем, и из века в век дымились костры на сигнальных башнях и на крышах грузинских замков, извещая о нашествии, пророча близкую беду. Тупилась халибская булатная сталь о дамасские шлемы и о хорасанские кольчуги, и каждую пядь иверийской земли орошал своей и вражьей кровью несгибаемый картвел. Вырубались, превращались в пустыни густолиственные рощи в долинах Куры, Иори и Алазани, беспомощно жались к обугленным кольям мертвые, сожженные лозы.
Проходило время, и возвращались на разорища и пожарища жители, укрывшиеся от нашествия в мрачных извилинах горных ущелий и в темных скалистых пещерах. Собирали по крохам уцелевшие от меча и пламени остатки добра, и весною вновь зацветали лозы, и, как прежде, волновались под ветром нивы. Наливались соками неоглядные хлебные поля, и бирюзово зеленели в садах зубчатые виноградные листья.
Но опять врывались в страну меч и огонь, и опять превращались в пепел плоды труда человеческого.
Вновь накапливала опаленная земля живительные соки, вновь поила и взращивала деревья и злаки, и вновь приходили охотники до чужого добра. Так длилось от столетия к столетию, пока четырехгранный русский штык, вступив в союз с иверийским мечом «гвелиспирули», не оттеснил за Араке и за Месхетские горы иранского «непобедимого» льва и османский полумесяц.
Вряд ли случалось в мировой истории, чтобы какое-либо растение проявило к трагедии своего творца столько сочувствия, сколько выказало к бедам нашего народа его создание – грузинская пшеница «доли» или «долис-пури».
Не раз приходилось ей терпеливо стоять все долгое лето на полях, под пылающим костром солнца, чтобы грузин, укрывшийся в горах от несметных, как саранча, вражеских полчищ, не лишился куска хлеба, и она закалилась в зное, стала устойчивой против засухи.
Порой месяцами дожидалась она заботливой руки и острого серпа своего хозяина, на время изгнанного из дома всемеро превосходящим по численности врагом, и приобрела выносливость к холоду.
Она старалась сохранить полноту и налив хлебного ядра, чтобы тот, кто возделал ниву, пожал щедрые плоды посеянного им – колос ее окреп, стала прочной оболочка ее зерен.
И часто бывало, что грузин, отложив наконец натруженный меч, чтобы взяться за серп, выходил на жатву в заснеженное поле и увозил из-под сугробов полновесные, усаженные незачахшим и нерассыпанным сочным зерном снопы.
Вот почему, когда Мухранская селекционная станция развернула работу по отбору и улучшению хлебных злаков, она отдала местным сортам предпочтение перед привозными и на их основе создала новые грузинские породы пшеницы.
Появились дотоле неизвестные сорта «кахетинский доли», «дзалисура», «цезиум», «церулесценс» и множество других. Но хотя в ту пору на равнинах Картли и в Ширакской степи, житнице Грузии, собрали невиданный урожай, задача обеспечения республики собственным хлебом далеко еще не могла считаться решенной.
Помимо освоения новых посевных площадей и применения удобрений – органических и минеральных – необходимо было что-то еще… Что-то такое, что позволило бы за несколько лет значительно повысить урожайность пшеницы и приблизиться наконец к достижению поставленной цели.
И то, в чем ощущалась такая нужда, появилось… Это была кахетинская ветвистая пшеница, выведенная не прославленными селекционерами на испытательных станциях, существующих уже десятки лет, а какой-то молодой девушкой-агрономом в глуши Кахети, в безвестной деревне Чалиспири.
Слух об этом сначала распространился по соседним районам, а в конце концов дошел и до столицы.
Здесь сначала недоверчиво улыбались и качали головой, но потом, когда слух подтвердился и стали известны подробности, вокруг этой спасительной ветвистой пшеницы поднялся шум.
В Телави направились авторитетные группы специалистов-ученых, за ними последовали отряды журналистов, а в один прекрасный день приехали секретарь республиканского ЦК, председатель Совета Министров и министр сельского хозяйства.
У гостей просияли глаза, когда перед ними на берегу Алазани раскинулось на семи гектарах опытного участка целое море ветвистой пшеницы.
«Море» это стерег ходячий оружейный склад, полыцик Гига, – он расхаживал вокруг опытного поля, как овчар вокруг своей отары.
Гости вышли из машин, углубились в высокую ниву и, увидев на высоте своей груди и плеч тяжелые, разветвленные, как стебли тархуны, колосья, сразу же поняли, что задача обеспечения Грузии собственным хлебом будет разрешена в ближайшее время.
Не может вырасти желудь без дуба – и точно так же все эти дела не могли вершиться без участия Русудан. И Русудан проводила целые дни напролет в поле – лишь на закате возвращалась она домой.
И поэтому, когда однажды вечерней порой кто-то властно постучался в ворота, она с досадой оторвалась от своих любимых цветочных грядок.
Поставив лейку на землю, Русудан направилась к воротам; вот она открыла калитку, и лицо ее просветлело – выражения неудовольствия как не бывало.
За воротами стоял высокий светловолосый юноша. Он держал под уздцы верховую лошадь и пощелкивал по доскам забора пастушеским, сплетенным из мягких ремней, кнутом.
– Я уж думал, ты нарочно не отзываешься, чуть было не влез на забор. Как поживаешь, Русудан?
Девушка снова сдвинула брови и посторонилась.
– Входи, входи, негодник! Я тебе покажу, как своевольничать! Спустился с гор и даже не заглянул домой, ускакал обратно.
Юноша весь расплылся в улыбке, подошел к Русудан и осторожно чмокнул ее в щеку.
– Не сердись, мамочка, если б я тогда не поторопился, бог знает, в какую бы меня потом втянули историю. Наш районный ветеринар в три дня трех барашков приканчивает. А заведующий фермой так же бережет отару, как Хатилеция виноградник Ии Джавахашвили.
Девушка глянула на хурджин, притороченный сзади к луке седла, и просияла.
– Какой славный песик, Максим! Ты для меня его привез?
– Для кого же еще? Может, для Марты Цалкурашвили? – Юноша нахмурился. – Уж этот Закро! Что ему было до нашего Ботверы? Зачем он убил бедного пса? На то и собака, чтобы лаять на чужих, кто бы это ни был-зверь, скотина или человек. – Голубые глаза юноши гневно сверкнули, он с силой ударил кнутовищем по своей серой пастушьей ноговице. – Уж не думает ли Закро, что этот дом без хозяина и о нем некому позаботиться? Может, ему кажется, что раз женщина живет одна, значит, можно над ней измываться? Так пусть постережется, наплевать мне на его чемпионство!
Русудан изумленно подняла брови.
– Максим, Максим, где ты научился так разговаривать? Вот разошелся! Идем домой, и прекрати эти глупости.
Парень осекся, посмотрел на удивленную девушку, потом подошел к ней и, закрыв глаза, ласково потерся лбом со свисающей золотистой прядью об ее щеку.
– Прости меня, мамочка. Это со мной бывает – иной раз не сдержусь, сболтну лишнее. Я погорячился. Жалко Ботверу, хороший был пес!
– Глупыш, не зови меня больше мамочкой. Что люди подумают, если услышат?
– Какое мне дело? Пусть всякий думает, что хочет. Ты лучше скажи, зачем тебе понадобилось посылать мне с Вано целых три рубахи? Разве одной было бы недостаточно? Или ты думала, что я за все лето ни разу не приеду тебя навестить?
Русудан покачала головой:
– Что ты говоришь, Максим! Ведь ты в горах, далеко от дома. Одежда там быстро грязнится. Хоть в неделю раз нужно рубаху сменить? Кто тебе ее постирает?
– Мыло у нас есть, воды в речках сколько угодно. Мы, пастухи, сами себе стираем.
– Ну, хватит, не спорь! Так это в самом деле наш пес?
– Наш, наш! Ты ж велела прислать – вот я и привез его сам. А что за щенок, если б ты знала! Бесстрашный, злой – ни в чем не уступит Ботвере.
– А этот козленок тоже наш? Ух какие у него рожки! А глаза хитрющие. И бороду вон какую уже отрастил! Вытаскивай их из хурджина, пусть разомнутся с дороги. Бедняжки, небось ноги у них совсем затекли.
– Принеси бечевку, Русудан, чтобы привязать козленка, а то ускачет, он и в самом деле хитрющий. А для щенка надо будет достать цепь потоньше, пусть с самого начала приучается сидеть на цепи. Пес вырастет из него свирепый.
Маленький серо-черный щенок, высунув широкую бархатистую мордочку из хурджина, глядел по сторонам с хмурым и скучным видом. Но как только его освободили из заточения и посадили на землю, он развеселился, встал на кривые лапки, встряхнулся и, переваливаясь, засеменил куда-то в сторону.
– Он, наверно, голоден, Русудан. Есть у тебя отруби или кукурузная мука? Я сделаю ему болтушку. Давай сюда веревку, этот козленок такой непоседа – в Сабуэ выскочил из хурджина, насилу я его поймал.
– Козленок наш, Максим?
– Нет, наша коза оказалась неплодной. А этого козленка заказал дядя Нико. Надоели, дескать, мне цыплята да поросята, хочу козленком полакомиться.
– Ну и что?
– Ну и заведующий фермой прибавил баранчика к его стаду, а этого козленка послал сюда ему на закуску.
Девушка ласково погладила животное, почесала у него под рожками и объявила решительно:
– Не отдавай его, Максим.
Юноша замотал головой:
– Нельзя не отдать, Русудан. У дяди Нико какой-то корреспондент в гостях, верно потому и понадобился козленок. Неудобно, чужой человек – что он скажет?
– Ты не относи им козленка, а с корреспондентом я сама поговорю. Он небось как раз за такими историями и охотится.
– Не надо, Русудан! – взмолился Максим. – Сама знаешь, дядя Нико и без того на меня косится, а если еще такую штуку отколоть, он так меня изругает, что потом не отмоюсь. Черт с ним, мало ли поглотила его утроба, этот козленок – не первый и, наверно, не последний.
– Как не первый? Разве ты уже привозил ему… И мне ничего не сказал?
Максим улыбнулся:
– Какая ты, мамочка, простодушная! Разве всякий раз именно я должен живность ему доставлять? Мне даже и знать ничего такого не положено. Просто я ехал домой – вот со мной и отправили живую посылку. А спустился я на этот раз, потому что боялся – кукуруза без второй прополки простоит, початки не нальются. Как она, не увяла, не пожухла от зноя? Держится?
Русудан махнула рукой:
– Не знаю, Максим, не до того мне. Вот уж сколько времени я на свой участок даже не заглядывала. Извелась с этой уборкой урожая. Сегодня еще рано пришла домой, а то обычно и встречаю и провожаю день в поле. Тут еще эти корреспонденты – спасенья от них нет! Сочиняют, пишут, что им в голову взбредет, а уж фотографируют без конца, в самых разнообразных видах и позах. Медведь еще не убит, а они уже шкуру прикидывают…
Овчар показал в улыбке белые, ровные зубы и вытащил из нагрудного кармана сложенную газету.
– Вот, и до нас дошло… Ребята хотели пустить бумагу на цигарки, да я не дал. Здорово пишут, черти! А вот карточку сильно приукрасили, еле тебя узнал.
Русудан погладила собачку.
– Приукрашивать они мастера, это верно… Ты вот что скажи, как мы этого малыша на ночь устроим? Не холодно ему будет на земле или на полу?
– Щенок в горах вырос, к баловству не привык. Может, здесь ему даже жарко покажется. Только дай ему что-нибудь поесть, а то он, бедняга, проголодался.
Русудан ушла в марани и вернулась через несколько минут с чашкой кукурузной муки.
– Ты отведи свою кобылку в сад, а я тут со щенком сама распоряжусь.
Максим расседлал лошадь и, сняв уздечку, хлестнул ее по жирному крупу поводьями. Каурая кобылка, пофыркивая и пощипывая по пути траву, затрусила в сторону сада.
– Привяжи ее, Максим, а то ночью прибредет сюда, потопчет мне цветы
– Привяжу перед тем, как лечь спать, не бойся. А что сад? Летние груши поспели?
– Не только поспели, а уже все съедены.
– Как съедены? Кто их съел?
Русудан размешивала в глиняной чашке палкой болтанку и приговаривала, наклонившись к щенку:
– Ешь, Мурия, ешь! Вкусно?
Потом подняла взгляд на парня и ответила на его вопрос:
– Кто съел? Вот именно – кто? Дом заброшен, как старая церковь, а в деревне бездельников хватает. Развалили каменную ограду со стороны дороги, залезли в сад, даже траву около грушевого дерева вытоптали, да и вообще все вокруг разорили и переломали.
Максим ничего не сказал в ответ. Он ушел за дом и стал бродить по саду.
Наступали сумерки, и в саду, осененном огромными деревьями, было совсем темно. Недвижно стояли истомленные от целодневного зноя деревья и всей поверхностью своей зеленой листвы жадно впивали вечернюю прохладу. Под ногами при каждом шаге чуть слышно шуршала высокая трава. Тишина царила на дороге, ведущей в горы. Где-то совсем рядом фыркала и тихонько ржала лошадь, – катаясь в траве, она восстанавливала силы, потраченные в долгом и трудном пути.
Максим шел вдоль ограды, сложенной из крупных булыжин, и внимательно присматривался. В дальнем конце сада, на границе поля, смыкавшегося с озером, ограда была разобрана и камни свалены в кучу у ее основания. Кто-то сумел разорвать и колючую проволоку, протянутую поверх ограды, концы ее, свисавшие с камней, еле виднелись в сгустившемся сумраке.
Раздосадованный хозяин с минуту хмуро смотрел на разрушения, причиненные обнаглевшими озорниками. Потом наклонился к куче камней и стал старательно укладывать булыжины в проломе ограды.
Но, несмотря на все свои старания, он не смог связать концы разорванной колючей проволоки.
– Нет, паутина ветра не сдержит! Нарублю колючих веток и выложу ими поверху всю ограду. Эх, жаль, не было меня здесь – я бы душу вытряс из этих негодников!
Вернувшись к дому, он увидел, что Русудан успела тем временем развести огонь перед кухонной пристройкой. На треноге стоял большой котел, в нем грелась вода.
Максим снял с потолочной балки верхнего этажа висевший там садовый серп и, спустившись, справился о щенке.
– Я устроила ему гнездышко. Смотри, как он удобно расположился.
Маленький песик, свернувшись в углу кухни на соломенной подстилке, посматривал исподлобья на хозяев, склонившихся над ним.
– Где это ты соломы раздобыла?
– Скосила выведенную мной дикую рожь и обмолотила.
– То-то я удивился – стояла на делянке высоченная рожь и вдруг пропала. Даже подумал – сама, что ли, назад, в землю, ушла?
– Нет, она просто рано созрела. Знаешь, сколько вышло? Только семнадцати граммов не хватило до четырех с половиной кило.
– Это из той горсточки? – изумился Максим.
– Вот именно.
Глаза у юноши заблестели, он просиял.
– Провалиться мне, если ты не заткнешь за пояс всех этих ученых книжных червей! Ты молодчина, Русудан, молодчина!
– Постой, сумасшедший, куда ты?
– Хочу срезать немного травы для козленка, а то он у дяди Нико нынче ночью с голоду ноги протянет.
– Только не мешкай. Вода почти нагрелась, искупаешься.
– Я купался, когда переезжал через Алазани. Вот смотри – даже волосы еще не просохли.
– Брось дурить, Максим!
– Ладно, ладно, искупаюсь. Знаю, иначе ты мне в чистую постель не позволишь лечь.
Пока Максим ходил за травой, девушка успела зарезать курицу и стала ее ощипывать.
. – Не могла подождать, пока я вернусь? Ведь курица, зарезанная тобой, в горло не полезет.
– А ты не ешь, если не хочешь. Сними свой кинжал. Зачем ты его носишь дома?
Парень невольно взялся за пояс и сконфуженно улыбнулся.
– Я скажу тебе одну вещь, Русудан… Ты не рассердишься?
Девушка насторожилась.
– Давай выкладывай.
– Наша коза не стала бесплодной. Я отдал козленка одному лезгину вот за этот самый кинжал. Посмотри, какой красивый! Самая лучшая сталь. И до чего легкий – он и женщине по руке.
Русудан сдвинула брови, взяла у него кинжал.
– В самом деле хорош. Но зачем было меня обманывать? И почему ты никогда не говорил, что тебе нужен кинжал?
– У каждого настоящего чабана есть кинжал, Русудан, Мне уже давно хотелось его иметь. – Максим жалобно, умоляюще смотрел на девушку.
Лицо Русудан опять прояснилось.
– А зачем было отдавать козленка? Ведь я же тебе купила ружье. Сказал бы мне – купила бы кинжал.
– Но лезгин не хотел брать денег, Русудан! Думаешь, я не предлагал? Он хотел только козленка.
– Ну хорошо, хорошо, дурачок, перестань так жалобно на меня смотреть. Раз нужно, так нужно, ничего не поделаешь. Но в следующий раз непременно вырасти козленка.
Юноша, сидевший на корточках у огня, развеселился, вскочил и, войдя в марани, вынес оттуда сложенную длинную веревку.
– Пойду привяжу лошадь, Русудан!
Через час Максим, свежевымытый, аккуратно причесанный, одетый во все чистое, сидел за столом и уписывал свой ужин за обе щеки.
Золотистый пушок на подбородке и на верхней губе удивительно красил румяное, тронутое золотистым загаром лицо Максима. Голубые глаза юноши смотрели с благодарностью на хозяйку, которая подкладывала ему на тарелку самые лучшие куски.
– Слыхал – твой скакун сломал Арчилу руку.
– Не сломал, а только вывихнул. – Максим с хрустом обгладывал крепкими зубами куриную ножку. – Сам виноват – нечего соваться в наездники, ежели кишка тонка! А ведь целый день приставал ко мне, чтобы я ему коня уступил. Тут еще Вано подоспел, сказал мне про ветеринара… А то я бы не уехал, не отдал бы кабахи в чужие руки.
Русудан потянулась за бутылкой и подлила в стаканы вина.
– Об этом можешь не горевать, Максим. Кабахи все равно вам достался.
Чабан перегнулся через стол:
– Каким образом, Русудан?
– Знаешь, кто усмирил твоего коня и сбил кувшин с шеста? Внук старого Годердзи.
– Ого! Значит, наш, чалиспирский? Ты его видела?
– Имела счастье лицезреть.
– Ешь, Русудан, что ты вдруг заскучала? Возьми крылышко, ты ведь его любишь. Или вот вторую ножку. Хочешь, переломим дужку, побьемся об заклад?
– Я устала, Максим. И я поела, когда вернулась с поля. – Она спросила внезапно: – А как назовем песика?
– Как ты захочешь. Можно и его тоже назвать Ботверой.
– Нет, не надо. А то всякий раз, как кликну, буду вспоминать того несчастного пса. Лучше назовем его Мурия. Мордочка у него вся черная, так что имя подойдет.
– Ладно, Мурия так Мурия.
…После ужина Максим отвел козленка к дяде Нико. Когда он вернулся, Русудан была уже в постели.
Юноша прошел на цыпочках в другую комнату, тихонько притворил за собой дверь и, скинув одежду, с наслаждением растянулся на свежих, прохладных простынях.
Русудан долго не могла заснуть. Мысли цеплялись одна за другую, переплетались между собой, как ветви лоз на шпалерах.
Засыпая, девушка глянула на дверь: Максим неплотно закрыл ее и забыл заложить на крючок.
Она и не подумала встать: из соседней комнаты доносился густой мужской храп.








