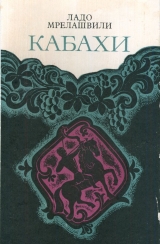
Текст книги "Кабахи"
Автор книги: Ладо (Владимир Леванович) Мрелашвили
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 62 страниц)
– Значит, по-твоему, полеводство – это чужое дело?
– Я этого не говорил.
– Так чего же ты хочешь, дружок: чтобы поспевший урожай остался в поле? Чтобы полег и сгнил на корню?
– Урожай в поле не останется, не поляжет и не сгниет. На полях работают свои, полеводческие бригады. Пусть каждый руководитель организует дело в своей бригаде как следует, тогда и с теми силами, какие есть, урожай будет убран до срока.
– Какие там силы, где силы, дружок? Вся поголовно молодежь бежит из села – одни на заводы в Рустави, другие учиться – в институты, в техникумы, а иные вон даже на курсы кройки и шитья.
– А вы не пускайте.
– Кто меня спрашивает? В прошлом году дочка Бачиашвили уехала в Телави, учиться портняжному делу, и нынче наконец сшила штаны, да и то одна штанина галифе, а другая обычная, навыпуск.
Присутствующие дружно захохотали. Только бригадир и бухгалтер сохраняли невозмутимый вид.
– Вот, братец, уехала и чего добилась? Разве здесь она не больше принесла бы пользы и себе и другим?
– Это меня не волнует. Невелика потеря отпустить такого работника. Я говорю о тех, кто поумней.
– Что же мне с ними делать, сынок? Веревкой привязать?
– Да, привязать, только не веревкой.
– Это ты здорово придумал, только тебя опередили. Теперь такой порядок, что ни райком партии, ни райком комсомола не дадут нигде в районе работу и не направят в другой район ни одного нашего человека, если он не представит справку, что я его отпустил.
– Да ведь я не об этом. Я только говорю, что полеводческие бригады в нынешнем своем составе могут досрочно справиться с уборкой урожая. А что касается райкома и моего смещения с поста бригадира, – не пугайте меня! Будь я из пугливых, не добрался бы пешим ходом до Берлина. – Бригадир встал. – Могу я теперь идти? Вон уже солнце как высоко поднялось, а я все еще тут. Дело не ждет.
Председатель выпрямился в своем кресле.
– Скатертью дорожка, сынок, ступай хоть к дьяволу, хоть в преисподнюю! Об камень ту крынку и псам то молоко, что мне без пользы! Уйти тебе и не вернуться!
Бригадир поблагодарил за это ласковое напутствие и вышел.
Бухгалтер взял подписанный листок и тоже покинул кабинет.
Председатель отвел наконец гневный взгляд от двери, закрывшейся за бригадиром, и повернулся к сидевшим у правой стены.
– Ну, а вас что, вчера паралич разбил? Хоть бы раз попали чоганом в мяч! Что с вами стряслось?
Двое молодых людей, низко опустив головы, в смущении тискали меж колен свои руки.
– Тьфу, позор на ваши головы! Молодцы-удальцы! Я на вас понадеялся, а вы… Дохлятина, как есть дохлятина!
– Мы не виноваты, дядя Нико. Лошади были не готовы. Гурджаанцы говорят, надо было коней потренировать. А мы выпрягли их из плуга – и прямо на стадион…
– Как же, надо было, значит, для них турник и брусья поставить, чтобы они «солнце» крутили!
– Турника и брусьев для нас и то нет… – послышался откуда-то из дальнего угла робкий голос, и взгляд председателя сразу вонзился в дерзкого, посмевшего вставить это замечание.
– Что? Что? Турника захотел? Да у нас и для двуколки-то оси нет, а тебе турник подавай? Лошадей выезжать!.. Еще чего?.. С культивацией виноградников не могут управиться, а сами только о скачках и думают! А тот русский парень где, куда, к дьяволу, запропастился? Оставил тут бешеного коня несчастному парню, чтобы тот изувечился, а сам в сторонке посмеивается?
– Максиму сказали, что ветврач поехал на пастбище, делать овцам прививку против бруцеллеза. Вот он и заторопился, сдал скакового жеребца Арчилу, а сам уехал на своей кобылке в горы, к отарам.
– А ты, Тедо, так и будешь вечно во все двери с жалобами да с наветами стучаться? Чего тебе не хватает, добрый человек? Всюду шныряешь, всех подсиживаешь, так и молотишь языком. Сам сна не знаешь и другим покоя не даешь! Не ты один у нас бывший председатель, есть в колхозе еще двое таких, но те сидят спокойно, никто от них слова не слыхал… Не могли же мы все остаться председателями! Один колхоз, один и руководитель. Разве я виноват, что наши колхозы объединились? Не я, брат, это придумал. Значит, так было нужно. Оставили тебя бригадиром – чего ты еще хочешь, чего добиваешься? Пора бы успокоиться.
Встревоженный взгляд Тедо забегал по комнате.
– Что ты, Нико, откуда ты взял такое? Не верь наговорам, не верь, что бы тебе ни нашептывали. Какое там шнырянье, какие наветы?.. Нет, Нико, дорогой, это кто-то хочет раздор меж нами посеять. Не верь…
– Постой, постой, что ты забубнил, прямо как «отче наш»?.. А о чем ты с Варденом говорил? Какие у тебя с ним дела, чего ты у него просишь? Одним служишь, а от других платы ждешь?
Тедо еще чаще заморгал, глаза его забегали еще быстрей. Он уже собрался было отвечать, но тут в кабинет вбежал запыхавшийся мальчик.
– Дедушка Нико, к вам гость приехал. Тетя Тамара велела передать, чтоб ты скорее домой шел.
Председатель поглядел на мальчика.
– Что за гость, малыш?
– Почем я знаю? Бабушка Микелашвили сказала – большой человек. Уж верно, очень большой. Шляпа у него с полями, в руках вот такой ящик, – мальчик растопырил руки.
Председатель поднялся с места.
– Ну беги, передай, что я сейчас приду. Вы все ступайте и делайте, как я сказал. Давайте по местам, приглядывайте каждый за своим делом. А с тобой, Тедо, мы вечером еще поговорим.
Шавлего шел по рощам и зарослям алазанской поймы. Временами он останавливался и глядел вокруг.
Огромные дубы, горделиво расправив могучие плечи, вздымали к небу свои узловатые ветви. У их подножия дремали деревца мушмулы и кизила. Местами же виднелись среди мелколесья кусты бредины, стройные грабы и ольхи.
Путник шел бодрым шагом, продираясь сквозь пышные заросли репейника, конского щавеля и дикой крапивы и поглядывая вверх, на зеленые шатры густолиственных вязов. Ползучие лианы, обвившие ветви ольшаника, свешивались среди листвы. Покрытые серо-землистой морщинистой корой, они были похожи на толстые витые канаты и, сплетясь с частыми ветвями калины, делали рощу почти непроходимой.
Шавлего спустился в высохшее русло одного из боковых протоков Алазани и двинулся вверх, к его началу. Проток наполнялся лишь в половодье, а сейчас ложе было пусто, и только прозрачный, чистый ручеек струился среди песка и гальки. Оба берега заросли хвощом и мать-мачехой, а местами чинно приплясывали под прибоем крохотных волн, покачивали склоненными головками камыши.
Шавлего остановился у заводи и заглянул в голубое водяное зеркало, в глубине которого носились стремительными серебристыми искорками проворные хариусы и усачи, плотвички и пестробрюхие форели. Солнечные лучи проникали сквозь толщу воды до самого дна и семицветной радугой расцвечивали их веселую игру.
Долго смотрел в воду Шавлего, наслаждаясь зрелищем, а потом, когда испуганные брошенным камнем рыбы исчезли как по волшебству и волна кругами разбежалась по встревоженной зеркальной глади, продолжал свой путь.
Над отвесными берегами высохшего речного протока нависли привольно разросшиеся кусты орешника и тонкоствольные ольхи. Узкое русло было сплошь затенено их густой листвой. Тихо шелестели осины над каменистым обрывом. В густой листве ворковали дикие голуби. Вдали куковала кукушка. А внизу, кружа над цветами, гудели пчелы.
Шавлего остановился на берегу.
Широко раскинулось ложе Алазани. Там и сям на островках тянулись ввысь прямые, стройные осины и веретенообразные тополя, а на песчаных отмелях кудрявились серебристые ветлы и грустили, свесив косы в воду, плакучие ивы.
Посреди просторного булыжного русла – с одного его берега едва был виден другой – катила говорливые волны быстрая Алазани и ласковым своим шепотом баюкала дремотную окрестность.
Шавлего увидел заводь у изгиба реки и, пройдя дальше по берегу, остановился над ней. Здесь был омут с водоворотом – Алазани, скатываясь с горы, всей стремниной билась с разбегу в скалу и, отразившись от нее, кружилась волчком.
Скинув одежду, путник бросился в воду. Длинными саженками рассек он кипучие струи, доплыл до спокойной воды посредине заводи и лег на спину, закрыл глаза, затих под отвесными лучами солнца.
Когда ему наконец наскучило лежать без движения, он перевернулся и устремился вниз головой в глубину, исчез под водой. Через несколько мгновений над зеркальной гладью омута вновь всплыли черные волосы, и пловец выплюнул камешек, который подобрал ртом со дна.
Он поплавал еще немного, вышел на берег и растянулся на песке.
Навалявшись вволю, он напоследок снова кинулся в воду, смыл прилипший к телу песок, потом перенес свое платье через реку и не спеша оделся. Теперь Шавлего брел, не разбирая дороги, кружа без цели. Лето во всей своей пышной красе царило вокруг. Деревья отбрасывали на траву укороченные, сплетающиеся тени.
Шавлего шел, то и дело нагибаясь и срывая цветы.
Желтые, лиловые, белые, розовые, лазурные чашечки и венчики ромашек и васильков, сурепицы, цикория, колокольчиков, лютиков и вьюнков пестрели в траве. Шавлего нарвал огромный пук цветов и пошел дальше.
Старая, заброшенная дорога тянулась по просеке. Она заросла ситовником и осокой. А дальше перед путником поднялись стеной камыши, и ему пришлось разуться, чтобы пройти по мочагу.
Некоторое время он месил ногами вязкую грязь, пробирался между лезвиями жесткой травы, а потом ушел с просеки в рощу, поставил чемодан под дубом, глянул, на свои облепленные грязью ноги и нахмурился.
– И сюда добралась слякоть от старого рукава! – пробормотал он и уже собрался было двинуться дальше, но тут ему послышались в отдалении какие-то неясные звуки. Немного погодя он различил голоса – сначала низкий, хриповатый мужской, а потом перебивший его ясный, звонкий женский. И путник раздумал возвращаться на просеку.
Что может быть для влюбленных желаннее такого уединения в цветущей лесной глухомани? Вся роща дремлет, разнежившись в зное, и ветерок затаился в верхушках осин, чтобы ни единым вздохом, ни даже еле слышным шелестом не помешать им, не нарушить любовные чары. И разве не для них разостлан вокруг ковер нетронутой шелковой муравы, усеянной ромашками? Под каждым деревом – манящая прохладная тень, чуть ли не на каждой ветке стонет вяхирь…
Так пусть же все покорится непобедимой силе любви!
Путник решил было уйти, углубиться в заросли, но тут до слуха его ясно и четко донеслись сказанные резким тоном слова:
– Знала бы я, Варден, что вы можете быть таким несносным, ни за что бы не поехала с вами!
С тех пор, как ты появилась в деревне, Русудан, все пути-дороги мои запутались. Покоя лишился, самых красивых девушек за версту обегаю! Люблю тебя, слышишь, – неужели ты этому не рада? Ведь сколько женщин обо мне мечтает, а я даже глядеть на них не хочу!
– Не хвастайтесь, товарищ Варден, очень уж вы гордитесь своей внешностью. Я никогда не любила красавчиков.
– Кто же способен тебя увлечь?
– Настоящий человек, с мужественным, сильным характером.
– А я, по-твоему, кто?
– Вы? Инструктор райкома, прикрепленный к нашему колхозу в связи с уборкой урожая.
– Только и всего?
– Да, только и всего!
Звук в лесной тишине разносится далеко, и путник услышал разговор задолго до того, как показались говорившие. Наконец из-за поворота просеки выехала двуколка, и он смог разглядеть тех, кто в ней сидел. Правила двуколкой девушка. Подобрав вожжи, она осторожно направляла лошадь.
– Ну, вот что, Русудан. Поговорила, и хватит! Теперь слушай меня хорошенько. Мы с тобой одни в этих болотных зарослях. Кричи, зови на помощь – никто тебя не услышит. Ни одна человеческая душа в эту глушь не забредет – жди хоть до завтрашнего вечера.
– Пожалуйста, не угрожайте мне и вообще бросьте этот тон, Варден, не то мне придется высадить вас.
– Ты сейчас в моих руках, Русудан, и тебе не уйти. Зачем же ты заставляешь меня просить? Захочу, всю тебя изломаю!
– Не трогай меня, наглец, ничтожество, не смей ко мне прикасаться! Бессовестный человек, убирайся, сойди сейчас же, слышишь? Сию минуту сойди! Нет? Ну, так я сама сойду! – Девушка бросила вожжи и хотела было выпрыгнуть из двуколки, но спутник ее оказался проворней: вскочил, схватил беглянку за локти и вернул на место.
– Куда, Русудан? Сама ведь знаешь – тебе от меня не уйти!
Девушка обернулась к нему.
– Ах вот как, инструктор? Ну ладно, посмотрим, кто кого изломает!
От неожиданного и сильного толчка мужчина ударился о крыло двуколки, потом ноги его мелькнули в воздухе, и он с размаху грохнулся оземь.
Девушка дернула вожжи и пустила лошадь во весь опор.
Двуколка пронеслась мимо дуба, въехала в трясину и сразу погрузилась по самую ось в вязкую грязь.
Ни кнут, ни лихорадочные понукания не смогли стронуть увязшую в болоте лошадь с места.
Разъяренный Варден вскочил и с выражением злобного торжества на лице кинулся к двуколке.
– А теперь куда уйдешь?
Девушка вскочила и замахнулась кнутом.
Хлюпая по топкой трясине, мужчина приближался к ней.
Брови у девушки грозно сдвинулись, щеки ее горели от гнева; она стояла в двуколке, выпрямившись во весь рост и была необычайно красива.
– Попалась, жар-птица?
– Попробуй только полезть сюда ко мне – я тебе все лицо исполосую! Не смей! Говорю, не смей! Слышишь?
Но мужчина, не слушая ее, ступил облепленной грязью ногой на ступеньку двуколки.
Ступил – но не влез. Железная рука подхватила его, подняла в воздух, вынесла из болота и посадила, барахтающегося и беспомощного, на траву.
Растерявшись от неожиданности, девушка так и осталась стоять с поднятым кнутом в руке. Между тем спина незнакомца скрылась под двуколкой, кузов ее заколебался, и, не удержав равновесия, девушка упала на мягкое кожаное сиденье.
Двуколка поднялась, колеса понемногу вылезли из вязкой трясины. Лошадь, почувствовав облегчение, тронулась с места и без труда вытащила легкий возок на сухое место.
Девушка наконец опомнилась и тут только разглядела незнакомца. На нем была белоснежная рубаха с раскрытым воротом, разорванная у правого плеча. Из-под закатанных штанин виднелись облепленные грязью сильные, высокие икры.
Он почтительно склонился перед девушкой, приложив к груди вымазанную грязью руку.
– Прошу прощения за дерзость. На этой дороге вы болота больше не встретите.
Летел «Москвич» и мчал по долине хмельных седоков.
Дорога пролегала по полю. Машина то и дело с разгона наезжала на ухаб, ее крепко встряхивало, и у пассажиров на лбу и на затылке вздувались шишки – такие, что не только пятаком, даже старинным серебряным рублем не закроешь.
Ночь уже успела войти в полную силу и моргала звездными глазами.
Путники распевали во весь голос какие-то неразборчивые песни и все больше входили в раж – выпитое в изобили ркацители разбирало их, разливалось огнем по жилам.
Сегодня Закро во второй раз оспаривал первенство Грузии по вольной борьбе. По-прежнему судьба свела его на ковре с чабинаанским Бакурадзе. До смерти хотелось парню вознаградить себя за прошлогоднее поражение. Противники мяли друг друга, тискали, подсекали, подламывали, но ни один не смог швырнуть другого на ковер; наконец судьи присудили великому мастеру борцовых приемов победу по очкам – всего-то насчитали ему на одно очко больше…
И Бакурадзе снова, как в прошлом году, стал чемпионом Грузии.
Друзья-приятели приехали встречать Закро на телавский вокзал и сразу потащили его, огорченного, хмурого в буфет – чтобы пропустить бутылочку-другую, облегчить душу.
Раздосадованный парень искрошил крупными белыми зубами граненый стаканчик и, запрокинув голову, стал пить цинандали прямо из горлышка бутылки.
Потом приятели поднялись на «Москвиче» в Телави и до самого вечера просидели в каком-то погребке. Но напрасно пытался утопить горе в вине побежденный борец, наделенный богатырской силой и до прошлого года не знавший соперников…
Друзья утешали его, как могли. А когда настала ночь, компания села в машину и пустилась в путь, услаждая себе по дороге слух песнями.
Вдруг, перекрывая нестройные голоса певцов, горланивших очередную песню, раздался громкий возглас:
– Эй, дубина, куда ты едешь? Алазани у нас слева – туда и правь! Переедем реку по новому мосту и сразу очутимся в Алвани.
– Чего мы в Алвани не видали? – удивился кто-то.
– Есть у меня там девушка-тушинка, – склонив голову набок, сказал вполголоса первый и ухмыльнулся лукаво. – Заедем к ней, доберем, чего не допили…
Приятели встретили новое предложение восторженными кликами.
– Ну, так давай гони, дружище! Ты, завскладом, спой нам что-нибудь, чего молчишь, ослиная голова!
Что-то похожее на пение вырвалось из машины, перешло в хриплый рев и сразу оборвалось.
– Эх, матушка родная… Голос у парня – золото, и вот… Тьфу! Ничего, приедем в Алвани, заставим тебя сырые яйца глотать! Давай, Серго, дружище, гони!
Водитель, однако, не нуждался в понукании. А один из седоков, надсаживаясь, срывая глотку, выкрикивал слова песни:
Эй, гони, а я по следу
Прямо в рай к тебе приеду
В понедельник или в среду…
Они въехали в Алвани, остановились перед двухэтажным домом и принялись сигналить. Дом, однако, не подавал признаков жизни. Тогда они стали звать хозяйку по имени:
– Кето!.. Кето!
Наконец окно в верхнем этаже отворилось, оттуда высунулась чья-то голова, и сонный голос спросил:
– Кто это? Что вам нужно?
– Это мы… мы к Кето.
– А кто вы такие?
– Как кто? Мы ее товарищи.
– Кето нет дома. Она в больнице, на дежурстве.
Приятели помолчали, потом, посовещавшись, обратились к водителю:
– Ладно, крути баранку, Серго, выворачивай машину.
Серго «вывернул» машину и через минуту-другую дал протяжный гудок перед зданием больницы.
Спустя еще полчаса путники сидели за накрытым столом и вызывали друг друга с полными стаканами в руках «на аллаверды».
Мужчин в доме не было видно, а мать Кето – усталая, заспанная – все, еще никак не могла прийти в себя и поминутно извинялась перед нежданно-негаданно нагрянувшими кутилами.
Кето же, которая бросила дежурство, оставив вместо себя в больнице подругу, не знала, как угодить желанным гостям.
Крепкая водка распалила аппетит, ударила в головы, развязала языки. Гости зашумели, загалдели.
– Песню давай, песню, завскладом!
– Спой нам, соловушко!
– Нет, не надо песни, пусть лучше стихи прочитает.
– Какие там стихи – нашел тоже поэта!
– Ладно, пускай будут стихи, только что-нибудь покрепче, чтобы за душу взяло.
– Да, да, покрепче – это хорошо! Ну, начинай: «Заалели маки в поле…»{1}
– Точка с запятой.
– Эй ты, полоумный, шутки не всегда к месту!
– Так пусть читает «Отелло».
– Нет, давай «Мухамбази».
– «Отелло» лучше.
– Нет, «Мухамбази».
– «Отелло», говорю!
– «Мухамбази»! Давай «Мухамбази», завскладом!
– Ладно, пусть «Мухамбази».
– Жарь, друг милый, давай!
Толстый, грузный заведующий складом, чье иссиня-красное опухшее лицо свидетельствовало о самой тесной дружбе его с крепкими напитками, встал, окинул мутным взглядом сидящих за столом, потом уставился на хозяйскую дочку и начал медовым голосом:
Лишь засну я – ты в моей душе паришь.
А глаза раскрою – над ресницами паришь.
Тополь ли увижу – стан твой предо мной,
Радуга горит – твой пояс предо мной.
Десять у меня путей – гей, джан! – и все к тебе ведут.
Долго бормотал, шептал тихим, томным голосом заведующий складом, потом постепенно голос его стал громче, он выкатил заплывшие жиром глаза и ударил себя пухлым кулаком в черный волосатый треугольник груди, видневшийся под расстегнутым воротом рубашки:
Ты в бою кулачном посмотри – вот я каков!
Тулумбаша с чашей посмотри – вот я каков!
В Ортачальских погребках увидишь, – я каков…
У-ух, чтоб мне на месте умереть —
Тулумбаша посмотри, каков,
В Ортачальской чаше посмотри…
Ты в кулачной чаше…
Ты в кулачных погребках…
Завскладом путался в словах, голос у него вдруг сел; внезапно обозлившись, он грохнул кулаком по столу так, что вся посуда смешалась в общей куче.
Хозяйка заметно огорчилась.
Зато дочка ее и виду не подала, что ей неприятно.
– Собери осколки и сложи в сторонке, Серго!
– Что это тебя так разобрало, завскладом?
– Яйца, ребята, мы забыли про яйца!
– Ах да, яиц! Скорее, дайте яиц!
– Дай ему сырое яйцо, Кето, авось снова в голос войдет. Знаешь, что у него за голос? Ух, раскосые твои глаза! Кто с тобой сравнится! Разве что сам Годзиашвили!
И сосед обнял и расцеловал заведующего складом.
Певцу дали проглотить сырое яйцо.
– Да ну, что одно яйцо! Разве одно яйцо ему поможет? Все равно что ничего. – Сидевший рядом с певцом вскочил и вышел из комнаты.
Вскоре снаружи, с балкона, донеслось отчаянное кудахтанье курицы и неясное бормотание.
Вышедший вернулся через минуту. В поднятой поле рубахи он нес десятка два яиц.
– Это я с самого начала, когда мы поднимались по лестнице, приметил на балконе наседку, – заявил он, осклабясь, и неверным шагом направился к заведующему складом, но по дороге споткнулся о низенькую трехногую скамеечку и растянулся ничком на полу.
Гости с трудом поставили на ноги своего дружка, перемазанного яичным желтком.
Кето, скрывая досаду, повела пострадавшего к рукомойнику.
– На здоровье, Лео! – взревели в один голос собутыльники.
Разбив единственное, чудом уцелевшее и уже насиженное, с заметным зародышем, яйцо, приятели с хохотом заставили беднягу завскладом проглотить его.
Хозяйка отвела взгляд, отвернулась…
Снова мчался по шоссе «Москвич».
Когда переправились через реку Стори, мотор заглох.
Седоки приложились по очереди к прихваченной из Алвани бутылке водки и, не разуваясь, спустились в поток, доходивший им до бедер.
Вымокли сами, и машину залило водой, но под конец ее вытащили, запустили мотор и снова выбрались на дорогу.
Когда путники въехали в Чалиспири, почти все село спало мирным сном.
«Москвич» лихо промчался по пустынной улице и затормозил посреди села, у столовой. Из машины высыпались набившиеся в нее гуляки.
Стараниями распорядительного заведующего столовая была красиво оформлена как снаружи, так и внутри. Кроме общего зальца было в ней и несколько отдельных крохотных закутков-кабинок. Дверь в глубине помещения вела на задний двор, а там был колодец, в который жаркой летней порой опускали, чтобы остудить, бутылки с вином. Над колодцем высилось огромное тутовое дерево – густая его листва защищала от палящих лучей устроившихся у подножья застольцев. Двор, обнесенный высоким дощатым забором, был полностью отделен и от улицы, и от соседних дворов.
Приятели застали в столовой только заведующего и повара. Буфетчик и единственный официант уже ушли домой. Лишь один запоздалый посетитель еще оставался в зале – это был председатель сельсовета. Он то и дело чмокал алыми, разгоревшимися от вина губами и, перегнувшись через прилавок, о чем-то шептался с заведующим.
Заведующий столовой поднял на вошедших живые черные глаза и, прервав беседу с председателем сельсовета, пошел навстречу поздним посетителям. Он обнял шедшего впереди мрачного как туча Закро, поздравил его с серебряной медалью, а потом поздоровался и с остальными.
– Я уже думал запирать – как раз собирался отпустить повара. Но ведь таких гостей, как вы, разве что раза два за год бог пошлет! Что пить будете, ребята? Есть цинандали, и напареули есть, и руиспирское мцване, и красное из Икалто; ну, и нашего, чалиспирского, сколько угодно. Ражден! Вздень на вертела семь шашлыков и разогрей бугламу. Ух, какая жара настала – не будь у нас этого колодца, совсем бы мы тут растаяли! Луку и редиски почисть побольше! Сейчас, сейчас поставим бутылки в колодец, и через десять минут они будут как лед. Так что же вы будете пить? Хотите по стаканчику белого – крепкая водка, чача. А хотите, принесу коньяк – старый, отборный, пять звездочек.
Закро поморщился:
– Не хочу ни чачи с коньяком, ни цинандали, ни напареули. Дай нам нашего, чалиспирского. Хинкали у тебя есть?
Заведующий хлопнул себя по лбу и крикнул повару:
– Сними бугламу, Ражден, и поставь разогревать хинкали. Совсем я стал беспамятный на старости лет! Сколько хинкали разогреть, ребята?
– Давай, сколько у тебя есть… Наши желудки так устроены, что железные гвозди и те переварят, – подал голос завскладом, еле оторвав от стола отяжелевшую голову.
Событульники с хохотом поддержали его, и заведующий столовой направился к буфету.
Два блюда хинкали очутились в котле, поставленном на огонь, а на столе перед гостями появились тонко нарезанный тушинский сыр, крупные светлые листья салата цицмати, зеленые стрелки молодого лука, румяная редиска и длинные хрустящие хлебцы – шоти.
– По рюмке коньяка, Закро?
– Не хочется, ребята, выпейте сами, если охота. А мне принеси нашего, здешнего ркацители, Купрача!
– Сейчас, сейчас, Закро-джан. Все для тебя достану – хоть из-под земли. Ркацители у меня такое, что сам царь Ираклий позавидовал бы.
На столе появился коньяк, а к собутыльникам присоединился председатель сельсовета.
– А ты, Симон, перестань суетиться и иди к нам. Хоть я и осрамил вас, за стол со мною сесть все же не зазорно. Ну-ка, подними этот стаканчик! – и Закро протянул хозяину рюмку, наполненную коньяком. – Скажи что-нибудь, как ты умеешь, такое, чтобы у меня от сердца отлегло.
Заведующий столовой подошел к столу. Это был рослый, крепко сбитый человек, чуть постарше сорока лет, далеко не такой тучный, каким, по обычному представлению, должен быть работник буфетной стойки. Правый глаз у него заплыл сине-багровой опухолью, лицо заросло до самых скул частой черной, неделю не бритой бородой.
Он поднял стакан и начал приятным голосом:
– Что я-то вам могу сказать, ребята, – вы сами мастера и придумывать и говорить! Ходите-ездите, видите белый свет, и хорошее и худое вам по пути встречается. А мое ремесло – что неразрезанный арбуз. Всякие-разные люди сюда ко мне заглядывают. Что ни человек – другое лицо, иная походка. – Купрача остановился и поглядел прищуренными блестящими глазами куда-то вдаль, за головы застольцев. – Человек? – спросил он и сам себе ответил: – Разве живого человека разберешь? На лбу ведь ничего не написано, а душа у него внутри, под рубахой! Знаете, что я вам скажу, ребята? Давайте выпьем за такого человека, кто плох не плох, а лучше иных хороших!
– Ух, ну и язык! Золотые уста! Да ты не то что печального человека развеселишь, а мертвеца из могилы поднимешь!
– Скажи-ка, Купрача, по ком ты траур носишь, почему не бреешь бороду?
Купрача провел рукой по щекам и смешно скривил шею.
– Похоже, что перед всем светом лицо потерял, да?
– А ты побрейся, и лицо опять будет при тебе, и весь свет его увидит!
– Эх, Валериан, вот бы нашему колхозу каждый год такие густые нивы!
Вдруг Закро приподнялся на стуле, схватил заведующего столовой за рукав, притянул к себе и стал в него вглядываться.
– Что это, Симон? Почему у тебя синяк под глазом?
Купрача улыбнулся и сделал небрежный жест, означающий, что это пустяки.
– Нынче вечером заглянул к нам сюда один хевсур. Я подал ему все, что он просил, как в той старинной песне о кипчаке-разбойнике. Хевсур поел, выпил и, когда вино его разобрало, собрался уходить. Я сказал ему, чтоб расплатился, а он швырнул в меня солонкой. Это уже в третий раз он хотел угоститься на даровщинку. Раз я ему простил, второй раз – тоже, вот он и решил, что я его испугался и можно теперь кормиться у меня задарма. Ну, я и виду не подал, что почувствовал боль, подошел к нему, оперся об его стол и говорю – что же это ты, дружок, так нехорошо поступаешь? А он давай теребить свой кинжал и грозится, глаза выкатывает. Тут я не вытерпел, схватил его за ворот рубахи, крестами расшитой, и стащил со стула, да двинул так, что он у меня полетел кувырком. Немного погодя смотрю – входят другие хевсуры. Я решил, что теперь уж дело дойдет до кинжалов, и схватил на кухне большой вертел шашлычный… Но хевсуры, сами знаете, не мне вас учить, – ребята крепкие, правильные… Напротив, накинулись на него и тут же уволокли с собой: дескать, всегда и всюду ты нас позоришь.
Закро расхохотался.
– Царство небесное обоим твоим родителям! И язык у тебя остер и кулак промашки не знает! Хорошо, что меня тут не было!
Принесли остуженное в колодце вино. Бутылки выстроились шеренгой на столе.
– Что ты примолк, Закро? Расскажи тбилисские новости! Газету я, правда, читал, но уж, наверно, этому Бакурадзе туго от тебя пришлось!
Закро хмуро глянул на председателя сельсовета и процедил сквозь зубы:
– Об этом со мной лучше не разговаривай, Наскида! – Потом, не обращая внимания на стаканы, схватил одну из бутылок, повертел в руке и прильнул к ее горлышку. Запрокинув голову, Закро пил богатырскими глотками вино, и кадык его ходил вверх и вниз; когда же бутылка опустела, он с силой ударил кулаком по столу и продолжал: – И это проклятое вино меня больше не пьянит! Эй ты, завскладом! Ты же не у себя на складе – подними голову!
Купрача фыркнул:
– Эк его разнесло, будь он неладен! Посмотрите – весь кругленький, как бочоночек!
Приятели, хохоча, разбудили толстяка собутыльника и чуть ли не силой влили ему в рот стакан вина.
Заведующий складом не уронил своего достоинства – как ни в чем не бывало, будто выпил вино по своей воле, затянул вполголоса:
– Лишь засну я… – и тут же снова уронил голову на стол.
– Ну, тогда хоть ты грянь песню, Серго! Не бойся, потолок над твоим отцом не обрушится!
Серго не заставил приятелей повторять просьбу.
Закро, который сидел повесив голову, потянулся за второй бутылкой, опорожнил ее до половины и отставил.
– Вы тут, ребята не скучайте… А я выйду ненадолго, глотну свежего воздуха…
– Ступай, ступай, проветрись, Закро-джан… А ты пой, играй, Серго! – И красный как морковь председатель сельсовета принялся подтягивать поющим:
Э-эх, краса-авица-а…
Заведующий столовой проводил взглядом уходящего.
– Сейчас принесут шашлыки и хинкали, Закро!
– Да, да, милый, хорошо… Пусть несут… А я пойду прогуляюсь.
Выйдя за дверь, Закро постоял несколько минут под тутовым деревом, потом прошел на середину двора и глубоко вдохнул ночной воздух.
Чуть заметный ветерок нес с огородов пряные запахи зреющих помидоров, тархуны и спелых черешен. Какая-то птица громко пела вблизи, и от этого ночная тишина казалась еще уютней. Одно за другим сменялись коленца птичьей песни, и так сладостно показалось парню его уединение, что он подошел к забору, ухватился обеими руками за верхний его край и прильнул к доскам разгоряченным лбом.
В голове у него кружились, цепляясь одна, за другую, самые разнообразные мысли. Долго стоял Закро в таком полузабытьи, а когда птичья песня, прозвенев на самой высокой ноте, перешла в тихий щебет и наконец совсем замерла, одна мысль взяла верх над остальными.
Закро с великим трудом влез на высокий забор и спрыгнул с него в соседний сад.
Шел напрямик через бахчи и огороды хмельной молодец, шел неровным шагом, не разбирая дороги, цепляясь за длинные плети помидорных и огуречных стеблей, топча тщательно ухоженные грядки лука и цицмати. Под напором могучих плеч обламывались унизанные плодами ветви яблонь и груш гулаби, а вишневые деревца, казалось, пугливо сторонились при появлении этой огромной фигуры.








