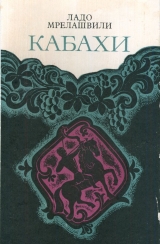
Текст книги "Кабахи"
Автор книги: Ладо (Владимир Леванович) Мрелашвили
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 46 (всего у книги 62 страниц)
– Что за злой у тебя язык! Ты ведь не знаешь… Ты не знаешь… Ты ничего не знаешь, а бранишься безбожно…
– Ты рано вышла замуж?.
– Еще студенткой.
– И небось думала, что замужество – сплошная забава, песни, смех и веселье?
– По правде сказать, не без того.
– Ну, а на деле оказалось совсем иначе. Наверно, в первые же дни после брака ты уже поссорилась с мужем?
– Мы прожили вместе целый длинный год.
– Долго выдержали. Он тебя очень любил?
– Он и сейчас меня любит.
– А ты бросила его и ушла.
– Больше я не могла терпеть. Дошла до точки.
– Почему вы разошлись?
– Он замучил меня ревностью.
– А ты давала повод? – Шавлего задавал своей спутнице все более беззастенчивые вопросы; странное раздражение владело им.
– Ни разу. Он просто был болезненно ревнив. Я не могла шагу ступить одна. А когда выходила с ним, то не смела даже поздороваться со знакомыми, если они были мужского пола, Мы дошли до того, что беспрестанно грызли друг друга.
– А как он теперь?
– Ходит за мной по пятам, не дает покоя. Я сбежала от него. Потому и приехала сюда, к Русудан.
– Значит, ты его не любила.
– Сейчас мне кажется, что не любила, Никогда.
– Печально… Почему ты не хочешь еще раз попытать счастья?
– Не дразни меня, Шавлего.
– Я говорю серьезно. Нужны дети.
– Что ты заладил – дети, дети… Отчего именно я обязана их рожать, да еще непременно десятерых? И притом воров, разбойников, бандитов? Или таких же, как ты…
– Ну, ну, говори, не стесняйся.
– Ничего я не стесняюсь. Очень просто скажу.
– Так говори! Таких же, как я, то есть каких?
– Таких же, как ты, головорезов, таких же… да нет, у тебя вместо, сердца плетка в груди!
– Все равно ты должна выйти замуж, Флора.
– Не выйду замуж, назло тебе не выйду. Господи, что он все твердит – замуж, замуж?.. Разве нельзя мне иметь детей, вовсе не выходя замуж?
– Почему же нельзя? Только тогда надо называться девой Марией.
– Можно и не будучи девой Марией. Она одного родила, а я рожу десятерых. Только ни один из них не будет такой, как ты… Мои сыновья будут чуткими, деликатными, добрыми, сердечными и никогда, нигде, ни при каком случае не водрузят рядом с женщиной куля, набитого мукой. Ох, опять рука застыла! Посмотри, какая холодная.
Флора изловчилась снова засунуть руку в рукав к Шавлего. Маленькая женская рука проникла глубоко внутрь и прильнула к сильной мужской руке около плеча, стараясь согреться. Мужская рука была крепкая, длинная, вся в желваках стальных мышц. В каждой ее клеточке, чуть ли не в каждом растущем на ней волоске чувствовалась огромная, дремлющая, сдерживаемая могучей волей сила.
Лошадь свернула в заросли на Берхеве. Дорога шла под гору, и двуколка катилась теперь легко. Мрак словно стал еще гуще и черней. Небо, казалось, спустилось и налегло на землю всей своей тяжестью. В глухом безмолвии ночи ритмический топот облепленных грязью лошадиных копыт отдавался барабанным грохотом. Ноющим фальцетом вторила скрипящая под тяжелым грузом ось. По-прежнему монотонно вздыхали плохо смазанные колеса. А на двуколке, неуклюже развалившись, покоился мешок с мукой, подобно хевсурскому клинку, разделяющему двух цацали.
Бегура стоял на цыпочках, весь вытянувшись, и часто, испуганно моргал. Шея его была сдавлена воротом, зажатым в горсти Реваза. Вместо слов из стиснутой глотки его вырывался лишь какой-то отрывистый хрип. Лицо было красно от прилива крови, мешки под глазами вспучились, дыханье прерывалось, жилы на висках вздулись и бешено пульсировали.
Реваз притянул аробщика еще ближе и прошипел ему прямо в лицо:
– Требовал я с тебя этот кувшин чачи?
– Нет.
– А мать моя требовала?
– И она нет.
– Так чего ж ты его подкинул? Что я, попрошайка? В руки тебе глядел?
– Да разве я мог знать, что получится… Сделал ты мне добро, уважил, дров для меня не пожалел, как же мне было хоть чем-нибудь не отблагодарить? Я и побольше хотел оставить, да мать твоя не позволила. Сказала, хватит и одного кувшинчика. Откуда я мог знать, как все обернется?
– Тьфу, сгореть твоей безмозглой голове, старая образина! – Реваз скрипнул зубами и оттолкнул Бегуру так, что тот ударился спиной о размокшую калитку.
Калитка сорвалась, и Бегура упал в лужу. Истертая штанина разошлась над коленом, сквозь дыру выглянуло чёрное, сухое колено. Так он сидел в грязи, ошеломленный, перепуганный, нахохленный, пялил по сторонам тусклые, бесцветные глаза и поглаживал щетинистую шею мозолистой рукой.
Жгучая жалость к бедняге аробщику охватила Реваза. Он круто повернулся, сплюнул в сердцах и ушел.
– Я голоден, дай мне поесть, мама, – сказал он, войдя к себе в дом. Моя руки, он яростно тер их мылом и расплескивал воду по галерее.
Старуха причитала, сокрушаясь:
– Я виновата. Ни за что не надо было принимать эту хеладу водки. Трижды ему говорила: на что мне твоя водка, у меня своей вдоволь, – никак не могла ему втолковать. Ну, тут я махнула рукой: оставляй, говорю, коли тебе некуда ее девать. Моя вина – вот этим языком, чтоб ему отсохнуть, сказала ему: оставляй. Да что тут особенного, господи, водка-то его собственная, кому хочет, тому и отдаст, никого это не касается! А зачем куб и все остальное унесли? Где это слыхано – накладывать руки на чужое имущество? Больше ничего у нас не оставалось от твоего покойного отца… Что ж теперь будет, сынок, что теперь с нами дальше будет?
Реваз сидел, опершись локтями о стол, и молча ел. Долго, рассеянно жевал он каждый кусок, словно высохла слюна во рту. И даже прожеванный кусок не мог проглотить – не лезло в горло.
Вошел Иосиф Вардуашвили, остановился в дверях, не поздоровавшись, и оттуда молча смотрел на старуху, причитавшую в углу. Потом бросил быстрый взгляд на своего бывшего бригадира и спросил глухим голосом:
– Это правда… насчет сегодняшнего партбюро?
– Правда, – не сразу ответил Реваз.
Иосиф сел на табурет. Долго сидел он безмолвно, время от времени потирая раненое колено. Такая у него образовалась привычка: болела старая рана или нет, стоило ему присесть, как он принимался массировать колено.
– Приходили и ко мне… Сколько, дескать, дал в уплату за перегонку. Говорю, нисколько. А они: не лги, тебе как члену партии не подобает. Я свое: не платил. Грозятся: все равно, мол, узнаем. Ну и узнавайте, говорю… Да я сам тоже хорош: чего я к тебе свою чачу тащил, отнес бы на колхозную винокурню… Поленился, далеко…
– Ты тут вовсе ни при чем, Иосиф. И этот бедолага Бегура ни в чем не виноват. Рано или поздно что-нибудь в этом роде непременно должно было случиться. Помнишь историю с семенной пшеницей? Нет, Иосиф, как говорит дедушка Годердзи, тут след подковы не того мула. В тот раз не выгорело – вот они и снова подобрались, подстроили каверзу. А я в тот раз только надулся и засел в своем углу – вот мне и наказание за это. Но теперь – зуб за зуб. Буду бороться.
Старуха встала, пошарила в стенном шкафу и приплелась к столу.
– Экая я беспамятная – совсем забыла! Тамара заходила нынче, принесла вот эту штуку. – Она поставила на. стол маленькую скульптуру. – Плакала, бедняжка, слезы так по щекам и катились. Я к ней поближе подошла, гляжу – лица на бедняжке нет. Отвернулась от меня и сразу за дверь…
Реваз взглянул на скульптуру и окаменел: это была привезенная им из Берлина миниатюрная копия «Похищения Персефоны Гадесом» Адриана де Бриса.
Иосиф не успел еще толком ее рассмотреть, как Реваз вскочил, перевернув стул, схватил скульптуру и бросился к двери.
Старуха обомлела. С минуту она стояла растерянная, потом догадалась, что яростный порыв ее сына находится в какой-то связи с этим предметом. Все, кто в эти дни приносил и оставлял что-нибудь, были в заговоре против ее единственного сына… Внезапно обессилев, она упала на стул и простонала:
– Что это за беда с нами стряслась, Иосиф, сынок? Хоть ты-то ничего не принес, не собираешься оставить?
Иосиф ничего не ответил – с силой, до боли, потер старую рану, молча встал и вышел.
…Реваз рванул калитку и вбежал во двор.
Тамара была дома одна. Она лежала ничком на тахте и плакала. Долго стоял Реваз, не говоря ни слова, и смотрел на нее. Тамара медленно подняла голову, взглянула на него. Лишь на миг отразилось на ее лице изумление – она сразу отвернулась и уткнулась в подушку.
Реваз не видел ее уже давно. Ему показалось, что девушка сильно изменилась, еще больше похудела. Глаза, распухшие от слез, запали еще глубже. Лицо было бледное, обескровленное. Глубокие складки около губ свидетельствовали о безысходной печали, о неутолимом горе. Плач перешел в громкие рыдания. Плечи и спина девушки тряслись.
Реваз поднял с пола свалившуюся шаль и прикрыл ею Тамару.
– Не трогай меня! – Тамара сдернула шаль с плеч и швырнула ее на пол.
– Хочешь простудиться и умереть?
– Хочу. О, хоть бы я и вправду умерла!
– Тамара, что с тобой случилось?
– Ты прекрасно знаешь, что со мной. Никто лучше тебя не знает, что со мной случилось. – Голос у нее был жалобный, щемящий сердце.
– Не надрывай себе душу зря и мне не надрывай! Не слушай ты этого человека, и все будет хорошо.
– Я уже никого не хочу слушать. Измучилась, устала. Ничего больше не хочу. Не могу, сил нет, устала до смерти. И ты тоже хорош – вечно, во всем надо тебе стоять поперек… Покоя не даешь. Просила я тебя, умоляла, полы тебе обрывала – оставь его в покое, отвяжись, ведь он все-таки мне отец. Но ты же ничего и слышать не хочешь, никак я тебя не могу убедить… Так теперь хоть от меня отстань, дай мне покой. Я ничего больше не хочу, ничего больше мне не нужно, ни-че-го…
Реваз стоял озадаченный, склонившись над девушкой. Он неловко сжимал в руках маленькую скульптуру и с силой, не переставая, тер ее большим пальцем. Скульптуру эту он привез из Берлина в подарок Тамаре. Девушка должна была хранить статуэтку до тех пор, пока будет его любить. И вот, отвергнутая и возвращенная дарителю, она снова была в руках у Реваза. Это означало разрыв. Между ними все кончено – таков был смысл возвращения подарка. Девушка бросила беглый взгляд на когда-то столь дорогую ей вещицу, отвернулась и снова спрятала лицо в подушках.
– Послушай меня, Тамара. В последний раз послушай. Я многое стерпел от твоего отца, да и от тебя. Всего лишился – перестал быть бригадиром, перестал быть членом правления, исключен из партии и, самое главное, потерял доброе имя. Но жизнь еще не кончена и борьба не проиграна, лишь бы ты была рядом со мной. Мне нужна родная душа, которая понимала бы меня, сочувствовала бы мне, верила бы в меня.
– Я больше не могу обманывать себя, Реваз. И ты не обманывайся. Ты давно уже прилагаешь все усилия, чтобы пути наши разошлись, ну вот они и расходятся… Пусть эта наша встреча будет последней. Не приходи больше в этот дом. Мне жаль тебя, но я тебя больше не люблю.
На пороге показалась Тинатин, тетка Тамары. От изумления она выронила узел, который держала в руке. Онемев от ярости, она поспешно скрылась за дверью и вернулась с половой щеткой.
– Ах ты вор, разбойник, злодей, разоритель наш, проклятый прощелыга! Никак не хочешь отвязаться от бедной девочки? Отца почти уже со света сжил, а теперь хочешь вдобавок доброе имя дочки по проселкам трепать? Ах ты негодник, позорище всего села!
Реваз не обращал внимания на гневные речи женщины до тех пор, пока рукоятка щетки не огрела его по спине. Тогда он обернулся, схватился за занесенную щетку и отбросил Тинатин в угол. Потом переломил щетку о колено и швырнул обе половины ей вслед.
– Теперь я вижу, кого я любила. – Тамара чуть приподнялась на тахте. – Не думала я, что ты еще и зверь, грубый, дикий зверь!
Реваз посмотрел со злостью на скульптуру, которую все еще держал в руках, и с размаху бросил ее об пол.
Гадес с Персефоной вздохнули в один голос и рассыпались мелкими обломками по полу.
– Как хорошо ты сделал, что пришел, Шавлего. – Он едва успел закрыть дверь, как Русудан уже повисла у него на шее. – Доклад я закончила. Теперь буду укладываться. Ты мне поможешь?
– Ну разумеется. Я за этим и пришел.
– Какой ты хороший мальчик, какой хороший! – Русудан потянулась к его шее, схватила его за воротничок. – Уже ведь холодно, почему ты ходишь нараспашку? Думаешь, без этого не догадаются, какой ты удалой молодец? Ах, опять не сходится! Неужели у тебя нет другой рубашки, чтобы надевать зимой?
– Распределения в колхозе еще не было, а зарплаты я не получаю. Из каких покупать?
– Ах, распределение! Смотрите, он уже о распределении толкует. Ладно, раз так, я беру это на себя. Как приеду в Тбилиси, куплю тебе хороших сорочек.
– А где ты их найдешь? Если не имеешь блата, тебе даже кончика хорошей сорочки не покажут.
– Как – не покажут? Мне не покажут? Для тебя – и не покажут? Шкуру сдеру с негодяев!
Шавлего подхватил девушку на руки. Она была чудесна – детски простодушна, прелестна на диво.
– Шучу, девочка моя! Кто от тебя что-нибудь спрячет? Кто тебе в чем откажет? Достаточно тебе случайно завернуть в магазин – и все, от завмага до последнего продавца, падут ниц перед тобой, со своими прилавками и витринами. Будут сражаться друг с другом, как гладиаторы, за право оказать тебе внимание! И уцелевший в этой битве ослепит себя, вглядываясь в раскаленный кирпич, как благочестивый мусульманин, который удостоился лицезрения могилы пророка.
– Ух, если ты меня сейчас раздавишь, если ты меня задушишь, перед кем будут повергаться ниц прилавки и витрины?
Вошла Флора, остановилась на пороге.
– Ах, как трогательно, ах, как волнующе-трогательно! О дульцинейшая Дульцинея, покидает тебя твой рыцарь? То есть, извините, наоборот, Дульцинея покидает рыцаря цинического образа, красу и гордость Чалиспири! Ну и развозит же вас, слыхано ли – при каждой встрече одни сплошные объятия и поцелуи! Уезжает на каких-нибудь три дня, и не могут друг от друга оторваться, точно навеки расстаются! – Флора закрыла за собой дверь и добавила деловым тоном: – Я звонила на станцию. Поезд отходит в четыре сорок пять по местному времени.
Русудан вырвалась из объятий Шавлего и поправила волосы.
– Флора, я отобрала все, что мне нужно взять с собой: платья, обувь, чулки… Не забудь зубную пасту и мыло! Уложи все аккуратно в черный чемодан. А мы с Шавлего пока спустимся в подвал и упакуем образцы пшеницы и кукурузы.
– Давайте и я с вами спущусь в подвал, а то если вы и там будете прощаться, поезд успеет тем временем уйти в Тбилиси и вернуться.
– Не говори глупостей, Флора. Пока ты, лентяйка, уложишь этот чемодан, мы с Шавлего управимся в подвале со всеми делами.
Подвал был полон вырванных с корнем и связанных в небольшие снопы колосьев пшеницы разных пород, стеблей кустистой и других сортов кукурузы.
– Ты не веришь в мою кукурузу, Шавлего, но вот смотри – сколько на каждом растении початков и какое крупное зерно!.
– Какая ты злопамятная, Русудан! Я нисколько не сомневаюсь в ней – просто однажды что-то сорвалось с языка необдуманное. Горячился, когда говорил, и напутал.
– Славный ты, Шавлего! Хоть и неправду говоришь, а приятно слышать.
– А это что?
– Это тоже разные сорта пшеницы, селекционные. Скорее бы настала весна! Не терпится начать опыление лучших сортов пыльцой ветвистой пшеницы! Больше всего меня интересуют длинноколосая и еще кахетинская и картлийская «доли». Одну легко поражает ржа. У другой слабый стебель. Третья легко осыпается в жаркое лето до уборки урожая. Я хочу соединить их самые лучшие качества в гибриде и потом заставить полученный сорт ветвиться. Все это у меня написано в докладе. Посмотрим, что скажут наши профессора… Боже, как вытерпеть без тебя три дня, Шавлего!
– Оно трехдневное, это республиканское совещание?
– В райкоме сказали – трехдневное. Шавлего, если ты после защиты диссертации будешь читать лекции в университете, то, может, и мне сразу договориться с моим профессором о переезде в Тбилиси? Очень будет жалко, правда, бросить здесь все. Каждое дерево, каждый кустик напоминает мне отца… И народ здесь хороший. Я так люблю Чалиспири, что, если бы не ты, ни за что бы не променяла здешнюю тишину на шумный, прокопченный город… А нам дадут квартиру?
– Если будем там жить, то дадут.
– Тогда мы все здесь оставим Максиму. Чтобы ему не пришлось мучиться, строить себе дом. Правда, Шавлего?
– Разумеется. Но это несколько отдаленная перспектива, а пока перед нами эти три дня.
– Три дня – без тебя!
– Не бойся, промчатся так, что не заметишь. Я скажу Нино, чтобы она заботилась о твоих курах, как о своих. Что касается собаки – не беспокойся; я сам буду варить ей похлебку.
– Нино может не заботиться о моих курах. Флора не хочет ехать вместе со мной.
– Флора остается здесь?
– Да, остается.
– Господи, извели меня своими монологами и диалогами! Увязываете вы или нет всю эту труху? Смотрите, который час! – Флора протянула свою маленькую, изящную руку, сунула часы обоим под нос.
Все трое занялись делом – закутали, связали в один пук все растения, надежно их упаковали и вынесли в галерею.
– А теперь я схожу к Купраче и приведу машину, а то как бы Флора не оказалась права: можно и опоздать к поезду. Остальные приедут прямо на станцию?
– Да, условились собраться там. Ах да, Шавлего, что ты собираешься делать по поводу вчерашнего партбюро?
– Хочу прежде всего повидаться с Ревазом. И с Теймуразом поговорю. Наверно, придется посетить и первого секретаря. Возможно, мы с ним крепко повздорим. Скверно они обошлись с бедным парнем, люто расправились!
– Только без ссор, Шавлего, пожалуйста! Очень тебя прошу, обойдись без ссор.
– Хорошо, постараюсь, Русудан. Флора, милая, пожалуйста, сходи наверх и принеси мое пальто, а то ведь, наверно, сколько еще чего хочет сказать мне Русудан. Ступай, ты же милая маленькая Флорушка… – И он поддел ее, как ребенка, пальцем под подбородок.
Молодая женщина замерла от этого прикосновения, как лань на скале под лаской теплого ветерка.
Глава пятая
Закро отпил немного из полного стакана. Потом с неохотой проглотил кусок шашлыка и снова посмотрел в окно, которое постепенно заливали сумерки. Застольцы были изумлены: в последнее время богатырь вовсе не прикасался к вину – сидел за столом хмурый, задумчивый, с насупленными бровями. Лишь изредка бросал друзьям два-три незначащих слова и снова погружался в какой-то ему одному доступный мир.
Больше всех удивлялся Хатилеция: бросит занозистую шутку, заставит собутыльников задыхаться от смеха, а у Закро словно уши залиты чугуном. Чуял хитрец гончар, в чем тут дело, но всего до конца не знал, скажем, того, что победный день, увенчавший борьбу с болотом, стал днем поражения для непобедимого борца. С тех пор неотвязно преследует Закро эта картина – осыпавшаяся стенка канала и те двое наверху, над ним. Он явственно видит, как пробираются по крепкой обветренной шее нежные, длинные, чуть тронутые загаром пальцы. Как они долго шарят по отвороту рубашки, ища пуговицу и петлю, – как будто их трудно найти! – как упрямится, сопротивляясь им, воротничок – как будто его так уж трудно застегнуть! А пальцы, эти красивые, мягкие, заботливые пальцы, тихонько, застенчиво, но упорно продвигаются от треугольного выреза на груди к шее… В такие минуты Закро становился мрачнее тучи, крепко зажмуривал глаза и, уронив голову на грудь, с силой тер себе лоб.
Он едва слышал визг гармоники, которому вторил негромкий перестук барабана. Барабанщик Гигола, широко распахнув рот, хрипло напевал на мотив «баяти»:
Ветер, вей издалека,
Имя мне – малыш Ника.
Потрепал я Сагареджо,
Велисдихе – жди пока!
Огромный, распухший, заплывший жиром от постоянного застольного сидения, он после каждого куплета обрушивался на барабан так, что казалось, целый эскадрон скачет по мостовой.
Варлам вытащил из кармана сторублевку и сунул ее под шапку усердного певца-барабанщика. У него был радостный день: благополучно закончилась опись в магазине, и он справлял магарыч. Валериан, не побоявшись холодной воды, порыбачил на Алазани и украсил стол своего закадычного друга рыбкой «цоцхали».
Бухгалтер-ревизор, худой, сухощавый, со сморщенным, как подсохшая виноградина, лицом, уписывал паштет, изготовленный специально для него. На удивление быстро двигались беззубые челюсти. Крючковатый нос и острый, словно задранный к небу подбородок ритмично сходились и расходились.
Хатилеция поднес гостю только что зажаренный шашлык.
Ревизор поблагодарил и замотал головой: не сегодня-завтра вставлю зубы и тогда буду есть шашлыки, а пока… От вина же отказался наотрез.
Уже слегка захмелевший гончар обиделся:
– Что ж ты, добрый человек, так, всухую, и собираешься глотать эту свою мешанину? Хорошо еще, что нос с подбородком у тебя не стальные, а то все лицо опалило бы искрами от такого кресала!
Лео скосил глаза на Хатилецию, потом – на бухгалтера-ревизора и, не удержавшись, захихикал.
Барабанщик Гигола разразился мужественным хохотом.
Варлам был явно недоволен. Остальные тоже рассердились на гончара.
С соседних столиков бросали косые взгляды.
Лишь Закро по-прежнему сидел погруженный в свои мысли. Сидел, не отрывая взгляда от резьбы на старинном опорном столбе посередине зала.
Вдруг в столовую ворвался Реваз:
– Налей мне чачи!
Купрача искоса глянул на него, молча достал из-под прилавка бутылку и наполнил стопку.
Реваз осушил ее одним глотком.
– Еще налей.
Купрача налил.
Реваз мигом осушил и эту.
– Еще!
Купрача налил.
– Наливай!
Купрача налил.
Реваз с размаху поставил стопку на прилавок, с шумом вздохнул и уставился мутными глазами на Купрачу.
Долго смотрел.
– Налить еще?
Реваз молча направился к двери.
Тут в Хатилецию словно бес вселился. Он наклонился к Гиголе и засунул пучки щетины, которые почему-то называл усами, прямо в огромное, как блюдце, ухо барабанщика.
– Вон смотри – этот человек в четвертый раз сегодня приходит. Пьет водку и не платит. Непутевый. Видишь, как он уходит украдкой?
Гигола бывший уже изрядно под хмельком, приглушил свои барабан, посмотрел вслед Ревазу, Что-то в нем не понравилось барабанщику. Он обозлился на заведующего столовой. Струсил! Купрача струсил! Гигола тут же решил отличиться перед ним и заодно преподнести сюрприз сотрапезникам. Сунув барабан под мышку, он широкими шагами пересек зал и преградил путь бывшему бригадиру.
– Вах, это что за такие штуки – видали вы в наше время такое? Там тебе атомная энергия, а тут водку пьют и не платят.
Реваз медленно, очень медленно поднял голову, без всякого интереса оглядел эту высившуюся перед ним гору человеческого мяса и, не проронив ни слова, продолжал путь.
Тогда Гигола, сдвинув кустистые брови, толкнул его так, что тот опрокинулся спиной на прилавок, а сам встал над ним и загудел сверху:
– В Гори и в Ортачала приходилось играть, Сигнах и Авлабар исходил вдоль и поперек, Гурджаани и Велисцихе для меня… – Но не договорил: выронив барабан, взмахнул обеими руками, как взлетающий коршун, пробежал, пятясь, несколько шагов, налетел на какой-то уставленный яствами стол, опрокинул его и вместе со всеми блюдами и бутылками грохнулся на пол.
Реваз стоял перед прилавком, расставив ноги, готовый к броску, сжимая огромные кулаки, и ждал.
Зал на мгновение словно окаменел. В напряженном молчании кто-то не удержался от озорной выходки – протянул полный стакан валявшемуся на полу барабанщику:
– Аллаверды к тебе, Гигол-джан!
Реваз постоял еще немного, обводя презрительным взглядом примолкший зал. Потом медленно повернулся и вышел.
Зал еще некоторое время был безмолвен; лишь высыпавшие из кабинетов люди спрашивали наперебой:
– Что случилось?
– Что тут было?
Первым подошел к барабанщику Валериан. Ругаясь последними словами, он помог бедняге подняться на ноги.
– Какого черта суешься не в свое дело?
Растерянный, ошалелый барабанщик выплевывал выбитые зубы на ладонь и не сводил испуганного взгляда с двери.
– Как его отделал этот собачий сын, посмотрите, а? – приговаривал Валериан, ведя перепуганного Гиголу к умывальнику.
Бухгалтер-ревизор весь сжался от страха; казалось, он мог бы уместиться в своем портсигаре.
– Испортил нам все веселье, полоумный! – рассердился Валериан.
Купрача, точно ничего не произошло, с равнодушным видом вытирал мокрой тряпкой прилавок. Он лишь позвал официантку, которая унесла разбитую посуду и подала новую.
Не скоро привели обратно и посадили за стол умытого Гиголу. Принесли и его барабан, но… А без барабана и в гармонике не стало силы.
– Что он сегодня как бешеный? Рехнулся?
– Человека из партии исключили – чему тут удивляться!
– Когда? За что? – Все в изумлении уставились на заведующего складом.
– Сегодня утром на заседании партбюро. Гнал водку у себя дома. И другим по заказу гнал. Плату брал – хеладу чачи с каждого.
– Вроде не похоже на него.
– Все честные, пока их за руку не схватят.
– Посадят?
– Может, и посадят.
– Да не такой он был!
– До сих пор не такой. А теперь… Видел, что он с бедным Гиголой сделал?
– Гигола сам виноват.
– Гигола? – просипел сквозь распухшие губы барабанщик. – Убью! – И он потянулся к Хатилеции.
Застольцы повскакали с мест.
Хатилеция даже не обернулся. Он с наслаждением сосал мозговую кость.
Один Закро не принимал участия в переполохе. По-прежнему весь погруженный в себя, он все смотрел на орнамент опорного столба.
Кое-как удалось восстановить распавшуюся было цепь тостов. Застолье продолжалось, вино брало свое, настроение постепенно поднималось. Под конец совсем уже приободрившиеся Лео, Варлам и Валериан даже спели знаменитую песню – про налет на Мухран-Батони.
Вошел человек, что-то шепнул на ухо Валериану.
Валериан, оборвав песню, посмотрел на входную дверь; лицо у него перекосилось.
– Скажи, что меня здесь нет.
– Не выйдет. Ее сюда направили, да и сама тебя здесь видела.
– Видела так видела. Скажи, что я занят.
– Сказал уже, только она ни с места. Непременно, говорит, позови его, пусть выйдет.
– Не до нее мне! Одурела, что ли? Что она по пятам за мной ходит. Скажи, пусть уберется, я потом сам к ней зайду.
Посланец вышел и скоро вернулся.
Не хочет уходить. С ума сходит, говорит, непременно должна сейчас с тобой поговорить.
– Сходит, так пусть сходит! Пускай хоть руки на себя наложит. Я с ней достаточно разговаривал. Если хочет, пусть в суд на меня подает. Не выйду. Так и скажи.
– Выйди, жалко.
Валериан удивленно посмотрел на говорящего.
Тот повернулся и ушел.
У первого рыбака Алазанской долины испортилось настроение. И подпевать перестал, и до еды не хотелось дотрагиваться. Он схватил полный стакан и осушил его одним духом.
В столовую вошла молодая женщина – светловолосая, статная, красивая. Она направилась прямо к столу, где сидел Валериан, но остановилась на полпути, залилась краской и попросила его выйти с нею на минуту.
Валериан тоже вспыхнул. Украдкой окинув взглядом собутыльников, он обернулся к девушке и сказал грубо:
– Что тебе нужно?
– На минуту, только на минуту. У меня к тебе дело. – Девушка вся горела от стыда.
Валериан встал, скрипнув зубами, но снова сел и грязно выругался.
– Я занят, не до тебя сейчас. Не пойду. Я тебе уже все, что нужно, сказал.
Глаза у девушки наполнились слезами, губы задрожали. Она подошла ближе к столу. Несмотря на волнение, у нее хватило самообладания поздороваться с пирующими.
Тут только собутыльники узнали ее, вспомнили, как заезжали в гости к ней в Алвани и как она была хозяйкой у них на пирушке на Алазани. Кето с тех пор пополнела и стала еще привлекательней. На ней было зеленое пальто и шелковый платок, завязанный по моде под подбородком. Пальто было застегнуто до самого верха. Она казалась в нем еще полней – нет, не полней, а… Закро, очнувшись от своих грез при появлении девушки, сразу понял причину этой полноты.
– На минуту, Валериан, только на одну минуту. – Девушка обернулась к застольцам и улыбнулась. – Я не навсегда его от вас уведу, мне нужно только два слова ему сказать. – Вместо улыбки у девушки получилась лишь странная гримаса; было в ней что-то жалкое и беспомощное.
– Никуда не пойду. Если хочешь что-нибудь сказать, говори здесь.
Девушка покраснела еще больше и как-то жалобно развела руками.
– Ты же знаешь, Валериан, что я ничего не могу тебе здесь сказать. Ну разве трудно тебе выйти на минуту?
Застольцам стало жаль девушку, они посмотрели на товарища:
– Вставай, выйди ненадолго, может, у нее какое важное дело!
Валериан посмотрел с раздраженным видом по сторонам.
– Очень прошу вас, ребята, не вмешивайтесь в мои дела. Я сам с ними управлюсь. – Он повернулся к девушке: – Кто тебя звал, зачем сюда пришла? Сколько раз я тебе говорил: когда будет нужно, я сам тебя найду! Бегаешь по моим следам, как ищейка охотника Како. Ни капельки стыда у тебя нет. Что люди скажут? В конце концов, что ты ко мне пристала? Вот тут все ребята – спроси их: может мужчина один на один справиться с женщиной? Изнасиловал я тебя? Докажи! Право, рехнулась эта… Не доводи меня до того, чтобы я сказал тебе тут что-нибудь такое… Если жениться на всех потаскушках, с какими приходится иметь дело, что из этого выйдет?.. Ступай отсюда, слышишь, пока я не сказал тебе чего-нибудь такого…
Девушка закрыла лицо руками и прислонилась лбом к столбу.
Закро наконец оторвал взор от его резных украшений.
– Что же ты еще можешь сказать ей хуже того, что сказал? Ну, что еще скажешь? Погляди вокруг – мы ведь здесь не одни, столовая полна народу. Да и хотя бы только при нас одних – разве можно так разговаривать со своей невестой?
– Невестой? – осклабился Валериан. – Да она мне такая же невеста, как и любому другому.
Девушка заплакала еще горше. Она вся дрожала и в отчаянии билась лбом о столб.
У Закро сердце оборвалось в груди. Лицо его омрачилось.
– Пусть обернется для тебя змеиным ядом женская любовь и женская ласка, каждый ее поцелуй и каждое шепотом сказанное нежное слово! Будь я на месте этой девушки, плюнул бы тебе в лицо, смотреть бы на тебя не захотел! Чтобы девушка любила меня, днем и ночью думала обо мне, ходила по моим следам, а я бы… – У Закро иссякли слова, лицо стало темнее ночи; помолчав, он коротко отрезал: – Вставай и ступай с нею.
– Из-за стола прогоняешь?
– Ты знаешь – я не люблю долго разговаривать.
– Из-за стола прогоняешь?
– Слышал или нет – вставай!
– Если гонишь из-за стола, так и скажи.
– Не встанешь?
– Значит, гонишь?
– Гоню. Вставай!
– Тогда знаешь что я скажу? Ты свой стол ищи у Хатилеции.
Закро не стал продолжать спор, а встал и вынес Валериана вместе с его стулом во двор. Потом обнял девушку за плечи и сказал ей:
– Плохое ты выбрала дерево, сестрица, чтобы посадить в своем саду. Некому за тебя заступиться? Ну, выйди к нему и, если еще имеешь что сказать, скажи.
Девушка повисла на руке у борца и оросила его рукав слезами.
Горе девушки наполнило сердце Закро жалостью, обожгло его. Слезы навернулись ему на глаза, он отвернул лицо, чтобы скрыть их, на мгновение прижал к груди плачущую девушку и подтолкнул ее к двери:








