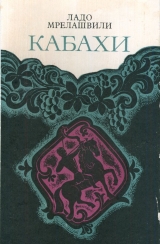
Текст книги "Кабахи"
Автор книги: Ладо (Владимир Леванович) Мрелашвили
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 62 страниц)

Конь одним прыжком выскочил на высокий берег и пошел шагом по краю скошенного, ощетиненного стерней люцерны луга, между виноградниками и широким каменистым руслом реки.
До самой тропинки дотягивались быстрорастущие спутанные ветки частых ежевичных зарослей, покрывавших прибрежные скалы. Верхушки кустов, зарывшиеся в землю, кое-где укоренились и перешагнули даже через тропинку.
Жеребец ловко перескакивал через колючие сплетения ветвей, спасал ноги от шипов, и шагом, мерно покачивая, нес хозяина, погруженного в какиё-то свои мысли.
Из виноградника послышались громкие голоса.
Эрмана что-то доказывал Иосифу Вардуашвили и в подкрепление своих доводов усиленно размахивал руками.
Нико заинтересовался их спором и повернул лошадь к рядам виноградных кустов. Только он собирался въехать в междурядье, как появился еще один человек и подошел к спорящим.
Председатель узнал бывшего бригадира, сдвинул с неудовольствием брови и повернул коня назад, на тропинку.
«Правильно я сделал, что вернул Сико к его пастве и передал бригаду Эрмане. Двух зайцев убил сразу: теперь и Эрмана мне благодарен, и виноградники в опытных руках».
Конь выбрался на поле, усеянное камнями. Когда-то здесь протекала Берхева. Теперь поле поросло бородачом и куколью, но среди травы виднелись серые камни и валуны, напоминавшие о прежних временах.
Стук подков вывел Нико из задумчивости. Он посмотрел на запаханный и забороненный клин, где недавно еще топорщился дремучий ежевичник, и долго не сводил с него взгляда.
Сколько раз и ему самому приходило в голову выжечь эти непроходимые заросли, но почему-то он ни разу даже разговора такого не заводил. А комсомольцы приписали себе эту заслугу – расширение пахотной площади колхоза. Немного, правда, каменисто, но зато – целина, полная сил и соков земля; несколько лет будет давать изрядный урожай. А потом пойдет под удобрение, не останется бесплодной.
Жеребец миновал ежевичник и пошел по проселку среди полей.
День был мглистый, необычно теплый для конца октября. Пашни были черны как деготь. Над ними застыл какой-то обесцвеченный лиловато-серый воздух. В вышине медленно описывал круги одинокий ястреб. Временами он повисал над одним каким-нибудь местом и довольно долго пребывал в неподвижности. Потом снова начинал кружить. Вдруг ястреб сложил крылья и пулей устремился вниз. Лишь чуть коснувшись грудью вспаханной земли, он снова круто взмыл к небу и поплыл в воздухе. Сверху послышался безнадежный, слабый писк.
«Знойное было лето, расплодились мыши в поле, – подумал председатель. – Надо выделить еще несколько Человек для борьбы с полевками, а то испортят все посевы».
Пониже пашен переливались светлой зеленью ранние всходы. В конце зеленеющего поля виднелись выстроившиеся цепью женщины-полольщицы.
«Засуха и град! Град и засуха! Не бывает такого года, чтобы или солнце не сожгло мои поля, или не ударил где-нибудь град. Права Русудан. Пока мы не примемся основательно за сев по жнивью, за зимние корма нельзя будет поручиться. Нынешним летом засуха помешала, а на будущий год… Эх, кто знает, что принесет будущий год! На ферме не хватает коров, а план с каждым годом все увеличивается и увеличивается. Нет, надо во что бы то ни стало закупить еще коров у колхозников и служащих, а то снова ударю лицом в грязь, окажусь в районе среди отсталых. А овец на зимние пастбища я отправил слишком рано. Но что же было делать – не загонять же их в виноградники общипывать кусты! А луга все пересохли, сгорели от жары. Впрочем, может, так оно и лучше – окот наступит раньше, ягнята успеют подрасти, окрепнуть, и при перегоне с зимних на летние пастбища меньше будет урону».
Председатель колхоза насмешливо сощурил глаза и, ухмыляясь, расправил большим пальцем усы.
«Что это еще выдумали зоотехники и ветврачи – искусственное оплодотворение! Разве природа дура? Как ею установлено, так, по-видимому, и нужно, так вернее. Для природы мы все – люди, животные, насекомые – одно, и она обо всех заботится в равной мере. Ну ладно, овцематка после окота, скажем, все же наслаждается своей материнской любовью, заботой о своем отпрыске его лаской. А бедняги бараны чем провинились, за что мы их единственного наслаждения лишаем?»
Из-за поворота, скрытого рощицей, окаймлявшей Берхеву, выехала грузовая автомашина. Поравнявшись с председателем колхоза, она остановилась. Из кабины высунулся Лексо.
Председатель глянул на Дата, сидевшего в кузове, полном кукурузных початков.
– Что это ты домой собрался?
– А разве я волк, чтобы ночью в поле валяться?
– Кукурузу собранную караулить не нужно?
– Нужно. И караульщики у нее есть.
– Оставили там кого-нибудь?
– Да весь народ там, срезают стебли.
– Я не о народе спрашиваю. Кукурузу караулит кто-нибудь?
– Дедушка Гига сказал: уезжай, я тут побуду.
– Гм! – буркнул председатель. – Чего ты взгромоздился на самый верх, разве нет места в кабине?
– Что я, окорок? Зачем мне в этой кабине коптиться?
– Какой окорок, о чем ты? – Нико подошел к машине и заглянул в кабину, полную сизого дыма. – Что это значит, что случилось с машиной, Лексо?
Тот пожал плечами.
– Вот, задымила. Уже вторую ездку так.
– Что-нибудь в моторе?
– Наверно, в моторе.
– Много еще осталось возить?
– Концов пять придется сделать.
– Сколько сегодня успеешь?
– Да что уж сегодня, не задохнуться же мне в этом дыму! Приеду в деревню, разберу мотор.
– С тех пор как ты ткнулся тогда весной в дом, с этой машиной, что ни день, – всякие неполадки.
– Да что вы никак не можете забыть про эту аварию, дядя Нико! Просто подсунули мне завалящую развалину, а других посадили на новенькие машины.
– Ни одна из них не лучше этой. Надо бережно с имуществом обращаться. Погляди на других, поучись аккуратности.
– Чтоб мне провалиться на этом месте! Неужели кто-нибудь бережнее меня с машиной обращается? Да сидел бы тут за рулем другой, от нее бы давно один только лом остался.
– Ладно, довольно оправдываться. Поезжай, может, сегодня успеешь еще две ездки сделать и завтра кончить с доставкой кукурузы. Другие машины другими делами заняты. Что-то пасмурно становится, как бы не настали непогожие дни. Разобрать мотор успеешь и после.
Лексо смотрел с минуту вслед председателю, удалявшемуся на лошади все так же шагом, враскачку, потом в сердцах сплюнул, и голова его скрылась в кабине.
Мотор зафыркал, машина сорвалась с места, и сидевший в кузове Дата едва не ткнулся носом в кукурузные початки.
Похоже, что разучился Нико ездить на лошади. Ехал председатель и дивился: неужели раньше, до того как купить машину, он так вот, черепахой, ползал по горам и долам? Да и вообще коня он седлал, только едучи в горы, или во время распутицы, или когда лил дождь, а в такую погоду, как сегодня, – верхом? Но что поделаешь, с тех пор как машину… Всякий раз сердце председателя словно опаляла огнем мысль об его искореженной машине. Та проклятая ночь оказалась рубежом, после которого он перестал быть тем, чем был прежде. Развалины гаража погребли под собой Нико, желания которого беспрекословно исполнялись всюду и всеми, начиная с райкома и кончая аробщиком Бегурой. Нет теперь прежнего Нико – есть лишь председатель, у которого ночью крадут стельную корову, которому поливают двор и огород собственным его вином; председатель, которому подкладывают под гараж взрывчатку, чтобы вместе с машиной взорвать хозяина, да заодно пришибают его любимую сторожевую собаку. Что же это? Как могло случиться такое? С чего все началось? Неужели все это сделал один человек – Реваз? Вот месть так месть – можно поставить в пример! И по прежнему торчит этот Реваз перед носом у председателя, по-прежнему своевольничает в колхозе; иные потихоньку даже хвалят его за удаль, а он разгуливает, надувшись, с видом оскорбленного княжича… Эй, плохо вы знаете Нико, пустобрехи! Но, может быть, он сам себя плохо знает? Не преувеличивает ли он свои возможности? Не состарился ли? Нет! Нико пока все тот же, что был, и не сегодня-завтра враги его убедятся, что не притупились еще когти у барса! Почти мальчонкой был он, когда, служа в батраках, показал хозяину, что с ним шутить опасно! А теперь Нико сам хозяин, и увидите, под силу ли ему это! И еще помнит Нико, как грозили ему скрывавшиеся в лесах, ушедшие в разбойники четверо братьев Гураспашвили, в чьем конфискованном доме была устроена контора наново организованного колхоза. Все алазанское побережье дрожало в ту пору от страха перед их карабинами, и обнаглевшие кулацкие сынки распевали, подыгрывая себе на пандури:
Из Сибири убежал я,
Илико Гураспашвили.
И укрылся я в Пиримзе,
По соседству с Чалиспири.
Хорошо мне в черной бурке,
Карабин всегда со мной.
Тут за мною долг остался;
Подскочу к Нико домой!
Нико не распустил колхоз и не перевел контору в другой дом. Напротив того – в нижнем этаже устроил склад. Братья подожгли дом, что построили своими руками, а председателя колхоза подстерегли ночью на Алазани, когда он возвращался из Телави, и прижали его к берегу у въезда на мост. Нико использовал свою лошадь как укрытие и продержался до утра под градом метивших в него пуль. (Ах, какая это была лошадь! Чудесная – в яблоках, как пестрящая голубыми пятнышками форель.) Под утро в нее угодила пуля, лошадка пала. На рассвете Нико расстрелял последний патрон и прыгнул со скалы прямо в бурный поток Алазани… Старшего брата Гураспашвили он уложил в ту самую ночь, а через несколько месяцев и среднего сразила его меткая пуля. Эге-гей, вы, ничтожества!
Захотели схватиться с Нико? Сначала сопли утрите, а потом выходите по очереди, выстраивайтесь в ряд.
Там, где были навалены кучей кукурузные початки, председатель нашел только полыцика Гигу. Расстелив прямо на куче срезанные кукурузные листья и усевшись на них с поджатыми ногами, Гига прижимал к груди свое верное ружье и подремывал, клевал носом.
– Зачем ты Дата отпустил?
Гига парня не отпускал, но перед председателем…
– Что тут делать двоим? Я подумал, пусть паренек погуляет, удовольствие получит.
Нико больше ни о чем его не спрашивал, повернул коня и направился к ручью.
Поодаль расстилалось бурое, покрытое белокопытником болото. Сухой тростник отливал на расстоянии серо-голубым.
«Все сообразила как надо, – что верно, то верно. В уме девочке не откажешь, – думал председатель. – Столько земли – это не шутка. Правильно говорит Русудан: если три года сеять здесь арбузы, колхоз сразу встанет на ноги. А потом, как говорится, по достатку и траты: и клуб построю, и стадион, и лесопилка электрическая у меня будет своя. А те отрезки… О, те отрезки! – Вот теперь Нико понял, почувствовал, что значит отобрать у крестьянина хоть самую малость земли – той земли, которую он на протяжении долгих лет поливал своим потом и считал своим достоянием. – Может, все перекроить, попробовать сделать так, как мне тогда посоветовали? Но кто же уступит свой приусадебный участок, чтобы его соединили с этими обрезками и сдали весь этот большой, цельный кусок колхозу? А если уж уступит, надо взамен отмерить ему если не лучший, так хоть не худший и такой же удобный участок. Ну а все же, как объединить все эти полоски? По-моему, я удачней придумал: у кого отобрана полоска, тот пусть ее и обрабатывает и урожай сдает колхозу, а ему трудодни будут начисляться. Правда, рассчитывать будет сложновато, но так все же лучше… Мне больше другое соображение Русудан понравилось – устроить на горе Верховье плодовый сад. Раньше, говорят, там лес был. И ключи из этой горы били, оттого и название такое – крепость у Верховья. И сейчас там видны следы прежних родников и ручьев. А потом лес вырубили, и родники пересохли, Ну, конечно, а как же им было не высохнуть?»
Нико остановил лошадь и, уставясь на луку седла, пригладил ладонью усы.
Кобылка подняла голову, раз-другой мотнула ею, дернула узду, но седок не отпустил повода, и лошадь насторожила уши.
«Тут Русудан без меня разберется. Лучше, пожалуй, сейчас, пока не смерклось, подняться, не откладывая дела, к крепости, осмотреть все места вокруг – годятся ли они под сад? Зачем тратить внизу, в долине, пять гектаров хорошей земли, если можно посадить плодовые деревья на горе? А на тех пяти гектарах устроим виноградник. Мысль, кажется, неплохая… Но где я возьму деньги на водокачку?»
Когда Нико поднялся на пригорок Чахриаа в верхнем конце деревни, ему казалось, что уже спускаются сумерки. Но он успел объехать все окрестности и подножие горы Верховье, а день еще не сменился вечером.
«Очень рано я встал сегодня – потому так вышло. Ведь вот никак не удосужился купить себе часы на руку. А может, их тоже сочли бы нужным взорвать?»
От воспоминания о взрыве гаража снова неприятные мысли закопошились в голове у председателя.
«Разве можно это простить? Куда мне дочь увезти, где спрятать бедную девочку? И ведь выбирают каждый раз такое время, когда она дома! Ох, поплачет твоя мать, Реваз! Не будь я Нико, если спущу тебе твои проделки!.. На что она стала похожа, бедняжка, а как я радовался, что она поправилась – посвежела, повеселела, стала бегать, прыгать, заливаться смехом, бросалась мне на шею, когда я возвращался домой. А теперь… Теперь она словно неживая. Исхудала, лицо мрачное, и огонька во взгляде, всегдашнего ее огонька, словно и не бывало. Спрошу о чем-нибудь – ответит, а так все молчит, сидит в своей комнате у окна и смотрит в сад, глаз не сводит с большого каштана… Кажется, все в ней остыло… Может, разлюбила его, выкинула из сердца. Поняла наконец, что это за человек, и, наверно, сейчас оплакивает свою любовь. Как я надеялся, что через год она сможет продолжать учиться. А теперь придется все начинать сначала. Снова врачи, снова курорты и расходы, расходы… Опять придется ее тетке с места сниматься…»
Нико повернул лошадь к крепости. Сильное животное стало быстрым шагом подниматься в гору.
«Тедо? Да что Тедо? У Тедо я давно все зубы вырвал – и клещей не понадобилось. Кусаться он больше не может и только огрызается, ну и пусть! Но этот Шавлего… Что за напасть? Откуда вдруг взялась? Не хватало старых забот – изводись теперь из-за новых! Я с одного взгляда могу определить, какой человек сколько граммов весит. А тут ничего понять не могу – чего он добивается, из-за чего воюет? Что у него на уме? Что движет им? Зачем он ворвался в нашу сельскую жизнь? Надо держать ухо востро, – как говорится, от осторожности голова не заболит! Чутье подсказывает мне что-то недоброе. Может, его надо больше, чем Реваза, опасаться? Эй, Нико! Веревки ты разорвал, да как бы цепь ноги тебе не опутала!..»
Нико подъехал к крепости.
Осмотрев местность, он повернул лошадь и стал было спускаться к деревне, как вдруг услышал звук трубящего рога.
Нико изумился. Звук доносился сзади, из лесу.
Рог протрубил еще раз.
Нико остановил лошадь, обернулся.
На опушке леса, выше по склону, какой-то человек, отомкнув ствол охотничьего ружья, изо всех сил продувал его. Черная ищейка носилась вокруг охотника, прыгала на него, становилась на задние лапы, хватала зубами приклад и весело лаяла.
Человек отставил ружье и замахал председателю рукой.
Тут только Нико узнал его – и был просто потрясен. Нет, право, никогда не встречал он такого бесстыдства, такой беззастенчивости! Он ощутил болезненный укол в сердце. Точно вдруг открылась затянувшаяся было рана. Нико упорно избегал встречи с этим человеком. После той проклятой ночи лишь раз попался Како на глаза председателю – мельком, когда вкатывал во двор к Марте ручную тележку с прессом для виноградных выжимок… Марту отняли у Нико… Украли… Свели… И кто? Вот этот оборванец, этот бродяга, которого Нико впустил в деревню, накормил, напоил, обеспечил кровом… И который сейчас ковыляет к нему на своих длинных, неутомимых ногах.
Внезапное желание овладело председателем – подскакать к этому чужаку, прибывшему невесть откуда, бросить на него лошадь и исполосовать ему спину плетью, – может, отвел бы душу, стало бы чуть легче на сердце. Но он сдержался и, отвернувшись, стал спускаться с горы.
Снова услышал он зов, на этот раз совсем близко.
Нико опять остановился, заколебавшись.
«Может, в беду какую попал – помощи просит. Человек все же, не собака!»
Председатель поднялся вскачь на гору, спешился.
К крепости с противоположной стороны взбирался запыхавшийся Како.
Охотник присел рядом с председателем и, пробормотав приветствие, тут же спросил:
– Папирос нет у тебя?
Нико искоса глянул на него, отпустил уздечку и надвинул кепку на лоб.
– Ты за этим меня звал?
– Ну да. Зову, а ты не слышишь. Тогда я затрубил в дуло ружья. – Како положил с беззаботным видом ружейный ствол к себе на колени и принялся шарить по карманам. – Как я умудрился их выронить, не понимаю!
Собака обежала вокруг лошади, раз-другой ласково взлаяла и, дружелюбно повиляв хвостом, повалилась перед нею на спину.
Лошадь с любопытством обнюхала пса, подняла голову, скосила на него злой глаз и наставила уши.
Собака, поджав хвост, поспешила убраться подальше – робко прошмыгнула мимо председателя и легла у ног своего хозяина.
– Ах, вот они где, оказывается! – Како вытащил из глубины своего ягдташа пачку папирос и закурил.
– Так ты только за этим звал меня бог знает откуда? – Губы у председателя злобно кривились, в голосе слышался сдержанный гнев.
– За этим и еще кое за чем.
– За чем же еще?
Охотник выпустил из угла рта облако дыма и показал пальцем:
– Вон, смотри!
Нико не сразу отвел горящий злобой взгляд от охотника, чтобы посмотреть туда, куда он показывал.
Вровень с краем обрыва, за пригорком, над Берхевой кружили стервятники.
– Что там такое? – Нико уже раньше заметил мерзких птиц, но не обратил на них внимания.
– Подойдем поближе, сам увидишь. Я утром наткнулся… Ну-ка, пойдем, может, признаешь.
Охотник встал, вскинул сумку на спину. Беспомощно затряслась голова привязанного за все четыре лапы убитого зайца.
Медленно спускались они по пригорку.
Собака бежала впереди, временами оглядывалась на идущих за нею и виляла хвостом.
Лошадь, которую Нико вел под уздцы, осторожно переступала задними ногами. Словно пышнотелая женщина, плавно несла она свой широкий круп.
Стервятники взмывали вверх из долины, где текла Берхева, кружили в поднебесье, потом, сложив крылья, вновь исчезали внизу, в долине.
Нико и его спутник спустились к каменистому руслу, перешли вброд реку.
Пониже, там, где русло внезапно расширялось, из ольховой заросли под нависшей скалой, оглушительно хлопая крыльями и затеняя ими небо, поднялась целая стая грифов-стервятников.
Уже издали бросился Нико в нос смрадный запах падали. Из-под ольхи выскочил шакал, с трудом волоча ворох сплетенных, вымазанных в грязи кишок. Заслышав собачий лай, он поднял голову, увидел кинувшуюся к нему ищейку и, выпустив из пасти добычу, молниеносно исчез в кустарнике, – перед псом лишь мелькнул его рыжий зад.
На булыжники русла выбрался старый, угрюмый гриф, почистил о камни огромный крючковатый клюв и злобно сверкнул желтым глазом из-под морщинистого века на пришельцев, прервавших его ужин.
Собака, выбравшаяся тем временем из кустарника после неудачной погони за шакалом, увидев мрачную птицу, залаяла и кинулась к ней.
Старый гриф, однако, и не взглянул на пса – раскинул крылья, пробежал по руслу, с треском цепляя за камни стертыми когтями, и, оторвавшись, медленно взмыл в воздух.
– Ого! Что твой реактивный самолет! – удивился Како и вскинул ружье.
Председатель, казалось, не слышал ни выстрела, ни радостного лая собаки, бросившейся к упавшей камнем подстреленной птице. Он неподвижно стоял поодаль и хмуро смотрел туда, где под ольхой роились над падалью насекомые. Потом молча и так же хмуро повернулся, потрепал ласково по морде встревоженную лошадь, вставил ногу в стремя и тяжело перекинул через седло словно налившееся свинцом тело.
– Где ты до сих пор? Каждый вечер на собрании? Что-то в последнее время ты совсем от дома отбился!
Шавлего подошел, сел к деду на постель.
Такой был обычай у Годердзи: пока не повалит снег или не ударит мороз, старик не ложился спать в комнате.
Внук потрепал широкую бороду деда, как кудель, потом, расправив ее, засунул под одеяло.
– Надо ее беречь – смотри, застудишь! – и встал.
– Постой, куда ты? Иди сюда.
– Сейчас приду.
В комнате невестки еще горел свет.
Шавлего постучался.
– Да, да, прошу!
Нино сидела за столом и просматривала ученические тетради.
– Ты, Шавлего?
– Тамаз уже спит? – Шавлего подошел, полистал поправленные тетради.
Нино потерла усталые глаза и положила перо.
– Что ты там смотришь?
– Чья это тетрадь?
– Сына Вардуашвили.
– Какого Вардуашвили? Иосифа?
Нино кивнула.
– Способный мальчик.
Улыбнувшись своей прелестной улыбкой, Нино взяла у деверя тетрадь.
Шавлего подошел к постели племянника, поцеловал спящего мальчика и вернулся к столу.
– Мама тоже легла?
– Не знаю. Недавно еще беседовала там, в задней комнате, с тетушкой Сабедой.
– Тетушка Сабеда была у нас?
– Возможно, она и сейчас еще тут. Что-то ее, верно, привело. Эта женщина, сам знаешь, без нужды никого беспокоить не станет.
Шавлего пожелал Нино спокойной ночи и вышел на балкон.
– Где же ты, дружок! – Дедушка Годердзи еще не спал. – Там Сабеда совсем извелась, дожидаясь тебя. Присядет и тут же опять вскочит – мечется, как затравленная… И мать твою жалко – может, ей спать хочется, но ведь гостью не оставишь одну. Бедная, несчастная старуха эта Сабеда. Поди спроси, что ей нужно.
– Да, да, знаю, – сказал Шавлего и направился к комнате, расположенной в самом конце балкона.
У Сабеды голова была повязана платком так, что концы его, перекрещиваясь, закрывали чуть ли не все лицо – виднелись только нос да глаза. Одной рукой она придерживала на исхудалой груди шаль, наброшенную на сутулые плечи, другой держалась за подбородок и, застыв в этой позе, стояла у двери.
– Меня дожидаешься, тетушка Сабеда?
Гостья молча кивнула, с трудом сдержав подступившее к горлу рыдание.
Шавлего подошел к матери, обнял ее за плечи, поправил платок на ее голове.
– А ты о чем плачешь, мама? И откуда у тебя берется столько слез! Ты ступай себе спать, а мы с тетушкой Сабедой пройдем в мою комнату.
– Не до того мне, сынок… Поскорей бы только домой добраться. Весь вечер жду тебя, сил больше нет. Придется тебе со мной пойти.
Шавлего понял, что ночную гостью привела к нему крайняя, настоятельная необходимость, тяжкая беда. Он ни о чем не стал ее спрашивать, подошел к матери, своим платком утер ей слезы.
– Ложись спать, мама. А я вернусь через часок-другой.
Сабеда уже спускалась по лестнице.
Они миновали Берхеву и пошли по проулку между изгородями.
Старуха ничего не говорила, и Шавлего не докучал ей расспросами.
В конце проулка, по левую сторону, у берега Берхевы стоял на отшибе дощатый домишко. В темном дворе смутно виднелись буйные заросли ежевики. Дощатый дом казался издали удивительно маленьким и жалким, словно съежившимся от холода.
Когда они вошли во двор, уже слившийся с проезжей дорогой, старуха ускорила шаг, почти побежала, бормоча себе под нос что-то горестно-жалобное.
– Сюда, сынок! – Едва оглянувшись на спутника, она прошла мимо галереи, спустилась по короткой лестнице марани и долго возилась в темноте перед дверью.
Чуть слышно звякнул ключ в замке, старуха нагнулась еще ниже и бесшумно отворила дверь.
На ступени у входа упала тусклая полоса света.
– Входи скорей, сынок, – послышался шепот старухи.
Шавлего вошел и плотно затворил за собой дверь.
Старуха заперла ее-на задвижку и поплелась в глубь марани.
Едва войдя, Шавлего сразу же разглядел у дальней стены тахту с расстеленной на ней постелью. Там кто-то лежал. Сабеда, склонившись над изголовьем, шептала чуть слышно:
– Горе матери твоей!.. Ну как ты, сыночек? По-прежнему весь горишь? Ох, надолго оставила я тебя одного, сынок, тряпка совсем высохла. Почему твоя несчастная мать не лежит в жару вместо тебя!
Шавлего молча стоял, прислонившись спиной к двери. Потом, так же ничего не говоря, медленно приблизился к постели и остановился перед тахтой.
На грязной подушке покоилась маленькая, круглая, совершенно лысая голова. Лоб был изборожден морщинами, на висках голубели извилистые, вздутые жилы. Одна из них часто пульсировала. Резко выдавались Обтянутые кожей скулы, впалые, дряблые щеки заросли щетиной. Лишь в бесцветных, маленьких, крысиных глазках теплилась искорка жизни.
Старуха намочила тряпку и положила ее больному на лоб.
Прохлада явно принесла ему облегчение. Потемневшие веки чуть приподнялись и снова опустились.
Шавлего спросил шепотом:
– Давно он вернулся?
– Уж больше месяца прошло. – Старуха пошаркала к другому концу тахты и приподняла одеяло. – Вот погляди, что с ним делается.
Под старинным лоскутным одеялом недвижно вытянулись перевязанные какими-то лохмотьями ноги. Икры были тонкие, тощие, щиколотки покраснели и чуть вздулись.
– Что с ним?
– Не знаю, сынок. Четыре дня тому назад он куда-то ушел вечером и вернулся только под утро. Тогда это с ним и стряслось. Ноги, сверху донизу, опухли и покраснели. А потом и волдыри вздулись.
– К врачу не обращалась?
– Он не захотел, не позволил мне. Я приложила печеный лук к волдырям и сама перевязала, как могла.
Шавлего прикрыл ноги больного одеялом и вернулся к изголовью постели. На черепе, туго обтянутом кожей, блестели капельки пота. Изможденное лицо пылало, иссохшие старческие губы были чуть приоткрыты, с натугой вырывалось изо рта частое дыхание.
– Надо позвать врача.
Больной вскинул мутные от жара глаза на Шавлего. Что-то вроде гримасы отвращения мелькнуло на нервно искривленных его губах, и тяжелые, лишенные ресниц веки снова опустились.
Холодным, недоверчивым, враждебным был этот взгляд.
– Другого выхода нет, сынок. Весь истаял, кончается человек. Говорит, не хочу врача. А что же еще делать – уходит ведь, того и гляди кончится.
– Почаще меняй влажную тряпку. Думаю, ничего особенного тут нет. Я пока схожу к доктору. – Шавлего вышел во двор и опять плотно закрыл за собой дверь марани.
Балкон медпункта был ярко освещен сильной электрической лампочкой. Свет ее достигал раскидистого тутового дерева во дворе. В окне у врача тоже горел свет.
«Не спит еще дядя Сандро», – подумал Шавлего и стал подниматься по лестнице.
– Войдите, дверь не заперта, – не сразу отозвался на стук голос изнутри приемной.
Комната была, как и прежде, разделена пополам занавеской. К убранству ее прибавился приставленный теперь к книжному шкафу продолговатый стол. А желтый череп переместился с письменного стола на самый верх книжного шкафа. Доктор сидел за столом, на котором стоял графин вина, и, по-видимому, нисколько не скучал в своем собственном обществе.
– Врачи нам пить вино не советуют, а сами, как я вижу, не отказывают себе в этом удовольствии. – Шавлего бросил взгляд на графин с янтарной жидкостью, опустошенный до половины.
Доктор смотрел на гостя чуть осоловелыми глазами – взор его был невидящий, как бы потусторонний. Он словно и находился здесь, в этой комнате, и в то же время отсутствовал. Он чувствовал, что кто-то вдруг ворвался в тайное обиталище его уединенной души, но полностью, кажется, не отдавал себе отчета в происходящем. Одной рукой он сжимал горлышко графина другой обхватил стакан с вином. Щеки и скулы у него горели румянцем, короткая, аккуратно подстриженная бородка чуть вздрагивала.
Шавлего еще раз окинул взглядом стол. О нет, никаких следов спиритических опытов – лишь влияние всемогущего Бахуса чувствовалось в этом уютно уединенном интерьере.
Доктор взял пустой стакан, стоявший поодаль, наполнил его и пододвинул к гостю.
– Кто сказал, будто бы медицина запрещает пить вино? Не верьте, юноша. Мы боремся с пьянством, а не с разумным употреблением вина. Оно – необходимый атрибут хорошего стола и полезно человеку. Я видел, как крестьянин, накрошив в чашку хлеба, заливает его вином – это кушанье называется «боглошо»… Грузинский крестьянин – мудрец. Я объездил почти всю Европу и еще полмира и нигде не встречал такого предмета, как чурчхела. Она принадлежит только грузинам, и я вижу в ней нечто характерное для национальной сущности этого народа. Мне думается, историческая необходимость заставила его создать этот искусственный плод. – Доктор неуклюже потянулся через стол, взял с тарелки лежавшую на ней толстую чурчхелу. – Вот, юноша, здесь вам и орехи, и вино, и хлеб. То есть жиры, белки и углеводы, эти три жизненно необходимые составные части нашего тела. Чурчхела легка и не была обременительным грузом в походе. В походе – на войне, говорю я, юноша, ибо история грузинского народа – это непрерывный кровавый путь, испокон веков и до недавнего времени. До тех пор, пока грохот русских барабанов, прорвавшись через Дарьяльские теснины, не вселил страха в сердце мусульманского мира…
Что-то в голосе доктора и во всей его фигуре внушало жалость. Шавлего давно не видел его – казалось, доктор весь стал как-то меньше. В красивых его глазах еще глубже укоренилась тайная горечь. Более, чем когда-либо, чувствовалось сейчас, как одинок этот человек.
И Шавлего стало жаль доктора, жаль от души. Он молчаливо чокнулся с хозяином и осушил стакан.
И хозяин тоже не сказал ни слова. Он пил медленно, не отрываясь. А выпив все до капли, поставил перед собой стакан, покрыл его обеими руками и опустил на них подбородок.
Шавлего проследил за его взглядом. Лишь сейчас заметил он на столе, сбоку, прислоненный к книжному шкафу портрет молодой, красивой женщины, вставленный в великолепную раму из красного дерева. Гордый лоб и повелительно сдвинутые брови внушали робость. Большие блестящие глаза смотрели чуть сентиментально. А на маленьких, изящно очерченных губах застыла архаическая улыбка, наподобие той, что встречается на греческих скульптурах раннего, доклассичеекого периода.
Лицо женщины было незнакомо Шавлего.
На этот раз гость сам, не дожидаясь приглашения, потянулся за графином, налил себе вина, и, по-прежнему без единого слова, выпил. Потом снова налил себе и наклонил графин перед хозяином.
Доктор молчал. Он не сводил глаз с портрета.
Медленно снял он со стакана руку.
– Выпьем, дядя Сандро, за плавающих и путешествующих…
Хозяин взглянул на гостя, потом снова на портрет и осушил стакан.
– Я думаю, юноша, что слово «вино», как и название птицы фазан, родилось в Грузии и отсюда ушло в широкий мир. От века существовал у нас культ виноградной лозы, и, мне кажется, не случайно, что просветительница Нино явилась в Грузию с крестом из лозы в руках. И двери церквей часто вырезали из лоз. В старину вырастали гигантские лозы. Я видел такие сам – в Калифорнии. Ствол лозы у основания диаметром больше метра, занимает она площадь в полгектара и приносит каждый урожай не менее пяти тонн гроздьев… Бывали и у нас когда-то такие лозы… Одна росла вот здесь, в этом самом саду. Там, где сейчас дерево желтого кизила, повыше развалин марани. Было этой лозе не меньше двухсот лет. Посадил ее прапрадед деда хозяина этого дома в ту пору, когда Ираклий разгромил разбойничавших за Артаной лезгин и по пути домой проезжал через наши места… Нет ничего ценнее лозы! Доброе вино придает аппетит и делает беседу приятной… Съешь что-нибудь, юноша, проглоти хоть кусок. Больше мне нечем угостить. Без хозяйки дом все равно что без крыши. – Доктор пододвинул гостю блюдце с холодной вареной говядиной и нарезал на другом блюдце сыр. На этот раз он сам наполнил стаканы себе и гостю.








