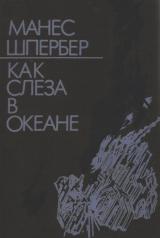
Текст книги "Как слеза в океане"
Автор книги: Манес Шпербер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 69 страниц)
1
Улочка была узкая, но шумная. Дойно встал и высунулся в окно: небо голубело, воздух слегка дрожал, день обещал стать душным и завершиться грозой. Дойно казалось, что нигде не страдают от жары так, как в этом городе. Он знал, что ошибается, – впрочем, почти все, что он думал о городе, было верно только отчасти. Это был его город, здесь он вырос. Он знал его слишком хорошо, как знают женщину, которую больше не любят, и все, что он говорил о нем, было так же фальшиво, как автобиография: в его оценках говорила юность. Он еще не так стар, чтобы полюбить город, и слишком далек от него, чтобы хоть что-то простить ему.
Я буду ждать вас в обычный час в любой день, когда бы вы ни пришли, говорил профессор. «Обычным» этот час стал тринадцать лет назад. В половине девятого утра, после того как со стола убирали завтрак, он хотел видеть у себя своего ученика, «гордого Диона»[25]25
Так звали одного из любимых учеников Платона, стремившегося воплотить у себя на родине, в Сиракузах, идеи учителя об идеальном государстве.
[Закрыть], как он его называл.
Однако в этом коротком письме, где профессор вызывал его к себе в обычный час, как только пути снова приведут его в Виндобону[26]26
Так римляне называли Вену.
[Закрыть], вместо привычного «мой милый гордый Дион» впервые стояло сухое и далекое: «Дорогой Денис Фабер».
Значит, старый Штеттен злился. И все же в обычный час он, вероятно, снова приветствует его словами: «Я чувствовал, что вы сегодня придете». Профессор не лгал, он действительно ожидал его каждый день.
Было еще очень рано; Дойно пообещал себе, что на этот раз биографической прогулки не будет, что камни мостовых не превратятся в памятники истекших лет, что углы улиц, скамейки в парке и трамвайные остановки не станут началом бесконечной цепочки воспоминаний, которыми сковывает человека его прошлое.
Неужели в городе с тех пор ничего не изменилось? Увы, нет – и слава богу! Вена останется Веной, как по-прежнему распевают завсегдатаи винных погребков, и ведь она действительно все та же, эта чертова Вена. Но была и другая, которую Дойно любил. И говорить об этом боялся – так велика была его любовь к ней.
Профессор Штеттен был частью той, другой Вены – как Венский лес, как церковь миноритов, как площадь императора Иосифа и рабочие районы за зеленым поясом. «Если старик умрет, умрет и частица той Вены, которая живет в моей душе».
Теперь этот худенький, небольшого роста человек с выкрашенной в черный цвет сединой, огромными усами и маленькими глазками, детская голубизна которых придавала самым ироничным его высказываниям безобидный оттенок, историк и философ барон фон Штеттен больше не интересовал горожан, однако были времена, когда каждое публично сказанное им слово вызывало скандал – даже если и в самом деле было безобидным, служа лишь введением к последующей речи или извинением по поводу предыдущих высказываний.
Второй сын в чрезвычайно приличной и добропорядочно-незаметной семье крупного чиновника из старого дворянского рода в начале своей академической карьеры – а было это еще в конце прошлого века – казался всем эдаким умником-недотепой. Однако вскоре выяснилось, что он отнюдь не по наивности задает свои провокационные вопросы и высмеивает освященные традицией взгляды и институты, даже издевается над ними, что он отнюдь не по глупости нападает и на противную сторону – на приверженцев обновленческих реформ. Он бросает вызов всем и вся просто потому, что это доставляет ему удовольствие, говорили одни; потому, что хочет выделиться и прикрыть тем самым свою научную несостоятельность или лень, а заодно привлечь побольше публики, считали другие его коллеги. К ним присоединялось большинство остальных, когда нужно было голосовать против избрания его деканом.
Его диссертация, как, впрочем, и последующие мелкие статьи, вызывала лишь скромный интерес специалистов, круг которых по природе своей довольно узок. Она была целиком посвящена исследованию средневекового хозяйства и его развития, главным образом во Фландрии, в Провансе и Северной Италии. Однако затем сапожник взялся судить выше сапога, в чем его неоднократно упрекали критики. Черт, что ли, его дернул померяться силами с известными экономистами и светилами в области государства и права. Если бы он хоть ограничился вежливой критикой в их адрес после приличествующего их рангу неоднократного упоминания заслуг! Но он сделал худшее, что только можно было придумать: он вообще не упомянул ни их имен, ни работ, как будто не принимал их всерьез. Потом настала очередь его непосредственных коллег, потом – историков-философов. Если считать и мелкие замечания, то его критики не избежал ни один факультет.
Общественное значение, однако, скандал приобрел лишь тогда, когда Штеттен осмелился напасть на императорский дом. При дворе, видимо, решили не опускаться до ссоры с этим назойливым невеждой, его выпад просто проигнорировали, но коллеги не оставили его незамеченным и выразили свое недоумение по поводу недопустимых измышлений профессора фон Штеттена в вежливой, но достаточно недвусмысленной форме.
Объявить Штеттена социалистом было, конечно, заманчиво, но более чем сложно. Хотя он цитировал Маркса, Фридриха Энгельса и даже иногда соглашался с ними, однако его насмешки почти никогда не щадили ни их последователей, довольно многочисленных среди его слушателей, на удивление пестрых по своему составу, ни того политического движения, которое называло себя именем Маркса.
Штеттен был против войны; во время революции он был против революции. Он всегда был против того, «чем как раз упивалась эпоха, чтобы потом иметь основания называть себя великой», как он говорил.
Лекции этого нигилиста привлекли шестнадцатилетнего Дойно; двадцатилетний Дойно продолжал ходить на них, потому что понял, что профессор вовсе не был нигилистом, а всю жизнь по-своему боролся за одну и ту же великую цель. То, что этот студент не соглашался с ним по многим важным вопросам, всегда огорчало учителя, но никогда не отталкивало его. Он так мечтал о полном обращении ученика, что даже сумел стать терпеливым и сдержанным. «Я буду ждать вас, милый Дион, на обратном пути из Дамаска. Досадная ошибка, недостойная вашего ума, сделала вас Павлом. Но вы вернетесь, вы вернете себе свое „я“ – „я“ язычника Савла»[27]27
По евангельскому рассказу язычник Савл из Тарса был ярым преследователем христиан; однажды, когда он шел в Дамаск, ему явился Христос и обратил его в христианство. Так Савл стал апостолом Павлом.
[Закрыть].
С тех пор прошли годы, думал Дойно. У Штеттена не осталось ни слушателей, ни учеников. Да и этот ученик остался Павлом. Он ждал меня на обратном пути и не дождался, из чего он заключит, что я не вернул себе свое «я».
Нет, профессор не считал себя всегда правым – по крайней мере, в обычном смысле слова. Его правота подтверждалась так часто, что он, в конце концов, не мог даже представить себе, что хоть в чем-нибудь может оказаться неправым. Он стал шутом собственного благоразумия и знал это. Но выяснить, как и почему это происходит, ему не удавалось при всем желании. Это означает: он слишком давно был одинок.
А за эти годы стал еще более одиноким. Соратники ему были не нужны: разве он сражался, чтобы победить? Все его сражения были лишь свидетельством causa victa[28]28
Намек на цитату из римского поэта Лукана (39–65): «Победитель любезен богам, побежденный любезен Катону». (Пер. Л. Остроумова.).
[Закрыть], попыткой спасти из отжившего то, что в нем было ценного.
Дойно показалось, что он снова впервые видит профессора, снова слышит его слова:
– Эти люди, которые не могут жить без мнения, как пьяница без водки, эти слизняки, думающие, что им принадлежит будущее, потому что им, как они полагают, принадлежит настоящая минута, хотя это они сами принадлежат ей, – все они даже не подозревают, что просто не понимают меня. Они так и не поняли, что настоящее – это фикция, без которой бытие утекло бы у этих тварей между пальцами как вода. Настоящего просто нет. Сейчас – уже не сейчас, едва мы успеем произнести это слово. Этим фанатикам настоящего и поборникам будущего мы должны противопоставить сознание прошлого, мы должны спасти от них будущее, сохранив для него те ценности, которые они хотят пожертвовать настоящему. Если историк действительно хочет понять прошлое, не став при этом жертвой легенд, он должен рассматривать его так, как если бы оно было настоящим. Чтобы избежать субъективизма, он должен рассматривать настоящее так, как если бы оно уже стало прошлым. В своем отношении ко времени все сущие страдают манией величия, паранойей. Историком можно стать только ценой отказа от этого безумия.
Дойно, тогда еще откровенно юный и нетерпеливый, скоро, хотя и неохотно, признал, что этот щуплый, всегда безупречно одетый человек с вечно простуженным голосом был вовсе не консерватором, а, если такое вообще возможно, консервативным революционером. Позже он оставил всякие попытки как-то его классифицировать. Нет, он не поддался на агитацию, хотя, исходя от Штеттена, она была достаточно лестной; он поддался обаянию человека, на которого, как ему казалось, походил и сам – приемами мышления, его техникой, но почти никогда – содержанием.
Теперь, подходя к старому, невысокому, но очень широкому дому, порог которого он столько раз переступал с замиранием сердца, Дойно думал, как бы подводя всему итог: «Встреча со Штеттеном начиналась как очередное юношеское приключение. Это была добрая и нужная встреча, раз она пережила даже воспоминания о других приключениях. То, что я его встретил, великое счастье. Пойти по его стопам было бы ошибкой, но и расстаться с ним – тоже».
2
Лишь после нескольких звонков дверь открыла горничная, не знакомая Дойно. Она не скрывала, что столь ранний визит явился для нее неприятной неожиданностью. Он попросил доложить о нем профессору, тот наверняка его примет.
Через некоторое время девушка провела его в кабинет. Войдя, он услышал голос профессора:
– Садитесь, Фабер. Вы явились минута в минуту – очевидно, это ваши кашубы приучили вас к такой прусской пунктуальности?
Голос доносился из-за старинной, затянутой гобеленами ширмы. Дойно ждал. Через некоторое время ширма немного отодвинулась. Дойно увидел, что профессор сидит на скамеечке, низко склонившись над большим ящиком.
– Славно отделали моего Волка, – произнес Штеттен, все еще не оборачиваясь к гостю. – Ничего, Волк, теперь все будет хорошо. Если мне снова придется куда-нибудь уехать, ты поедешь со мной.
– Что случилось с Волком, профессор? Он заболел? – спросил Дойно.
– Да, – ответил Штеттен, продолжая заниматься собакой. – Его отравили. Собственно, этого и следовало ожидать от той разини, которую госпожа профессорша недавно изволила нанять к нам в горничные. Между тем ей хорошо известно, что у меня нет никого на свете, кроме моего доброго Волка, следовательно… Мало того что о нас забывают, что завтрак нам подают только в девять, что о наших любимых блюдах и не вспоминают, а вместо этого кормят холодными пудингами и тому подобной дрянью, – к нам в дом впускают уже не только этих тупиц, приятелей моего на диво скромного сына: недавно госпожа профессорша распахнула свое старое сердце, а тем самым – и двери моего дома перед национал-балбесами со свастикой на рукаве, – нет, этого мало, они хотят еще поразить меня прямо в сердце, метя в сердце моей бедной собаки. Что же вы не садитесь, Фабер, на каком стуле вы тут всегда сидели?
Дойно сел.
– Да, Волк, – продолжал профессор, – нам с тобой сегодня оказали великую честь, о нас вспомнили и милостиво решили уделить нам немного драгоценного времени, посвященного обычно сочинению разной партийной околесицы и самоуничижительных записок. Спокойствие, Волк, спокойствие! Не будем ничего говорить этому человеку о том, что мы похоронили Диона достойнее, чем он умирал, и не будем хвалить гордого Диона в лице этого Фабера, который его у нас отнял. Да, да, блюй на здоровье, милый Волк, мы оба с тобой уже поняли, что такое этот мир. – Штеттен снова занялся собакой. Дойно сделал то же, что ему приходилось делать достаточно часто, – он стал ждать, пока профессор немного успокоится и изложит ему причины своего столь сдержанно высказанного гнева в понятных выражениях, так сказать, прямым текстом.
Но в этот раз действительно все было не так. Профессор молчал, собака тоже не издала больше ни звука – возможно, ей стало легче и она наконец заснула. Дойно знал, что он должен сидеть и ждать. Он охотно бы вынул утренние газеты, которые купил по дороге и еще не успел прочитать, но был уверен, что Штеттен воспримет это как оскорбление.
Дом стоял на тихой улочке, шум сюда почти не доносился. Лишь дважды, с коротким промежутком, открылась дверь на лестницу – и снова нетерпеливо захлопнулась.
В этой длинной, не слишком светлой комнате Штеттен писал свои статьи, импровизировал, так сказать, свои лекции, думал Дойно. Все, что было яркого и удивительного в жизни этого человека, создавалось в пределах этих нескольких кубических метров. Те, кто упрекал его в лени, не подозревали, каким страстным читателем был этот Штеттен. А те, кого он громил, и не догадывались, сколь досконально знал он каждую строчку из всего написанного ими. Писал и говорил этот человек быстро, но каждая фраза, каждое предложение были обдуманы и проверены со всех сторон. Другие держали свои знания в картотеке, Штеттен же все держал в памяти.
Старик всю жизнь упорно трудился, и только дураки могли принимать всерьез его аристократически-праздную манеру держаться – что от нее теперь осталось? Неужели он действительно «бросил это дело» – что осталось от его дела, что осталось от него самого?
Он все еще красит волосы, не хочет выглядеть стариком, хотя он уже стар. Вот он сидит передо мной, но старым выглядит только его халат. Возможно, он и меня переживет. А ведь он уже и для той войны был стар. Была и революция, и контрреволюция, но он прошел через них, так сказать, не замочив ног. Он никому и ничем не обязан. А я, пожалуй, единственное существо, если не считать его собаки, которое чем-то обязано ему.
«Если я на смертном одре скажу вам, что мне никогда не угрожала опасность утратить уважение к самому себе, тогда вы убедитесь в том, что моя жизнь достойна подражания», – повторил бы Штеттен эти слова сегодня? Все ли еще он уверен, что никогда не обманывал себя?
– Вы все еще здесь, Фабер?
– Да, господин профессор.
– Зачем вы пришли?
– Хотел доказать вам, что Дион еще жив.
– А если Дион меня интересует так же мало, как и это ваше доказательство?
– Меня бы это огорчило, профессор.
– Почему?
– Когда я думаю или пишу что-нибудь, я всегда спрашиваю себя: счел бы профессор это достаточно умным? И еще спрашиваю: не сумел ли бы он сформулировать это лучше, не стала бы моя мысль благодаря ему еще точнее? И чаще всего отвечаю: безусловно.
– В столь лестной форме вы даете мне понять, насколько мало вас интересует, одобрил бы я содержание ваших мыслей или писаний, счел бы я и его достаточно умным.
– Мы с вами никогда не могли прийти к согласию, профессор.
– Что знаете вы, кутенок, о том, насколько мы с вами были единодушны даже в том, в чем вы надеялись мне противоречить! И я нисколько не боялся, что вы примете всерьез те или иные глупые мысли, проскальзывавшие в наших разговорах. Но теперь у вас вообще никаких мыслей нет. У вас есть только «мнение». А сами вы с головой принадлежите этому сброду, этому «организованному мнению», которое называете партией. Или вы уже перестали понимать такие вещи?
Профессор уже был на ногах, его «габсбургская» нижняя губа вздрагивала, открывая белые, ровные зубы вставной челюсти. Дойно молчал.
– Конечно, я знал, что вы решили посвятить себя делу революции. То, что такого отчаянно гордого парня, как вы, потянуло к взбунтовавшемуся сброду, извращение вполне понятное. Не в этом дело! То, что вам неудержимо захотелось выступить против господства самого трусливого из всех классов, когда-либо правивших, мне это не слишком импонировало, но я это ценил. Ибо тогда я еще мог усмотреть в этом выражение вашего принципиального нонконформизма. Но теперь, теперь! Нет, вы больше не революционер, вы – наигнуснейший конформист. Я не поленился обнаружить вас за вашими бесконечными псевдонимами – я читал ваши политические труды. Вон там, на столе, еще лежит то дерьмо, которое вы опубликовали к «четырнадцатилетию Советской власти». Все, конец, – вы поддержали власть, породнились с худшим из сбродов – со сбродом правящим. Вы пишете – о правящей касте! – что она «оказалась права по всем спорным вопросам», а об оппозиции – что с «объективной точки зрения ее действия были организованным предательством»! Нет, нет, вы меня больше не интересуете, у меня нет для вас времени.
Дойно встал. На этот раз гнев профессора не прошел, как обычно, это был разрыв. Он сухо откланялся; профессор не подал ему руки, но открыл перед ним дверь и проводил в переднюю.
– Прощайте, господин профессор! Я пробуду здесь еще дня два-три. Я навешу вас в любое время, когда вам будет угодно.
– Мне больше никогда не будет угодно. Впрочем, пока вы не ушли, – я уже говорил, что госпожа профессорша превратила мой дом в явочную квартиру этих рыцарей свастики. Вещи тут бывают прелюбопытнейшие. В частности, я видел длинный список людей, которых они собираются обезвредить в первый же день после прихода к власти. Вы в этом списке занимаете весьма достойное место, как я убедился. Эти олухи удостоили вас почетной клички «растлителя немецкой молодежи».
– Благодарю вас, профессор. Этого следовало ожидать.
– Да, вообще я переписал этот список, хотел доставить вам удовольствие напоследок. Зайдите еще на минутку, я вам его найду.
Они вернулись в кабинет. Профессор уселся за стол и начал искать. Дойно стоял, следя за его движениями.
– Я вообще-то писал вам, чтобы вы меня навестили, – сказал профессор, извлекая из тумбочек и ящиков все новые кипы бумаг и бегло просматривая их. – Я пригласил вас, чтобы обсудить вопрос о вашем наследии. Собрал воедино ваши «Опыты» – помните, вы записали их тогда по моему настоянию. Получился объемистый том плюс предисловие, которое я к нему написал. Надеюсь, вы не будете против, если я теперь его издам? Что?
– Простите, но теперь я многое написал бы иначе. Кроме того, сейчас не время…
– Ага, не время публиковать, например, вот это!
В длинных, слишком язвительных фразах, которые читал вслух профессор, Дойно без труда узнал себя прежнего – девятнадцати-двадцатилетнего. Ему пришлось признать, что этот девятнадцатилетний юнец был неординарен – благодаря своим обширным, хотя и беспорядочным, знаниям и умению пользоваться ими, а также благодаря той беззаботной дерзости, которая, когда он обвинял или выражал презрение, должна была производить впечатление силы.
Было ли это для Штеттена, собиравшегося процитировать лишь несколько фраз, но все еще продолжавшего чтение, тоже всего лишь воспоминанием, к которому он охотно вернулся, ибо оно делало его на несколько лет моложе, или же он видел нечто большее в этом «Этюде о законе власти», который когда-то поразил его и заставил приблизить к себе автора, девятнадцатилетнего юнца?
Дойно показался себе своим собственным старшим братом, вынужденным прятать насмешливую, хотя и доброжелательную улыбку, чтобы не обескуражить юношу.
Был ли он еще тем человеком, которого с такой отчетливостью показало ему воспоминание? Стоял на удивление жаркий, прямо-таки летний мартовский день. Все они были немного не в себе от этого неожиданно быстро прогревшегося воздуха и лежали на холме до самого наступления ранних сумерек. Чувство невыразимой, хотя и необременительной благодарности за что-то переполняло их настолько, что не хотелось говорить. Уже по дороге домой, в лесу, его охватило непреодолимое желание писать. Ему приходилось сдерживать себя, чтобы не начать проговаривать вслух первые фразы, – так сильно просилось наружу то, о чем он хотел писать.
Потом, дома, в маленькой комнате, за шатким столом у окна, он сидел и писал. Дело двигалось далеко не так быстро, как казалось вначале. Чем дальше шла работа, тем чаще он думал о Штеттене, о его семинаре, где хотел с ней выступить. Он не боялся его приговора, нет, но были фразы, которые он переделывал, заострял, чтобы они стали такими, какие любил Штеттен. Он то и дело представлял себе профессора, видел его чуть заметную улыбку. Нет, он не будет прерывать чтение, чтобы принять от него эту улыбку, думал он, девятнадцатилетний, но он почувствует ее, словно физическое прикосновение. И, тоже не глядя, будет знать, когда профессор проведет левой рукой по лбу, как всегда делал, когда кто-то из учеников удивлял его или заставлял задуматься.
Это была для него, девятнадцатилетнего, уже не первая ночь, проведенная за столом. Он давно, с удивлением и радостью, убедился, что и на крышах этих нищих густозаселенных домов поют птицы, что даже большие города, когда спят, настраивают человека, прислушивающегося к их дыханию, на такой же нежный лад, как его, которого бессонная ночь сделала стражем всех беззащитных.
Дойно усмехнулся той уверенности, с которой этот юнец считал, что ему ясна суть закона власти, и той презрительной иронии, с которой он писал о власть имущих и их поклонниках.
Он услышал последние слова лекции Штеттена:
«…можно считать доказанным, что идея живет только в оппозиции к власти, будучи же связана с нею и превращена в институцию с целью ее оправдания, идея гибнет. История власти есть история изнасилованной и преданной идеи.
Революционная же идея, о которой говорим мы, победит, лишь став человеческой институцией, то есть властью всех, то есть безвластием всех институций».
– Не думаете ли вы, Фабер, что сейчас как раз подходящий момент опубликовать эти работы? – спросил Штеттен. Он смотрел прямо в лицо Дойно с каким-то странным любопытством, точно желая наконец узнать его, точно ища в этом лице другое, похожее, которое любил когда-то и которое вспомнилось ему во время чтения.
– Юноша, написавший все это в таком довольно высокомерном стиле, имел, несомненно, добрые намерения. Думаю, вы переоцениваете его, профессор, как, возможно, переоценивал бы и я, если бы не был связан с ним особыми духовными узами. Но куда важнее то, что написано это было в революционный период, когда революция повсюду наступала. Теперь все иначе. Сейчас мы – возможно, и не надолго, но отступаем. Это касается международного рабочего класса в целом и России – в особенности. В такой ситуации опубликовать эти вещи значило бы в первую очередь нанести удар по Советскому Союзу – именно потому, что наш юный автор выступает с позиций революционного критика власти вообще, хотя субъективно он прав.
– Да вы вслушайтесь в то, что вы говорите, Фабер, неужто вы не замечаете, насколько все это слабо? Так всегда говорят цензоры, у которых нечиста совесть. Если то, за что вы боретесь, требует такого щадящего обращения, то чего же оно стоит, чем оправдывает свое существование? В последний раз, когда вы у меня были, вы говорили о партийной правде. И сказали, что особенность вашей партии в том и состоит, что она не боится правды, что любая правда, если только это полная правда, пойдет ей на пользу. Может быть, это уже не так, Фабер?
– Нет, это так.
– Значит, тогда и все написанное этим юношей тоже правда – или нет?
– Да даже если правда, что из того? – воскликнул Дойно. Заметив, что сильно взволновался, он сделал паузу, чтобы взять себя в руки. Заговорив опять, он почувствовал, что говорит с интонациями своих девятнадцати лет. Ему пришло в голову: я бью этого мальчишку, чтобы снова покорить профессора. Голос Иакова, но шкура Исава[29]29
По Библии, Иаков, чтобы получить благословение умирающего отца, предназначавшееся его старшему брату Исаву, вошел вместо него к отцу, надев шкуру козленка.
[Закрыть]. Он продолжал уже в другом тоне:
– Разве вы сами не учили меня, что у человечества никогда не было недостатка в правдах и прекрасных побуждениях, что его от них не первый век тошнит! Разве вы сами не учили меня, что единственная ложь, которая способна устоять, это полуправда, правда, приправленная ложью! Главное – не в том, что человек говорит, а в том, что происходит при этом в головах тех, кто его слушает. Для правды нужны минимум два человека: тот, кто ее находит – если бы он не делился ею с другими, что бы он с ней делал? – и другой, которому соответствующие представления не позволяют извратить ее и превратить в полуправду. И вот этого другого – а таких множество, такие – все, – надо направлять, его надо подвести к такому рубежу, где он уже никак не сможет увильнуть от этой правды. На свете нет страны, где царила бы одна безоговорочная правда, и кто знает это лучше вас, профессор? А в такой ситуации, какая сложилась сегодня, то, что написал этот мальчик, будет заведомо неверно понято.
– Всеми?
– Нет, но почти всеми.
– Достаточно, что хоть кто-то поймет, я это опубликую.
– Если я не могу этому помешать, то пусть это появится хотя бы не под моим именем.
– Бедняга, вы так боитесь ваших партийных инстанций?
– Нет! – раздраженно воскликнул Дойно. – Дело не в этом! Неужто надо вам подробно объяснять, почему человек не хочет вредить своему делу?
Штеттен взглянул на него. Дойно знал этот взгляд и ждал язвительной реплики. Он знал, что профессор редкие понятия презирал так глубоко, как это: «дело», и что на пафос, с которым это слово произносилось, он всегда отвечал самой безжалостной издевкой.
Но когда Штеттен устало поднялся со стула и заговорил, не глядя на него, Дойно с горечью убедился, что сегодня он ни разу не смог угадать, что сделает или скажет его старый учитель. Штеттен не иронизировал, в его голосе звучала тихая грусть отвергнутого, которому открылась безнадежность отречения.
– Я даже не могу больше на вас сердиться, Фабер, настолько вы мне чужой, когда говорите на этом вашем языке. Вряд ли вы успели сильно измениться за это время, значит, это я обманывался. Неужели мы могли когда-то быть дружны? Раньше мне казалось, что, встречаясь, мы можем говорить друг с другом, как люди говорят сами с собой. Каждый из нас просто думал вслух в присутствии другого. А все эти прелиминарии, в которых наши столь зависимые от «мнений» интеллигенты намертво застревают, как в капкане, уходили, стоило нам только раскрыть рот. Разве вы забыли, разве я должен теперь напоминать вам о том, что было оговорено между нами? О том, что дело, означающее все для человека, не желающего думать, не стоит в глазах человека думающего того сомнения, от которого он должен был бы ради этого дела отказаться? Разве мы отказались от религии, этого уникального и единственно удовлетворительного утешения, обрекши себя на неумолимость, чтобы пожертвовать «делу» именно то, что только одно и способно было бы сделать его достойным внимания? Как будто мне за мои шестьдесят два года выпадало мало искушений сказать «да» какому-нибудь делу, записаться в какое-нибудь сообщество, которое ублажало бы меня как могло, если бы я ему позволил? Как часто я чувствовал себя усталым – от своего одиночества, своей несговорчивости, от всех своих противников. Вы знаете, как заманчиво было отказаться от всего этого, но знаете также, что жизнь моя потеряла бы всякий смысл, если бы я позволил себе проявить слабость. Вот я оглядываюсь назад с высоты своих шестидесяти двух лет: все ушло, все растаяло, но страсть к правде осталась, только она одна. А одиночество, к которому она приговаривает человека, терпеливо ее ожидающего, становится огромным, как мир, вмещая в себя все, и ничто больше не в силах положить предел этой страсти.
Друг мой, как вы состарились! Этот девятнадцатилетний юноша, которым вы когда-то были и которого теперь подвергаете столь строгой цензуре, трудился ради того же дела, что и вы, только он ни на миг не забывал, что и ему, и его делу моментально придет конец, как только придется ради него поступиться хотя бы одной-единственной мыслью. Поэтому он несмотря ни на что не был «партийным», вы же пережили отчуждение от самого себя. Я должен надеть по вас траур, как ваши верующие евреи на Востоке надевают траур по изгоям – точно по мертвым.
Ответы у него были ясные и обстоятельные, но Дойно понимал: ничто из того, что он мог бы сказать, не достигнет цели. Ему казалось, голос его недостаточно силен. Конечно, дело, служа которому человек утрачивает мужество думать, не стоит ломаного гроша. Конечно, бывает одиночество, от которого никуда не уйдешь, которое уже не отпускает тебя. Но решиться на такое одиночество означает решиться на частную жизнь. А частной жизни у него больше не было, да он и не хотел ее иметь.
– А если частная правда стоит так же немного, как и частная ошибка, потому что не имеет ни исторических корней, ни последствий – во всяком случае, она обходится не так дорого, как ошибка коллективная? – продолжал он вслух свою мысль. – Я не забыл ничего из того, о чем вы напомнили мне, но я не хочу ничего об этом знать. Это – вы извините, профессор, – это не только не важно, но и неинтересно. Вы всю жизнь во всем оказывались правы – я вполне в это верю, – ну и что? Я бы не хотел прожить вашу жизнь, я бы не хотел в шестьдесят два года убедиться, что все кругом были идиотами и ими остались. И признать тем самым, что сорокалетние труды пропали даром. Вы никогда не мирились с «компаративистами», которые хотели только «лучшего» и не стремились к «хорошему», не подозревая даже, что оно существует. Вы не уступили им и гордитесь этим. Нет, вас нельзя упрекнуть ни в конформизме, ни в каких-либо компромиссах. И тем не менее вся ваша жизнь оказалась капитуляцией, ибо вы приняли эту жизнь и ее правила игры.
– Послушайте, Дион, делал ли я в жизни что-либо иное кроме того, что отрицал – со всей силой, о которой вы лично и все ваше поколение только слышали, – отрицал это отрицание? И был при этом последовательнее и универсальнее вас?
– Нет, профессор, вы не были последовательнее, так как боялись собственной победы. А мы хотим победить. Сократ, держа в руке чашу с цикутой, еще хотел доказать свою правоту, мы же хотим получить власть, чтобы тем самым уничтожить ее окончательно.
Его прервал громкий смех Штеттена, неожиданно вставшего прямо перед ним. Дойно смотрел в маленькое лицо учителя, глаза которого, казалось, совсем исчезли за возникшими от смеха морщинками. Он смотрел в это старое лицо и любил его, как в тот, первый раз, ему хотелось рассмеяться вместе с учителем, но он не позволил себе даже улыбнуться.
– Я боялся победы, мой мальчик, я – боялся, ха-ха-ха! – От смеха Штеттен едва мог говорить. – Боялся! А мысль о том, что я не мог бояться победы уже хотя бы потому, что ее не может быть, эта мысль вам в голову не приходила? – И внезапно став серьезным: – Нет, вы ошибаетесь! На самом деле смерть Сократа была практически единственной серьезной победой, которую когда-либо одерживала философия. Платон, никогда этого не понимавший, так же мечтал о победе, как и вы. Он уже получил было такую власть, которой хватило бы, чтобы ее уничтожить, но потом – помните? – каких безумных денег стоило выкупить его из рабства. Победить, вы говорите, победить? Значит, вы забыли, как я доказывал, что если и в войнах победа – вещь достаточно сомнительная, то в революциях ее вообще быть не может? Эта так называемая победа создает новые обстоятельства, которые ее съедают. Своей высшей точки революция достигает до того, как победит: ее победа – это уже начало контрреволюции, сначала, естественно, выступающей под революционным флагом. Тот факт, что некоторые люди вошли в историю как победители, объясняется лишь краткостью человеческой жизни: они просто не дожили до превращения своих побед в поражения. Да, если бы история была рулеткой и можно было бы, выиграв, встать и уйти – но нет, мой мальчик, тут вам придется играть до проигрыша. Разве Александр, или Цезарь, или Наполеон – победили? Разве победил Моисей, Иисус или Магомет? Победили Кромвель, Дантон, Робеспьер? Allons, mon enfant[30]30
Вперед, мой мальчик! (фр.) – перефразированные слова из «Марсельезы» («Вперед, сыны отчизны…»).
[Закрыть], признайтесь: побед не бывает.








