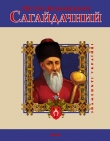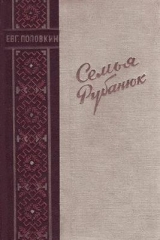
Текст книги "Семья Рубанюк"
Автор книги: Евгений Поповкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 58 (всего у книги 59 страниц)
– Интересное что-то вычитал? – спросил Петро.
Иван Остапович вскочил и возбужденно хлопнул Петра по плечу.
– Слушай… Байрон о войне. Читал его «Дон-Жуана»?
– Конечно. Еще в Тимирязевке…
– Слушай:
…Я последний, кто желает
Войны, я крикнул бы, ее увидя: «Стыд!» —
Не будь я убежден, что мир от адской бездны
Лишь революция спасет рукой железной…
Сто с лишним лет назад так писать! – воскликнул Иван Остапович, захлопнув книгу. – Здорово, а?
– У меня мало времени остается для чтения, – со вздохом произнес Петро.
– А я вот, наконец, добрался до книг. Уж теперь отыграюсь…
Иван Остапович раскрыл большой чемодан, стал выкладывать на стол книги.
– Вон сколько не успел проштудировать.
Петро с жадностью просматривал заголовки: Короленко – «История моего современника», Маркс – «Гражданская война во Франции», Куприн – «Молох», Иван Франко – «Избранные произведения». Английский текст…
– Что это?
– Кристофор Марло, «Трагическая история доктора Фауста».
– Свободно читаешь?
– В словарик потихоньку заглядываю.
Среди военных книг, новинок художественной литературы, журналов Петро заметил несколько медицинских учебников.
– А эти тебе зачем, Ванюша?
– Это имущество Владимировны. Она в мединститут готовится.
– Пап-ппа, – протяжно произнесла девочка, тыча карандашом в размалеванную тетрадь.
– У-у! Как здо-орово!
– Ну, пойду, – сказал Петро. – Я ведь только навестить зашел. Вечером встретимся.
– Погоди!
Иван Остапович подхватил девочку на руки, закружил по комнате. Светлана радостно повизгивала, захлебываясь от удовольствия, настойчиво требовала:
– Пап-пка, еще!
Иван Остапович усадил ее на колено. Девочка зачарованно смотрела на него смышлеными серыми глазами. Петро с одобрительной усмешкой наблюдал за ними.
– Крепкий мороз сегодня, – сказал Иван Остапович. – Не останетесь без электроэнергии?
– Э, нет! Мы мороза-воеводу в свой штат зачислили, – пошутил Петро, – Ничего, старается старик добросовестно.
– Именно?
– У нас ведь запруды-перемычки, по опыту алтайцев… Инженер подсказал.
Петро объяснил, как верхний слой льда используется в качестве надежного покрова, предохраняющего реку от замерзания.
Иван Остапович взял с тарелки яблоко, разрезал его на две половинки, одну из них дал дочери.
– Угощайся, Петро, – пригласил он. – Сад как переносит морозы? У вас ведь молодых яблонь много.
– Обвязываем.
– Соломой?
– Нет, в соломе мыши заводятся. Камышом, подсолнухом.
– Окуриваете?
– Само собой. Батько за термометром все время следит. Если в час дня температура ниже нуля, предупреждаем людей. Особенно в ясную погоду, во время восхода солнца, приходится быть начеку. Все время ветви держим под дымом.
– Хлопот много.
– Без этого нельзя.
Петру было приятно, что брат, давно уже утративший связь с селом, интересуется колхозными делами так подробно.
– Приглядывался я вчера, как вы работаете. И знаешь… хорошо! – Глаза Ивана потеплели. – За два года столько чудес натворили! Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить…
– А мне все время кажется, не то еще, не то, – сказал Петро. – Вот приезжай годиков этак через пять.
– Гм! Благодарю за такое гостеприимство. А я, грешный, рассчитывал на будущий год приехать. Ну, а через пять лет что ты обещаешь?
– Я тебе кое-что уже рассказывал. Думаем все свое колхозное хозяйство по-новому перестроить. Высокопродуктивные фермы создадим. Сады разведем в каждом дворе.
– Карту твою я видел. Реально это сейчас? – спросил Иван с сомнением.
– Если электрифицируем по-настоящему свое хозяйство, сможем поставить примерно моторов тридцать – сорок на производственные работы, – тогда справимся… И сомневаться нечего.
Иван Остапович собирался закурить, но, взглянув на Светланку, отложил папиросу в сторону.
– И затем, продолжал Петро, чувствуя, что брат все же слабо верит в его замыслы, – государство нам безусловно поможет.
В комнату, мягко ступая валенками, вошла Алла. Нос ее покраснел, глаза были заплаканы.
– Что стряслось? – обеспокоенно спросил Иван Остапович.
Алла, вытирая слезы, засмеялась:
– Ничего… Хрен помогала матери тереть. Светочка, пошли молоко пить.
Она увела с собой Светланку, а Петро, собиравшийся было уходить, снова присел на табуретку.
– Хорошо живете? – спросил он.
– Очень!
Иван Остапович протянул Петру пачку с папиросами, закурил сам.
– Больше того, я скажу тебе, – продолжал он. – Я рад, что обстоятельства свели меня именно с Аллой. С Шурой нам было хорошо, смерть ее я пережил очень трудно. Что ж поделаешь? Без семьи я не могу… Люблю детей. Если бы у Аллы не было настоящей большой души, какого-то удивительного такта, врожденной чуткости, что ли, не скоро бы я мог найти своего друга.
Петро слушал брата с глубоким участием, и Иван Остапович редко говоривший кому-либо о своей интимной жизни, сейчас испытывал потребность в дружеском разговоре.
– Я, как и другие, продолжал он, – считал Аллу когда-то поверхностной, даже легкомысленной. Не понял, что в новой для нее обстановке ей трудно, она не знала, как держать себя. И то, что она могла прийти запросто и вымыть голову фронтовику или предложить заштопать его гимнастерку, некоторые истолковывали по-своему, пошло. Знаю Аллу четыре года – и открываю в ней все больше достоинств. Учиться начала, – всячески помогу!
– Ну и хорошо, что ты доволен, – сказал Петро.
В комнату вошла Катерина Федосеевна.
– Так я пошел, – сказал Петро, нахлобучивая шапку.
– До скорого свидания!
…Поздно вечером, покончив со всеми делами, Петро зашел на агитпункт за Оксаной.
С неба бесшумно падала густая масса снега, в рое белых хлопьев не было видно ни хат, ни столбов, ни прохожих.
– Смотри, как переменилась погода, – сказала Оксана, беря Петра под руку и прижимаясь к нему.
– Теперь потеплеет.
Улицы были пустынны, навстречу попалась лишь однотонно поскрипывающая полозьями запоздалая бычья упряжка. На санях, нахохлившись, сидел засыпанный снегом возница, лениво покрикивал:
– Цоб-цобе!
– Вот уж спокойный транспорт, – пряча лицо в меховой воротник и приглушенно смеясь, сказала Оксана. – Пережиток феодализма.
– Ничего… Пока тягачами да автомашинами обзаведемся, лысые еще честно послужат. Побольше бы нам их в бригады.
Хата Девятко, куда перебрались на время Петро и Оксана, была на замке. Снег укрыл пышным ковром дорожку на подворье, осыпал крыльцо, кроны каштанов.
– Мать и Настунька, видно, давно ушли, – сказала Оксана, стряхивая с рукава снег и отмыкая замок. – И следочки занесло…
В хате, доставая новый костюм Петра, Оксана напомнила:
– Ордена и медали не забудь надеть.
– Зачем?
– Батько просил. Меня тоже. Ты ведь знаешь его. Все вместе никогда не собирались. Ему хочется на своих детей поглядеть во всем их блеске.
– Придется уважить, – ответил Петро посмеиваясь.
Оксана выбрала бордовое бархатное платье. Ей сегодня особенно хотелось выглядеть хорошо, поэтому она старательно расчесала и уложила волосы, припудрила лицо, слишком разгоревшееся на холоде. И когда вышла из боковой комнатушки к Петру, он восторженно развел руками:
– Ты просто королева!
Оксана зарделась совсем по-девичьи и, стараясь скрыть радостное смущение, сказала:
– Дай я тебе галстук поправлю… король. Надо поспешать – одиннадцать уже.
* * *
Заслышав стук калитки, Остап Григорьевич вышел на крыльцо. В новом, недавно сшитом пиджаке, чисто выбритый, с подстриженными усами, он помолодел, и Оксана не утерпела, чтобы не сказать ему об этом.
– Так оно же, как говорится… горе старит, а радость молодит, – ответил Остап Григорьевич, молодецки подправляя усы. – Проходьте, деточки, а то мы уже намерялись угощение сами поесть. Вот снежок сыплет, это дуже добре, к урожаю…
В жарко натопленной, залитой ярким светом хате было весело и оживленно. Около нарядной елки шумно возились со Светланкой Василинка, Настунька, Сашко́. Иван Остапович, в парадном генеральском мундире, сидел подле накрытого уже стола, разговаривал с Федором Кирилловичем Лихолитом. Жена Федора, Христинья, в малиновой кофточке с напуском и синей юбке, помогала Алле расставлять стаканы и чарки.
– Тесноватой стала наша хата, батько, говорил Петро, помогая Оксане снять шубку. – Новую надо строить.
– Ну так что ж? Трошки разбогатеем и новую поставим.
Иван Остапович поднялся, позвякивая орденами, подошел к ним.
– Ну-ка, ну-ка, дайте взглянуть на свояченицу.
Оксана почти незаметным движением, как и все женщины, когда разглядывают их туалет, оправила свое платье, провела по волосам и, приосанившись, задорно спросила:
– Хороша?
– Хороша-то ты, Оксана, и без бархата, – сказал Иван Остапович, – а сегодня прямо-таки расчудесная.
Катерина Федосеевна и Пелагея Исидоровна внесли большие миски с дымящимся жарким. В комнате пряно запахло лавровым листом, перцем.
– Садитесь, дети, а то все наши труды пропадут, – приглашала Катерина Федосеевна, вытирая усталое, но довольное лицо.
Рассаживались со смехом, с шутками.
– Три минуты осталось, – объявил Иван Остапович, взглянув на часы и включая приемник. Он разыскал глазами меньшого братишку. – Сашко́! Порядка не вижу…
Сашко́, с тщательно причесанными вихрами, в шерстяном костюме – обновке, подаренной накануне Иваном Остаповичем, стремглав бросился в сени, вернулся с двумя замороженными бутылками шампанского.
– Что ж, предоставим первый тост батьку, – сказал Иван Остапович. – Петро, разливай. Федор Кириллович, действуйте.
Остап Григорьевич, проведя ладонью по лысине, с достоинством поднялся. В руке его чуть приметно дрожал стакан с искрящейся влагой. Он поправил усы, собираясь что-то сказать, но в это мгновение заиграли кремлевские куранты, и все встали.
Было так торжественно под невысокими сводами старой рубанюковской хаты, лица всех стоявших вокруг стола светились такой спокойной радостью, что Остап Григорьевич закрыл глаза, стараясь удержать слезы. Но они просочились сквозь крепко стиснутые веки, поползли по щекам. Старик торопливо вытер их и кашлянул от смущения.
– Я вот вспомнил про тех, кого нету с нами, – сказал он. – Про Ганнусю, про наших дорогих людей, которые отдали свою жизнь, чтобы семьи могли быть вместе, работать… в свободе…
Многое хотелось Остапу Григорьевичу сказать сейчас своей семье! Если бы он умел выразить свои чувства, он сказал бы, как гордится детьми, как радуется его сердце, когда он, бывший батрак, видит, по какой широкой дороге идут они, какие просторы открыты перед ними.
Нет, не сумел старый садовод рассказать о той отцовской гордости, что наполняла его. Обведя влажными глазами собравшихся, он только и мог произнести:
– Ну, дети мои, сыны и дочки мои… с Новым годом! С новым счастьем! Будем здоровые…
Позвякивали чарки, и хозяйки, пригубив вино, захлопотали около угощения. Федор Кириллович, осушив свой стакан, почмокал губами, покосился на Ивана Остаповича.
– Вижу, понравилось, – заметил тот, подливая ему.
– Винцо доброе… Ну, слабоватое, вроде ситра… Горилочка вернее.
– Перейдем и на горилочку. Мне как-то, за Брестом, пришлось повидать одного дегустатора, – смеясь, вспомнил Иван Остапович. – Проезжаю, сидит у дороги землячок, из тыловой команды. Бутылки из-под шампанского кругом валяются. «Чем занят?» – спрашиваю. «Да ось, товарищ начальник, пробую, що то за напыток якыйсь чудный. Шостую пью – шыпыть, а не бере…»
Посмеялись. Следующий тост произнес Иван Остапович.
Поднимаю чарку за всех сидящих здесь, – сказал он. – За ваши честные, трудовые руки. За осуществление мечты вашей – новую, прекрасную Чистую Криницу. И – особо – за отца и мать. Мы гордимся вами, тато и мамо. Семьей нашей гордимся. Пусть она всегда будет крепкой, дружной, как была.
Остап Григорьевич, расправляя пальцами усы, а другой рукой бережно наливая в рюмку Аллы вино, говорил ей:
– Детей своих мы, невесточка дорогая, так воспитывали, чтоб они друг на дружку опираться могли, чтобы и другим людям опора в них была. Не обижаемся на детей.
Сидели долго. Спели «Широка страна моя родная», «Реве та стогне Днипр широкий», «Вечер на рейде», «Ой, Днипро, Днипро…» Потом опять включили радио. Из Москвы передавали большой праздничный концерт.
– Вот же какая разумная штука! – похвалил Остап Григорьевич. – Сидим себе в хате, за тыщу километров, – в Москва, вот она…
Вскоре Федор Кириллович с Христиньей ушли домой, Пелагея Исидоровна, намаявшись за день, легла спать в боковушке.
Сидя на лежанке и заложив руки за спину, Остап Григорьевич рассказывал, как в канун сорок третьего года партизаны совершили налет на гарнизон оккупантов, устроивших новогодний праздник. Зазвонил телефон.
Иван Остапович взял трубку, ответил на чье-то поздравление и протянул трубку Василинке.
– Тебя просят.
Василинка взглянула на брата с недоверием:
– Меня? Та кто же это?
Она осторожно взяла трубку, долго слушала, переводя задорные глаза с Ивана Остаповича на Настуньку, на Петра.
– Поздно уже! – воскликнула она. – И выдумал такое…
– Кто это? – полюбопытствовал Петро.
– Алексей… Придумал! Зовет меня и Настуньку гулять к ним.
– Скажи, пусть к нам идет.
Петро взял трубку, притворно-сердитым голосом проговорил:
– Товарищ директор, вы что наших дивчат сманиваете? Приходите-ка лучше к нам. Серьезно говорю. У нас тут бал в самом разгаре.
Через полчаса на крылечке затопали ногами, в сени ввалились запорошенные хлопьями снега Алексей и Нюся Костюк. Полина Волкова, Павлик Зозуля. Они долго со смехом отряхивались, в хату вошли с мокрыми лицами.
– Мы с культурным активом, – сказал Алексей, кивнув на Павлика; у того висел за плечами завернутый в холстину баян.
Алексей немного стеснялся генерала и то и дело косился в его сторону. Но Иван Остапович сразу дал почувствовать пришедшим, что он им не помеха, просто и весело заговорил с девушками, потом попросил у Павлика баян и неожиданно для всех сыграл несколько мелодий.
– Ну-ка, что-нибудь повеселее, – сказал он, передавая баян владельцу.
– «Польку», Павлик-золотце, – попросила Василинка и заглянула в лицо парня такими глазами, что тот не сразу даже нащупал нужные клапаны баяна.
И вот к стенке отодвинули табуретки и скамейки, завертелись в танце пары.
– А ну-ка, тряхните стариной, батько, – подзадоривал Иван Остапович отца. – Вот Владимировну можете пригласить.
Остап Григорьевич после минутного колебания поднялся, лихо подкрутил усы и взял Катерину Федосеевну за руку.
– Мы с матерью.
Она, смущенно смеясь, упиралась:.
– Та отчепись ты, старый… Нам с тобой пора на печи лежать.
Но темные добрые глаза ее засияли по-молодому: когда-то, в девичьи годы, она была завзятой плясуньей.
Танцевали старики сосредоточенно, с серьезными лицами. Катерина Федосеевна шла плавно, мелкими шажками. Остап Григорьевич сперва тоже приплясывал, не сгибая ног, и только молодцевато поводил плечами, потом разошелся, стал выделывать такие затейливые коленца, что хата ходуном заходила.
– Ай, батя! – воскликнул Иван Остапович. – Поддержал честь старой гвардии, поддержал…
Позже, отдыхая, пили чай с сушеными вишнями а мятой, ели пироги.
– Ну, кажется, отгуляли сегодня за все годы, – говорил Остап Григорьевич. – Когда еще доведется всем встретиться?
– Жалко, не погадали, – сказала Нюся. – Что за Новый год без гаданья?
– А это мы сейчас исправим, откликнулась Оксана, исчезая в дверях. Она принесла из кухни несколько яиц, стакан с водой.
– Проработает нас завтра парторг, – шутливо высказала опасение Полина Волкова, – будет нам.
– Мы не сознаемся, – успокоил ее Иван Остаповач. – А если и сознаемся, скажем – секретарь комсомола осуществлял идейное руководство.
– Ну, ладно, сложу голову за вас всех.
Дурачась, лили яичные белки в воду. Нюсе Косткн и Волковой выпала свадьба. Настуньке, Сашку и Алле – исполнение желаний.
– Интересуюсь, какое желание у нашего школяра? – положив руку на плечо братишки, сказал Иван Остапович. – По секрету, только мне…
Сашко́ дернул головой и причмокнул языком.
– Стать генералом! – шепнул он и покраснел.
– Ну, это, козаче, в твоих руках, – улыбаясь, ответил Иван Остапович. – Для этого что надо?
– Хорошо учиться.
– Абсолютно правильно!
Василинка выпытывала в сторонке Настуньку: – Ты что задумала?
Хихикая, жарко дыша в ухо подружке, та шепотом сказала:
– Купит мать в этом году швейную машину?
– Пхи! Придумала!
Василинка напряженно, приоткрыв губы, смотрела, что сулил ей стакан.
– Замужество! – воскликнула Нюся, вскакивая и тормоша девушку.
– Ну и погуляем же в этом году! – сказал Алексей, смотря в лицо Василинки. – Сколько свадеб предстоит!
– Мой жених еще в люльке качается, – пренебрежительно сказала Василинка.
– Что вы все о свадьбах! – крикнула Оксана. – Всем судьбу свою интересно знать.
Она извлекла откуда-то черную шаль, вызвалась быть предсказательницей. Ей со смехом накрыли голову, обступили. Вещала Оксана замогильным голосом, сидела под шалью не шевелясь, как изваяние. Но после того как она предсказала Катерине Федосеевне, что той «ложится дальняя дорога и большая государственная деятельность в Берлине», а Алле «предстоит в недалеком будущем вывести сорт яблонь, которые будут плодоносить и зимой», ее с хохотом разжаловали.
– Врет, как и все гадалки! – крикнула Нюся, срывая с нее шаль.
Иван Остапович, заметив, что отец сидит грустно задумавшись, спросил:
– Чего, батько, зажурился?
– Гляжу вот… И радостно и сумно… Что мы видели в молодые годы? А сейчас что? Электричество, радио, ученье – все доступно. Работай знай с совестью – и обуться, и одеться, и ешь – не хочу… А у нас с твоей матерью, сынок, поверишь, одна свитка на двоих была. То я надену, когда со двора иду, то она. Не то что электричества – керосину часто не бывало. Посидим в потемках, побубним меж собой и – спать. Хата сырая, холодно, голодно. Словом, нечего и вспомнить… А работы ж мы никогда не боялись. Такая несправедливость была, чтоб его дождь намочил, старый режим!
– Вот так сейчас еще многие живут за границей, – сказал Иван Остапович. – Насмотрелся я на крестьян… Ну, ничего, и там все изменится.
– Если мои дети так по ямам не лазят, как я лазил, – продолжал старик, – то вашим детям, Ванюша, еще лучше будет. Я так понимаю.
XXI
Иван Остапович наслаждался полным отдыхом. Он часами просиживал с батьками, читал книги, возился со Светланкой, побывал в фруктовом саду, раза два дед Кабанец сводил его поохотиться на зайцев. Потом он принялся за большую статью для военного журнала и, окунувшись в привычную работу, – стал выходить из хаты редко.
Ничто ему не мешало. Алла уводила Светланку к старикам, помогала свекрови по хозяйству, затем садилась за учебники.
– Что это невестка ваша будто школярка какая? – заметила однажды Пелагея Исидоровна с усмешкой, увидев, как Алла старательно переписывает что-то в тетрадку.
– Так она ж на докторшу собирается учиться, как и Оксаночка, – ответила Катерина Федосеевна.
– И-их, свахо! Ну к чему это? Что она, за таким, как ваш сын, не проживет? Абы хозяйка путная была.
– Хозяйка она хорошая.
– Ну, и нехай бы себе мужа да детей доглядала…
Катерина Федосеевна в душе и сама полагала, что заботы замужней женщины должны сосредоточиваться на семье, но вмешиваться в такие дела не хотела.
– Знаете, свахо, – говорила она Пелагее Исидоровне, – мы свое отживаем, а дети нехай так плануют, как им лучше.
Как-то заговорила с Аллой на эту тему и Оксана. Зайдя днем к Рубанюкам, она застала Аллу за учебниками.
– Много ты занимаешься, – сказала Оксана. – По-фронтовому живешь. Вчера, говорят, в два часа легла?
– Вместе со мной каждое утро встает, – с упреком сказала Катерина Федосеевна, услышав разговор из соседней комнатки. – А спать ложится позже всех.
Алла посмотрела на свекровь с добродушной улыбкой.
– Ты мне вот что скажи, товарищ медик, – повернувшись к Оксане, спросила она. – Какая-нибудь существенная разница между инстинктом и рефлексом есть?
– Инстинкт, по Павлову, это тот же сложный врожденный рефлекс. Павлов так и говорил – сложный безусловный рефлекс.
Оксана присела рядом. Спустив пуховый платок на плечи, стала перелистывать учебники.
– Ты, Аллочка, всерьез решила поступить в мединститут?
– Конечно.
В ясных голубых глазах Оксаны мелькнуло недоверие, и Алла, заметив это, проговорила с улыбкой:
– Я знаю, о чем ты думаешь. Залезла, дескать, тебе, милая, в голову блажь. Чтобы стать хорошим врачом, надо иметь призвание.
– Обязательно! – вырвалось у Оксаны.
– Согласна. Догадываюсь, почему ты относишься к моим стремлениям скептически. Я тебе как-то рассказывала, что сделалась медсестрой случайно. Вот ты и не веришь, что из меня получится врач.
Оксана, откинув отягощенную толстыми косами голову, испытующе смотрела на невестку из-под приспущенных темных ресниц, с дружеским участием думала: «Не хочет отставать от Ивана Остаповича. Молодец! Тот все время учится, растет. Станет Алка врачом, специалистом, тогда и жизнь у них будет интереснее».
– На фронте я поняла, что медицина – мое призвание, – сказала Алла. – И будь уверена, своего добьюсь.
– Если так, ни пуха тебе ни пера, как говорится.
Алла, лукаво взглянув на Оксану, сказала:
– Ты ведь тоже не хочешь быть только женой своего Петра? И с мыслью о медицинском образовании, насколько я знаю, не рассталась?
– Знаешь, как хочется учиться? Петро умница, он меня понимает. Летом поеду…
Со двора, внеся с собой шум и оживление, ворвались Василинка со Светланкой, и беседа молодых женщин оборвалась.
Алла, целуя тугие, пахнущие снегом щечки дочери и разматывая ее шарфик, спросила Василинку:
– Где же вы генерала потеряли?
– Они с батьком около клуни разговаривают.
Иван Остапович пришел несколько минут спустя и еще не успел раздеться, как Оксана, глядевшая в окно, сообщила: – К нам гости.
По крыльцу заскрипели шаги. Постучав, в комнату вошли Полина Волкова и Алексей Костюк в подпоясанном ремнем полушубке и меховой ушанке.
– Зашел попрощаться, – сказал Алексей. – Видно, уже не застану вас:
– Далекий путь? – спросил Иван Остапович.
– В Киев, на курсы.
– Надолго?
– На два месяца.
Волкова, воспользовавшись школьными каникулами, тоже ехала в Киев, и Оксана обрадованно сказала:
– У меня к вам большая просьба, Полиночка. Не сможете ли зайти в мединститут?
– Зайду, конечно.
Оксана поглядела на оживленное лицо молодой учительницы и, переведя взгляд на Алексея, внезапно подумала: «Какие они хорошие!»
Ей от души захотелось, чтобы и Полина и Алексей нашли свое счастье.
* * *
Месяц, прожитый Иваном Остаповичем в Чистой Кринице, промелькнул незаметно, и еще за несколько дней до его отъезда семья Рубанюков загрустила.
– Я на тебя, Ванюша, и не нагляделась. Внучку не покохала как следует, – сетовала мать, гладя голову девочки морщинистой рукой.
– Вам еще много внуков придется вынянчить, – успокаивал Иван Остапович.
– А когда определится Аллочка на ученье, кто ж за дытыной будет глядеть? – допытывалась мать. – Может, у нас она пока поживет?
– Нет, без дочки мне остаться невозможно, – запротестовал Иван Остапович. – В разлуке это только и будет отрадой.
– Алла в Киеве или в Москве останется, а Светланочка?
– Со мной… Мы с ней не пропадем!
Катерина Федосеевна вздохнула. Она очень привязалась к девочке, и Светланка платила ей тем же.
– Я вам обещаю обязательно приехать на следующий год, летом, – заверил Иван Остапович, видя, как добрые, грустные глаза матери наливаются слезами. – Приедем, Светочка?
Девочка устремила на него внимательный взгляд, тряхнула бантом:
– Приедем!
Она лишь недавно научилась внятно произносить букву «р» и, прыгая то на одной ноге, то на другой, припевала: «Пр-рие-дем! Пр-риедем!»
Последние дни перед отъездом Иван Остапович старался побольше быть с родными. Он два вечера просидел с Петром, изучая его карту садов. С отцом обсудил занимавший того вопрос о постройке плодово-переработочных пунктов. Пообещал раздобыть и прислать нужную литературу.
В один из ясных морозных дней, когда Василинка, собираясь в бригаду, одевалась, Иван Остапович спросил ее:
– В поле?
– Нет, тут недалечко. На леваду. Будем сено возить.
– И куда будете возить?
– В свою бригаду.
– Заезжай за мной.
Василинка, недоверчиво глядя на него, засмеялась: – У нас же, знаешь, какой шарабан? Чего это вдруг вздумалось?
– Прогуляюсь. Новый полевой стан погляжу. Заезжай на своем шарабане.
– Да ну тебя! – Василинка сердито всунула руки в рукава кожушка. – Повезу я тебя на быках, чтоб люди смеялись: «Гляньте, скажут, генерала Рубанюка на быках везут».
– Быки ведь не краденые.
– Да ну тебя! Отдыхай лучше.
– А ты слухайся, – вмешался отец. – Раз ему в охотку, не прекословь.
– Он же в репьях вывозится, в полове… Доброе дело! – Василинка негодующе всплескивала руками.
– Я батьков кожух надену. Хочется вилами поработать.
– Хоть бы конями, а то на лысых.
– Давай, давай! Жду, – сказал Иван Остапович, легонько выталкивая сестру из хаты.
Минут через сорок Василинка, все еще не уверенная в том, что над ней не подтрунивают, нерешительно остановила бычью упряжку около ворот.
Иван Остапович тотчас же появился на крыльце. В рыжевато-зеленом от давности отцовском тулупе, перепоясанном матерчатым поясом, в мохнатой шапке и валенках, выглядел он моложавым, ладным, плечистым.
С наслаждением плюхнувшись в сани, он весело приказал:
– Нажимай стартер!
Василинка, багровея от сдерживаемого смеха, стегнула кнутовищем по волам:
– Цоб-цобе! Цоб!..
Медленно покачиваясь, поскрипывая обмерзлыми полозьями, просторные сани поползли переулками к Днепру. Василинка успела позаботиться о брате, положив в сани охапку сенца, и лежать было удобно, мягко.
Залитая синью безоблачного дня, искрилась студеная ширь. Иван Остапович, жмурясь, смотрел на ровный частокол столбов электролинии, уходивший заснеженными садами и огородами к гидростанции, провожал взором уползающие назад дворы с высокими сугробами у плетней и заборов, кирпичные стены строящейся животноводческой фермы. Мрачные следы разрушения ощутимо стирались, и уже немало хат стояло под новыми крышами, а около хат красовались вновь насаженные деревца, аккуратные заборчики, ограды из бутового камня.
За селом, на спусках к Днепру, разминулись с четырьмя подводами, груженными круглым и пиленым лесом.
– Вторую ферму и новые амбары ставят, – сказала Василинка.
У развилки дорог она свернула от Днепра, усеянного детворой, к левадам. Полозья звонко завизжали железными подрезами по целинному атласному снегу. В спину дул пронизывающий ветерок, гнал, заметая заячьи и лисьи следы, поземку, звенел в унизанных стеклярусом кустах дикого терна.
Иван Остапович поднял ворот, спрятал руку за пазуху.
Василинка повернула к нему укутанное до бровей лицо, высвободила рот.
– Замерз? – спросила она.
– Морозец хваткий. Покалывает.
– А мне байдуже.
– У тебя кровь молодая.
– Ох, тоже мне старичок!
У скирд задержались недолго. Глухонемой Данило Черненко и еще один дед, в заячьей шапке, быстро навалили на сани гору пахнущего прелью сена. Иван Остапович взял вилы, кинул несколько больших ворохов.
Старик в заячьей шапке, учтиво покашливая, сказал:
– С недельку навильником пошвырять, Иван Остапович, добрый скирдоправ будете.
– А сейчас неважный?
– И сейчас ничего, – свеликодушничал дед.
Покурили… Когда отъехали и свернули на степную дорогу, Иван Остапович, сидевший рядом с Василинкой, сказал:
– Быки пусть плетутся, а ты мне про себя рассказывай. Мы с тобой по-настоящему и не поговорили.
– А что мне рассказывать? Вроде нечего.
– Какие у тебя жизненные планы? Когда на свадьбу приезжать?
Василинка задорно взглянула из-под платка карими глазами, усмехнулась.
– На тот год об эту пору.
– Учиться не собираешься? Ты ведь и десятилетку не закончила?
– Семь зим только и походила… потом война.
Лицо девушки потускнело. Помолчав, она сказала:
– Я добре в школе училась, отличницей. А когда в Германию угнали, мои занятия никому Не нужны были.
– Сейчас пригодятся.
– Мне надо на курсы какие-нибудь… агрономические…
– Пошлют. Колхозное правление ведь многих посылает.
– Батько советует на садовода учиться.
– Что ж, интересное дело. Батько – садовод, брат – садовод…
– Я и сама не против. Трошки колхоз поднимем, разбогатеет он, поеду…
Василинка заговорила вдруг горячо и страстно:
– Если б ты знал, как охотно работается! Люди один впереди другого стараются, потому что видят: колхозу лучше, и им легче становится, и все можно сделать… Не умею я понятно сказать… Посмотрели мы, как на чужбине. Там же какие-то жадные, абы себе побольше, в свою кладовочку. Такая нудная жизнь! Я, бывало, лежу ночью, думаю: «Как можно так?» И, знаешь, они со мной как с собакой – на дерюжке спать кладут, из паршивого казанка кормят, а мне их жалко. Они же не живут, а только едят да спят. Лежу, бывало, ночью, хозяева храпят, а я мечтаю себе. Вот прогонят наши фашистов с Украины, настроят всего еще лучше, чем до войны было: и хаты красивые и театры там, клубы, техникумы в селах, дороги, комбайнов чтоб много было, тракторов, скота разного, машин… Да богаче нас никто не будет! Нехай тогда с какого угодно государства приезжают поглядеть. И так хочется, чтоб скорей все это было! Никакой работы не боишься. Пусть она самая тяжелая.
Иван Остапович слушал сестру, не перебивая. В ее рассуждениях перед ним раскрывался такой удивительный душевный мир девушки, такое скромное и в то же время горделивое ощущение своего достоинства, что, поддаваясь внезапному порыву, он крепко обнял ее.
– Хорошая ты у нас, Василинка! Право, хорошая.
Василинка, не поняв, чем вызвана неожиданная похвала брата, посмотрела озадаченно.
– Все, о чем ты мечтаешь, сбудется, – убежденно сказал он. – Будут приезжать к нам учиться жить, другие народы будут признательны нам, что мы первые пошли по новому пути, ничего не побоялись.
У дымчато-сизого горизонта, еле различимого в волнистом разливе снегов, смутно замаячили строения.
– Вон то ваш полевой стан? – спросил Иван Остапович.
– То уже хутор Песчаный. Бригада наша за той вон лощинкой. Километра три до нее, не больше.
Быки все так же, размеренным шагом, помахивая хвостами, шли и шли по одинокому следу полозьев, мимо перешептывающихся кустов перекати-поля и придорожной полыни. От курчаво заиндевевших кострецов их шел пар.
– И все же ты не рассказала о своих сердечных делах, Василинка, – напомнил Иван Остапович, – я ведь не из любопытства. Есть, вероятно, дружок на примете?
– Никого нету.
– Ой ли? А я знаю, какой паренек по тебе вздыхает.
«Это ему кто-то успел про Павлушку Зозулю наболтать», – подумала Василинка. Смущенно потупясь, избегая глаз брата, она принялась поправлять веревку, которой было увязано сено. – Вон наш участок, – сказала она, ткнув кнутовищем куда-то вбок.
Земля, на которую она показала, была укрыта толстым покровом снега, и лишь кое-где на залысинах пробивались зеленые кустики озими. Насколько хватало глаз, стояли аккуратно расставленные щиты для снегозадержания, заготовлены кучи навоза.