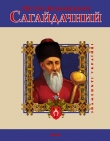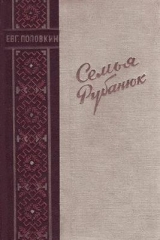
Текст книги "Семья Рубанюк"
Автор книги: Евгений Поповкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 59 страниц)
– Пропадут же подсолнухи, – учащенно дыша, говорила Варвара. – Все, что соберем, нашим пойдет…
– Ты погоди, – невольно заражаясь ее волнением, сказала Пелагея Исидоровна. – Может, они какие свои части перебрасывают?
– Тю! Наши в Бахмаче уже… Это я вам говорю точно. Да вы пойдите на улицу, поглядите… Сегодня, только я вышла за ворота, едут на бричке… Румыны… Один рукой, вот так, помахал мне, орет: «Нема хлеба, нема вина, до свидания, Украина». А рядом в бричке сидел, видать, ганс… Ну такой пьяный, языком не повернет… Свесился с брички, рукой землю гребет и тоже себе спевает… Подождите, как он?.. Ага!.. «Война прима, война гут, матка дома, пан капут…»
Пелагея Исидоровна, захватив с собой мешок и нож, замкнула хату и уже за воротами с опаской сказала:
– Ой, гляди, Варька, срежем подсолнухи, а у нас заберут.
– Э, нет! Попрячем так, что не найдут.
Обозы тянулись по шляху непрерывным потоком, изредка громыхали по обочинам танки. Шум, гам, скрежет колес, тягачей на большаке не умолкали ни на минуту.
Сердцу криничанских женщин эта картина поспешного бегства ненавистных захватчиков была столь радостной, что заниматься будничным делом им не хотелось. Шутка ли! Может быть, свои уже совсем недалеко!
В том, что гитлеровцы бегут, а не просто перебрасывают свои войска, никаких сомнений ни у кого уже не было. Не случайно за немецкими подводами с высокими колесами, за румынскими повозками с цыганскими будками кой-где уже ползли приземистые бычьи упряжки и одноконные брички, доверху нагруженные домашним скарбом и домочадцами удирающих старост и полицаев.
Криничанские ребятишки не оставляли без внимания ни одной такой подводы. Они увязывались за ней и, вплотную подбегая к понуро плетущемуся рядом с бричкой дядьке, выкрикивали:
…Полицаи, старосты,
Держить немцев за хвосты.
К вечеру поток подвод несколько уменьшился, и в это-то время Варвара и Пелагея Исидоровна, резавшие подсолнуха близ дороги, увидели шагавшую к селу женщину с небольшим узелком в руках.
– Молодицы! – крикнула женщина, подровнявшись с ними. – Мыла никому сварить не надо?
Таких мыловаров, портних, продавцов галантерейной мелочи и дешевых сладостей и вообще голодающих горожан, ищущих заработка и хлеба, бродило в те дни по селам немало.
– Нашла время, – сказала Пелагея Исидоровна Варваре, кивнув на женщину. – Придавят где-нибудь в степи… Вот же народ отчаянный…
– Мыла, мыла варить кому? – кричала женщина настойчиво.
– Не надо, гражданочка, – отмахнулась Варвара. – Не из чего мыло зараз варить.
Женщина, однако, продолжала стоять, потом подошла ближе, поманила Варвару рукой:
– На минутку, хозяюшка! Спрошу кой о чем.
Варвара опустила подоткнутый подол, помахивая серпом, направилась к ней.
Пелагея Исидоровна видела, как женщина о чем-то коротко переговорила с Варварой и та вдруг всплеснула руками.
– Тетка Палажка, – крикнула она, обернувшись. – Скорее идите сюда!
Голос у Варвары был такой взволнованный, что Пелагея Исидоровна, не мешкая, оставила все и побежала к женщинам.
– А ну, поглядите, кто это? – сказала Варвара, кивнув на собеседницу.
Пелагея Исидоровна вгляделась.
– Любовь Михайловна!
– Она самая, – улыбаясь, ответила жена секретаря райкома Бутенко. – Только вы, милые, потише… Давайте отойдем в сторону…
Настороженно поглядывая по сторонам, вошли в чащу подсолнухов.
– Истинный господь!.. Гляжу на вас, – возбужденно шептала Пелагея Исидоровна, – вроде и Гитлера никогда не было в селе… А где же товарищ Бутенко?.. Ну, с неба, прямо с неба…
– Не иначе, хлопцы в лес вернулись, – высказала предположение Варвара, машинально теребя вялую, наполовину исклеванную грачами корзинку подсолнухов. – Алешка Костюк, дядько Остап как? Живы?
– Давайте вот о чем договоримся, – перебила Любовь Михайловна. – Хорошо, что именно вы мне первые встретились… Вам я доверяю. Варю знаю давно, Пелагею Исидоровну еще раньше… Так вот прошу… никаких вопросов мне сейчас не задавайте… ничего сказать вам не могу… А вы быстренько расскажите о селе… Задерживаться нельзя мне…
Спустя полчаса попрощались. Предупредив, что никому о ее появлении в Чистой Кринице знать не следует, Любовь Михайловна подняла с земли свой узелок:
– Ну, скоро повидаемся… Да!.. Кое-что я вам оставлю. Она вынула из-под кофточки бумажку, протянула Варваре:
– Возьмите… Постарайтесь, чтобы люди прочитали.
– Не опасаетесь так вот ходить? – обеспокоенно спросила Пелагея Исидоровна. – Вас в лицо все знают, а тут полицаев – как собак.
– Ничего. Мне не в первый раз ходить в разведку, – успокоила Любовь Михайловна, улыбаясь. – У меня пропуск такой… Ни один полицай не придерется.
Беспечно размахивая узелком, она быстро пошла по дороге, и вскоре ее беленький платочек мелькнул и скрылся за порослью кукурузы.
– Как будто снится все, – сказала Варвара, зябко передернув плечами.
Она развернула бумажку и прочитала.
– Верно я угадала… Тут наши хлопцы… в лесу. Крупными типографскими буквами на отличной плотной бумаге было напечатано:
«Отступая, немецкая грабьармия забирает у населения хлеб скот и другое имущество. Беритесь, товарищи, за оружие! Бейте фашистов на каждом шагу! Не позволяйте им безнаказанно грабить народное добро. Победа близка. К оружию, товарищи!
Штаб партизанского отряда».
– Это мы в ход пустим! – пряча партизанское воззвание за пазуху, весело сказала Варвара. – Ну, давайте поспешать. Бабы вон по домам уже собираются…
В эту же ночь предупреждение партизанского штаба подтвердилось. Утром криничане узнали, что проезжающие через Чистую Криницу обозники какой-то саперной части, переночевав на краю села, обобрали хозяев подчистую, не погнушавшись даже старыми ряднами и ржавыми ведрами. У одинокой бабы Харитыны, жившей на отшибе, проезжие солдаты угнали телушку и перепортили весь огород, вырыв картофель и оборвав кабачки вместе с огудиной.
Пострадавшие пришли рано утром в «сельуправу» к Малынцу, пожаловаться.
– А я вам что? – злобно закричал староста. – Сторожем подрядился ваши бебехи охранять? Ну? Дурьи головы…
Покричав, попрыгав по «сельуправе», он вдруг спохватился, что грубить односельчанам сейчас не стоит, и резко изменил тон:
– Вот же какие бандиты! – затряс он кулаком по адресу мародеров, которых и след простыл. – Вы жалобу пишите… Вот бумажка… Я перешлю в район… Мы им, сукиным сынам, покажем, как честных хлеборобов обижать…
Махнув рукой на старосту и на его обещания «взгреть!», «из-под земли достать грабителей!», пострадавшие побрели по своим дворам.
– Не до нас ему, тварюге крикливой… Свою шкуру не знает как сберечь…
Не утаилось от криничан, что жена и сноха старосты спешно увязывали в тюки одежду, набивали добром сундуки в дорогу.
Грабежами на огородах и в криничанских коморах дело, однако, не ограничилось.
Ранним утром третьего сентября в село прикатили, в сопровождении группы солдат полевой жандармерии, Збандуто и помощник начальника районной полиции Супруненко. Следом за ними подошли грузовые автомашины.
О чем совещались со старостой в «сельуправе», никто не знал. Пробыли они с полчаса и поехали дальше, на Сапуновку.
В тот же день полицаи начали выгонять людей в степь.
– В три дня свезти все в скирды и обмолотить! – бушевал Малынец, поочередно вызывая к себе старших в «десятидворках».
– Так чем же молотить, пан староста? Цепами и за две недели не управишься, хоть на стенку себе лезьте.
– Свозите пока в скирды… Молотарка вот-вот на подходе… В Песчаном молотит.
– А куда же зерно пойдет? – простодушно заинтересовалась одна из женщин.
– Высыплем тебе за пазуху, – презрительно меряя ее взглядом, пояснил Малынец.
Снопы свозили со степи ручными тачками и военными грузовиками. Скирды росли, возле них уже расхаживали часовые, а молотилки все не было.
– Ей-богу, бабоньки, подпалю, если наши не подоспеют, – клялась Варвара, поглядывая на шлях, по которому все ползли и ползли в сторону Богодаровки обозы и тыловые части.
– Они тебе подпалят сразу, – сказала Христинья Лихолит, кивнув на часовых. – Глянь, глазами лупают…
– Нехай лупают, – храбрилась Варвара. Но она и сама видела, что хлеб охраняется очень старательно.
Все же Варвара внимательно приглядывалась к часовым, постоянно держала при себе коробок спичек, и, видимо, ей удалось бы осуществить задуманное, если бы в то утро, когда Супруненко привез на ток молотилку, ее не отозвала в сторону Христинья. Делая вид, что помогает Варваре завязать платок, она шепнула:
– Ночью наш Степан приходил… из леса… Сказал, боже вас упаси хлеб палить… Молотите, сказал, а там дело не ваше…
– Вовремя его ветром нанесло, Степана вашего, – многозначительно сказала Варвара. – Погрелся бы староста сегодня…
Молотилку пустили, но с ней что-то долго не ладилось: то зерно сыпалось в полову, то рвались ремни.
Супруненко, задержавшийся в селе, чтобы следить за молотьбой, сердито кричал На работающих, грозился пересажать всех в подвал за «саботаж». Потом, сказав Малынцу, что хочет перекусить, оставил его у молотилки и, позвав Варвару Горбань, пошел с ней в село.
Выпив у нее дома кружку молока с ломтем хлеба, он сказал:
– Так вот тебе боевое задание, Варвара Павловна. Организуй себе в помощь надежных женщин и проследи, чтобы никто из полицаев, а главное, Малынец, не удрал из села. Понятно?
– Понятно-то понятно, а чем его, катюгу паршивую, будешь держать, когда у него автомат? Коромыслом?
– Хоть коромыслом. Чем хотите! Ночью будут наши хлопцы. А пока глаз не спускайте! Коней попрячьте, самогоном напойте, что хотите придумайте. Зерно, какое успеют намолотить, никоим образом не уничтожайте.
– Я про это уже знаю.
– От кого?
– Были из леса.
– Ну, тем лучше… Учти, я на тебя надеюсь. Больше сейчас не на кого.
Супруненко оставил пачку листовок подпольного райкома партии, в которых говорилось о необходимости широкой помощи наступающим советским войскам и партизанам, и уехал в Богодаровку.
Варвара поспешила на ток.
К сумеркам несколько центнеров зерна намолотили, нагрузив две машины.
Малынец, не покидавший тока, заикнулся было о том, чтобы продолжать молотьбу и ночью, но женщины так загалдели, что староста поспешил исчезнуть.
Впрочем, ему, фашистскому холопу, было уже в выстой степени безразлично, больше или меньше зерна возьмут из Чистой Криницы его прогоревшие хозяева. Еще с вечера он засыпал полные кормушки овса коням «сельуправы», стоявшим у него в сарае, и предупредил жену:
– Только стемнеет, грузитесь… Да без шума… Федоска с Пашкой на его драндулет сядут. Глухой ночью успеем аж до Михайловки пробечь…
Он еще долго бродил по двору, впотьмах присыпал навозом свежую землю за сараем (несколько мешков с зерном, сахаром и зимней одеждой пришлось закопать), на часок хотел прилечь на груженой подводе, но там уже похрапывала, прижавшись к узлам, жена.
Лег на кухне, на голых досках, и только закрыл глаза, от калитки к крыльцу – шаги. Звякнула щеколда.
– Ты, Пашка? – сонно спросил Малынец.
Скрипнув кроватью, он неохотно поднялся, полез в карман за спичками. Кто-то стоял рядом, часто дышал над его головой, и он уже тревожно спросил:
– Да кто это? Стал и молчит…
– Свети, свети! – ответили из темноты. – Давно не видались, дядько Микифор. Интересно взглянуть.
Руки Малынца затряслись. Все же у него хватило духу, чиркая спичкой, сказать:
– Угадал. Алешка Костюков.
– Он и есть. А вы дуже ждали, что сразу опознали? Да светите лампу, что нам так в потемках здоровкаться.
На крыльце поскрипывали под чьими-то ногами доски, кто-то приглушенно кашлянул, и Малынец, с ужасом осознав смысл происходящего, с силой толкнул вдруг Алексея в грудь, рванулся к окну.
– Э, нет! – ухватив его за пиджак, затем за волосы, глухо произнес Алексей. – На этот раз не выпущу.
Малынец крутнулся, завыл от боли, потом сел на пол, тяжело дыша, суча ногами.
– Поймал сазана, заходите! – крикнул Алексей в сени, прижав на всякий случай старосту коленкой.
Жидкий свет лампочки, зажженной Алексеем, скользнул по лицам вошедших, по красным ленточкам на их фуражках.
Малынец бросился на колени, но тотчас же чьи-то сильные руки встряхнули его, поставили среди хаты.
– Люди добрые, – взвизгнул Малынец. – Не убивайте!
– Не будем, не будем, – пообещал смуглолицый партизан с пышными черными усами. – Селяне скажут, что с тобой сделать. Село будет судить.
Малынец обвел сумрачным взглядом лица партизан.
– Вы меня лучше сами допросите, – сказал он неожиданно. – Я все расскажу.
– Ну, знаешь… – уже сурово сказал черноусый. – Торговаться с тобой не будем.
– Веди показывай, пан староста, свою работенку, – скомандовал Алексей. – За два года много напаскудил.
Он почтительно взглянул на черноусого, спросил:
– Разрешите, товарищ Керимов? Мы уже теперь сами со своим землячком побеседуем.
– Действуйте!
Малынец, вяло переставляя ноги, холодея при мысли об ожидающей его участи, вышел из хаты, безучастно посмотрел, как выводят из сарая лошадей. Жене, кинувшейся с плачем к нему, деловито приказал:
– Вузлы снимайте… Не придется ехать…
Партизаны дружно засмеялись:
– Далеко собирались, господин староста?
– Ну, ступай давай! – коротко приказал Костюк Малынцу, легонько толкнув его к калитке.
Малынец направился было в сторону «сельуправы», но Алексей сказал:
– К Днепру веди… Там, где огородная бригада была. Не забыл?
Малынец покорно повиновался. Чиркая подошвами сапог по мягкой пыльной дороге, он прошел немного, сипло спросил:
– Расстреливать меня ведете, Леша?
– Куда-нибудь приведем.
Около поворота на площадь Алексей, разглядев группу людей, окликнул:
– Ты, Степан?
– Я.
– Есть?
– Сбежал, сукин сын…
– Ну, в другой раз попадется.
– Он, подлец, в сад сиганул, – сказал Степан, пристраиваясь. – Шустрая гадючка.
– Кто это? – спросил из темноты басовитый голос.
– Да Пашка Сычик.
Малынец вдруг остановился, с неожиданной для него решительностью сказал:
– Дальше я, хлопцы, не пойду! Как хотите… Тут решайте.
– Да чего ты слюни пускаешь? – разъярился Алексей. – Противно слушать!
– Не пойду! – упирался Малынец. – Вы со мной сделаете то, что гестапо с Мишкой Тягнибедой… Я не кидал его в криницу.
– А-а! Ты вот чего боишься… Нет, мы паскудить криницу гобой не будем…
До зорьки было еще далеко, но село не спало. Около хат и заборов переговаривались криничане. О появлении партизан знали уже все, и сейчас многие женщины пошли помогать группе Керимова. Надо было до света увезти в лес намолоченный хлеб и угнать оставшийся в селе скот.
Алексей Костюк безошибочно угадывал в темноте знакомых, приглашал:
– Айда на суд!
Пока дошли до колодца, толпа увеличилась. Обступив партизан и схваченного ими предателя плотной стеной, люди выжидающе молчали.
Алексей чуть повременил, обдумывая свою речь, затем шагнул вперед:
– Граждане и товарищи! Во-первых, низкий поклон вам от нашего партизанского отряда и от его руководителя товарища Бутенко… Сам он дуже занят сегодня и прибыть не смог, а поклон передавал большой… А теперь поглядите на этого вот кровопийцу, что мы предоставили, и порешите меж собой, как с ним быть. Отпустим его, нехай он и дальше помогает фашистам над нашими людьми знущаться, или… дадим катюге по заслугам?
– На шворку его! – крикнул кто-то из задних рядов.
– Повесить! – поддержали впереди. – Напился крови нашей!
– Вот этот – иуда из всех иуд, – ткнув рукой на Малынца, сказал дряхлый дед, опиравшийся на палку.
Алексей, вглядевшись, узнал колхозного мельника Довбню.
– Ну, дедушка, – подбодрил он, – смелее! Полную критику давай!
– Если вы, сынки, хотите с нами совет иметь, – сказал дед, снимая зачем-то шапку, – то я одно скажу… Испоганили вот такие проклятые ироды все село… Что ему, вот этому почтарю, плохого советская власть сделала? А он?.. Продал ее за свою поганую шкуру… Никого, супостат, не жалел, чтоб свою шкуру спасти… Таких людей загубили!.. Ганну – Остапа Григорьевича дочку, Тягнибеду Никифора… Мальца этого… Мишку…
Дед потряс палкой:
– Нету ему моего прощения!.. Наши орлы от Харькова на германца поднаперли, так этот иуда… – дед даже закашлялся от гнева, – …так этот иуда… Поглядите на него… Сгорбился, скрючился… Он как унюхал, что фашиста гонят, так лисой обернулся… Знает, что со всех боков обмарался… Мне, старой колоде, столько раз на день «здравствуйте!» стал говорить, что деду и здоровья такого не нужно.
– Ясно! – коротко подытожил Алексей. – А может, кто в защиту скажет? Нету таких?
Он резко повернулся к Малынцу, показал рукой на колодец:
– Сюда бросали?
– Не я бросал, – глухо буркнул Малынец.
– Так вот, бери веревку, полезешь… Своими руками тело нашего героя представишь нам… А потом сполна разочтемся.
Кто-то проворно передал Алексею колодезную веревку, тот – Малынцу.
– Бери, бери! Обвязывайся…
Малынец заколебался, но Степан Лихолит продел веревку ему подмышки, стянул на спине узлом.
Малынец, придерживаясь за сруб, тяжело занес ногу над колодцем, сел.
– Опущайте!
Толпа смотрела в глубоком молчании. Вскоре из черного отверстия донесся гулкий голос:
– Тяните!
Через несколько секунд показалась голова старосты, и Адексей вдруг крикнул:
– Эгей! Тпру! Он себя за шею привязал…
Малынца поспешно вытащили, положили на землю и ослабили веревку. Он открыл глаза, часто замигал.
– Ты, Микифор, и тут обжулить хотел, – упрекнул его дед Кабанец, подошедший позже и деятельно помогавший спускать бывшего почтаря в колодец. – Поперед батька не суйся… Вот же человек нечестный!
От Керимова прискакал верховой. Спешившись, шепнул что-то Костюку.
– Ну, граждане, – громко сказал тот. – Времени у нас мало и возжаться с этой псюрней некогда… Что заслужил, получить он должен! А Павка Сычик, полицай, нам еще попадется.
…Малынца повесили на той самой виселице, которую фашисты соорудили, когда казнили Ганну Лихолит и Тягнибеду.
С первыми лучами солнца партизаны ушли в Богодаровский лес на захваченных вместе с шоферами и зерном немецких грузовиках.
XI
Дня через четыре после налета партизан вернулась в Чистую Криницу Катерина Федосеевна.
Немало довелось хлебнуть ей горя вдали от родного дома, нелегкой была у нее и дорога.
Соседка, несшая мимо хаты Рубанюков ворох кукурузных; стеблей, увидев около калитки Катерину Федосеевну, уронила Свою ношу.
– Кума! – радостно крикнула она и, подбежав, еле удержалась, чтобы не всплеснуть руками, – такой изнуренной, измученной выглядела Катерина Федосеевна.
– Да вы не хворая часом? – спросила она с горестным участием. – Ой же, как они истерзали вас…
– Это еще добре, что хоть такой пришла. – устало сказала Катерина Федосеевна. – Оттуда, кума, где я была, немногие живыми возвращаются.
Голос ее дрожал, когда с тревогой она спросила:
– Сашко́… Живой он?
– Живой, живой ваш Сашко́! У тетки Палажки он.
– Ну, спасибо. Думала и не увижу его.
Соседка отнесла домой топливо и сейчас же вернулась, чтобы помочь Катерине Федосеевне.
– Мы вашу хату берегли, – сказала она, отдирая с мужской силой доски, прибитые на дверях и окнах. – Как этот Хайнц уехал, сюда больше никто не заходил…
Катерине Федосеевне не терпелось поскорее увидеть Сашка́. Она собиралась лишь мельком взглянуть на то, что творится в доме, и тотчас же пойти к Девятко, но соседка, увидав в конце улицы бегущего паренька, сказала:
– Вон бежит ваш…
Сашко́ невесть откуда узнал о возвращении матери и несся к дому с такой стремительностью, что Катерина Федосеевна не успела и шагу ступить навстречу, как мальчик уже ворвался во двор, с разбегу кинулся к ней. Он обхватил мать руками, прижался взлохмаченной головой к ее груди и, жалобно всхлипывая, долго не отпускал ее.
Катерина Федосеевна гладила его вихры и сквозь слезы, катившиеся по ее худым, выжженным солнцем щекам, видела, как в тумане, худые плечи сынишки, аккуратную заплатку на его чисто выстиранной рубашке.
– Смотрела добре за тобой тетка Палажка? – бормотала она первые приходящие на ум слова. – Никто не обижал?
– Я думал, вы не вернетесь, – продолжая всхлипывать и не отпуская мать, говорил Сашко́.– А тетка Палазя меня не обижала… Мы с ней на огороде тяпали, я сарай вычистил…
– А откуда ты узнал, что я пришла?
– Степка Макарчуков, когда вы с горы спускались, видел… Тетка Палазя сейчас тоже прибегут… Они хотят про дядьку Кузьму спросить.
Катерина Федосеевна легонько высвободилась из рук Сашка́, сказала соседке с помрачневшим лицом:
– Как же скажу я свахе?..
– Что такое?
– Нету в живых Степановича… Расстреляли его.
Соседка смотрела на нее расширенными глазами.
– Кузьму Степановича?
– Не одного его. Он с другими взрывать мост готовился… А гестапо дозналось, кто… Там же, около моста, привселюдно… всех…
– И Шуру вашу, Кабанец рассказывал…
– Шуру в Запорожье…
Катерина Федосеевна посмотрела на бледное лицо внимательно слушавшего ее Сашка́, на его увлажненные, испуганные глаза и отрывисто сказала:
– Ну, никого не вернешь… Что понапрасну сердце растравлять?
Она оглядела мусор, валяющийся в кухне, сенцах и светлице, машинально взялась за веник и сейчас же, услышав стук калитки на дворе, поставила его на место.
По звуку шагов нетрудно было понять, как торопится Пелагея Исидоровна.
– Дома хозяева? – с веселой ноткой в голосе спросила она, быстро всходя по ступенькам крылечка.
– Заходите, свахо, – нетвердо произнесла Катерина Федосеевна.
Что-то недоброе почувствовала в ее тоне пришедшая и упавшим голосом спросила:
– Вижу, о моем старом не ждать мне хороших вестей?
Катерина Федосеевна ответила не сразу, и Пелагея Исидоровна, вдруг обессилев, грузно опустилась на скамейку.
– Не хотела бы я вам, свахо, горести добавлять, – медленно, с трудом подбирая слова, произнесла Катерина Федосеевна. – Хватает ее у вас и без этого…
– Помер? – прошептала Пелагея Исидоровна, побелев.
– Расстреляли свата…
Пелагея Исидоровна неестественно протянула руку вперед, словно пытаясь за что-то ухватиться, беззвучно пошевелила почерневшими губами и начала вдруг медленно клониться. Катерина Федосеевна едва успела поддержать ее. Вместе с соседкой они бережно положили женщину на скамейку, обрызгали холодной водой.
…В эту ночь Катерине Федосеевне не довелось ни на минуту сомкнуть глаз, хотя она чувствовала себя совершенно разбитой и усталой.
Пелагея Исидоровна не кричала и не причитала, никто из криничанских женщин, забегавших до поздней ночи в хату Рубанюков, не увидел на ее бескровном лице слезинки, но она время от времени начинала бормотать что-то жалобное и бессмысленное, а когда умолкала, трудно было понять – сон это или обморочное состояние.
– Как бы умом не стронулась, – тревожно поглядывая на нее, сказала Варвара, пришедшая посидеть с Катериной Федосеевной. – Поплакала б, от грудей отлегло…
И, пытаясь подыскать объяснение тому, как могло горе в такой степени подкосить эту очень сильную, выносливую женщину, она с горячим состраданием добавила:
– Это на любую такое!.. Потерять мужа, без дочек остаться… Сердце не выдержит…
Но удар, самый тяжкий за всю ее жизнь, Пелагея Исидоровна перенесла мужественнее, чем можно было предполагать. Утром на следующий день она уже поднялась, истопила печь. Катерине Федосеевне сказала:
– Вы, сваха, идите поспите, а потом я приду подсоблю вам… У меня дома не много теперь забот…
За два дня они вдвоем с Катериной Федосеевной вымыли и побелили хату, навели порядок во дворе.
Недолго, однако, пришлось пожить Катерине Федосеевне в своей хате…
На рассвете третьего дня ее разбудил сильный стук в ворота. Катерина Федосеевна торопливо накинула юбку, покрылась платком и выскочила на крыльцо.
Длинноногий солдат в каске, с рыжим ранцем за спиной, размеренно колотил прикладом винтовки по воротам. Увидев хозяйку, он монотонно затвердил:
– Матка, вег, вег!.. Вещи, детишка… Вег, вег! Богодаровка…
Он продолжал стучать, хотя видел, что уже разбудил обитателей двора.
Такой же стук, окрики солдат слышались на соседней улице. Оккупанты выгоняли все население деревни на запад. К Чистой Кринице стремительно подкатывалась линия фронта.
Пока Катерина Федосеевна собрала кое-что из уцелевших домашних вещей, разыскала тачку и послала Сашка́ за Пелагеей Исидоровной, чтобы держаться друг дружки, совсем рассвело.
В сторону Богодаровки уже тянулись со скарбом на ручных тележках, с ребятишками криничанские люди. Было видно, как на противоположном конце села солдаты разбирали ветряки, переносили бревна, рыли землю…
Покидая подворье, Катерина Федосеевна увидела Павку Сычика. Он успел сменить форму полицая на пиджачок и старую кепочку, был без оружия. Навьючив на багажник велосипеда вещевой мешок с какой-то поклажей, он изо всех сил жал на педали.
– Аллюр – три креста! – крикнул он женщинам, повернув к ним багрово-красное, потное лицо. – Еще встренемся.
– Тьфу ты, арестантюга! – плюнула ему вслед Пелагея Исидоровна. – Нет доброй палки на тебя.
Сычик оглянулся и, ничего не ответив, наддал ходу.
Сашко́, напрягаясь изо всех сил, помогал толкать груженые тачки. На выходе из села, когда поднимались на взгорок, он остановился, шепотом сказал:
– Чуете, мамо?.. Вот послушайте…
Трудно было различить что-нибудь в шуме человеческих голосов, скрипе колес. Но многие криничане, взойдя на пригорок и став лицом к селу, напряженно вслушивались.
– А ну помолчите трошки! – разъяренно крикнул женщинам какой-то дед, напяливший, несмотря на теплынь, старый кожух. – Дайте послухать!..
Издалека доносился невнятный, еле-еле различимый гул…
– Ей-богу, наши! – крикнула захлебывающимся голосом молодица, державшая за руку мальчонку. – Ванько, папка твой идет!..
XII
Полк Стрельникова, в котором Петро Рубанюк командовал ротой, после освобождения Краснодара весну и лето 1943 года дрался в низовьях Кубани.
Гитлеровцы, захватив в сентябре 1942 года Таманский полуостров, сильно укрепили его. В марте 1943 года в Крым приезжал Гитлер. Он приказал удерживать Таманский полуостров любой ценой.
В период с 10 по 16 сентября 1943 года наши войска прорвали «голубую линию», нарушив систему обороны противника на Тамани. Это создало благоприятные условия для ликвидации последнего очага сопротивления оккупантов в низовьях Кубани и уничтожения их крупной таманской группировки.
Сейчас бои велись за город Темрюк. Комбат Тимковский поставил перед ротой Петра Рубанюка задачу: атаковать с фланга высоту. Со скатов этой высоты гитлеровцы простреливали пулеметным огнем подходы к городу.
Атаку батальона предполагалось провести на рассвете.
Поздно вечером Петро собрал командиров взводов. Явился и Арсен Сандунян, недавно назначенный командиром пулеметного взвода. Пришли и командир батареи 76-миллиметровых орудий, и командир самоходчиков, поддерживающих роту Петра.
Сидели в полуразрушенной хибарке из самана, не зажигая света; в темноте светлячками вспыхивали огоньки папирос.
Ожидали разведчиков. Они еще с наступлением сумерек ушли камышами к высоте; данные о противнике и местности, которых Петро ждал от них, должны были помочь ему успешно решить задачу, поставленную перед ротой.
К высоте пошли Евстигнеев, два ручных пулеметчика, несколько автоматчиков, саперы. Группу возглавлял Вяткин, и Петро мог быть вполне спокоен за исход разведки. Вяткин еще ни разу не возвращался с пустыми руками или с неточными сведениями.
Однако смутная, безотчетная тревога не покидала Петра с той минуты, как он проводил разведчиков до камышей.
Это состояние Петра было тем заметнее для окружающих, что среди бойцов и офицеров царило радостно-возбужденное настроение, обычно сопутствующее большому успеху: гитлеровцы доживали на Тамани последние часы, сопротивление их было почти сломлено; и сейчас задача состояла в том, чтобы не дать им удрать через Керченский пролив в Крым.
– Что это ты, Петро Остапович, хмурый такой? – тихо спросил его Арсен Сандунян, сидевший у стенки, рядом с Петром.
– Так… – отрывисто бросил Петро. – Думаю…
– А-а… Ну, думай, думай…
В хибарке перебрасывались шутками, рассказывали забавные, с перцем, истории.
– Со мной такой факт был, – говорил командир самоходных пушек Красов. – Не анекдот, а сущая истина… – Он выждал, пока умолкли в углу, потом добродушным баском продолжал: – Я до войны бригадиром тракторной бригады работал… Да-а… А в бригаде и мужики и дивчата… Одна была, Дерюжкина ей фамилия… Мотя. Красивая, из казачек, на все село… У меня с ней никаких таких грешков, конечно, не было…
– А может, было? – поддел кто-то.
– Не перебивай… Жена у меня, законная, та тоже из казачек… Дерюжкиной не уступит… Да… Ну, разбирала как-то эта Мотя свой трактор. Сняла картер, проверила… Прямо на степи… Залезла под трактор, возилась, возилась, потом кличет: «Дядя Гриша, подержите мне болты. Несподручно»… Да-а… Залез я тоже, лег. Подаю ей болты, она прикручивает, дело идет… А бабенка какая-то, дери ее за ногу, моей жене и скажи: видели, мол, Григорий ваш с Мотькой под трактором вылеживаются… Я и забыл про это, когда прибегает моя законная, в бригаду… Спрашивает: «Ты с Мотькой лежал под трактором?» Ну, а я сроду не брехал… Говорю: «Лежал». Она мне никаких вопросов больше не дает – и бац по мордам… «Будешь еще лежать»…
Слушатели захохотали.
Петро посмотрел на часы. Стрелки показывали уже двенадцатый час.
Петро встал и вышел на воздух. Половину неба укрыла темная туча. Ветер дул с моря, пронизывающий и холодный. Где-то, в плавнях, били пулеметы, хлопали одиночные выстрелы. Гудели самолеты. Отсветы бомбовых разрывов окрашивали рдяным светом небо над Крымом.
Мимо, легонько позвякивая сбруей, двигались к городу конные, упряжки: артиллеристы перевязали тряпками вальки передков, чтобы не стучали и не скрипели. Пушки, мягко шелестя колесами, одна за другой уползали в темноту.
Потом прошла конница. Петро различил на фоне иссиня-черного неба кубанки, куцые стволы карабинов. Донесся острый запах конского пота, приглушенный говорок, звяканье уздечек.
Постояв немного, Петро вернулся в хибарку.
– Подождем еще, товарищи, – сказал он, опускаясь на корточки у проема двери.
– …В Гребенке, там иначе было, – рассказывал сипловатый голос. – Это еще по началу войны… «Граждане! – кричит репродуктор. – Граждане, в воздухе вражеская авиация… Не вдавайтесь в панику»… А самолеты давно уже отбомбились и ушли…
Петро слушал рассеянно. По опыту он знал, что перед большим боем избегали говорить о предстоящем деле и разговор нужен был только для того, чтобы скоротать время.
Кто-то, заслонив дверь, простуженным голосом попросил:
– Огоньку дайте, братки.
Петро чиркнул зажигалкой, протянул вошедшему. Огонек выхватил из темноты скуластое энергичное лицо, знак морской пехоты на ушанке.
– Ну, с нами полундра, дело будет! – сказали в углу.
– В Темрюке встретимся, – ответил моряк, поблагодарив за огонек.
Петро вышел за ним. Моряк, прикрывая ладонью цыгарку и исподтишка потягивая ее, пошел к темнеющей на дороге колонне. Около хибарки стояла, негромко переговариваясь, группка моряков, обвешанных гранатами и пулеметными лентами. Это были десантники с бронекатеров.