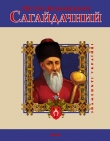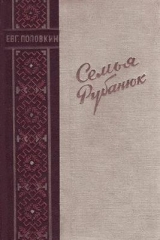
Текст книги "Семья Рубанюк"
Автор книги: Евгений Поповкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 59 страниц)
– Готова заметочка?
– Никакой заметочки не будет.
Малынец удивленно выпучил глаза:
– Это и весь ответ?
– Да.
– Зря, зря, мадам Рубанюк. Вам добра желают…
– Знаете, – вскипев, прервала Александра Семеновна, – оставьте при себе все это добро.
Малынец с огорчением вздохнул и, ничего не ответив, зашагал в сторону «сельуправы».
Через час за Александрой Семеновной явился в лазарет Сычик.
Опершись локтем на руль велосипеда и попыхивая дымком сигареты, он поджидал, пока Александра Семеновна снимала с себя халат.
– В проходочку, до Богодаровки с вами пойдем, – осклабясь, сообщил он. – Там что-то дуже соскучились…
VI
– Что ж, видно, я уж не вернусь? – сказала полицаю Александра Семеновна. – Надо кое-какие вещички взять с собой.
Она сказала это спокойно и вообще держалась внешне твердо, хотя сердце ее сжималось от недоброго предчувствия.
– Нету времени по хатам расхаживать, – сварливо ответил Сычик. – Мне управиться засветло надо.
Полицай и сам не знал, отпустят ли жену подполковника Рубанюка из Богодаровки: пакет, который староста приказал ему доставить в районное управление полиции, был скреплен большими сургучными печатями.
Александра Семеновна вспомнила вдруг, что свекровь ничего не знает об оружии, спрятанном под сундуком, и разволновалась.
– Пять минут займет, не больше, – упрашивала она. – Узелок возьму, и пойдем.
Нет, Сычик был не из тех, кого можно разжалобить. Он спешил. Время подходило к полудню, а поздно возвращаться в одиночестве мимо Богодаровского леса он побаивался.
Вначале полицай ехал на велосипеде, то обгоняя женщину, то следуя потихоньку сзади, но в километре от села наскочил на гвоздь. Обливаясь потом и чертыхаясь, он повел велосипед по обочине дороги.
– А ну, погоди-ка! – окликнул он Александру Семеновну, ушедшую вперед. – Не торопись, поспеешь…
Полицай положил велосипед на траву и стал чинить камеру. Александра Семеновна села на бугорок, лицом к Чистой Кринице, и, с облегчением вытянув ноги в стареньких, истоптанных тапочках, засмотрелась на открывшийся перед нею вид.
В прозрачной кисейной дымке тонули, как в необозримом разливе вешних вод, темные ели у реки, цветущие акации меж кровлями домов, изогнутый подковой желтый песчаный берег синего Днепра. Умиротворяющей тишиной веяло от всего окружающего.
«А ведь может случиться, что я уже никогда не увижу всего этого», – подумала она, жадно глядя вверх, в глубокую синеву неба, но тут же мысль эта показалась ей нелепой.
Ведь вся ее «вина» заключалась в том, что она не захотела поступиться своим человеческим достоинством. «А работа в лазарете?» – с тревогой задала она себе вопрос. Разве это не было первой уступкой фон Хайнсу и, следовательно, ее позором? Как бы поразился Иван, узнав, что жена его – санитарка во вражеском лазарете! И едва ли он смог бы понять, что она не имела возможности поступить иначе, что ее ждала расправа, подвал гестапо, пытки…
Александра Семеновна показалась себе вдруг ничтожной и бесхарактерной.
Она стала перебирать в памяти все, что было связано у нее с Иваном. Первое знакомство на шефском выпускном вечере в военном училище… Их места на самодеятельном концерте оказались рядом. Ей понравились в молодом командире смелость и меткость суждений. Он был любознателен, жизнерадостен, остроумен, отлично танцевал и сразу же овладел сердцем юной студентки. Спустя год они поженились, и чем ближе она узнавала его, тем все больше покоряли ее цельность натуры Ивана, внутренняя собранность его, неиссякаемая энергия, большая воля – ей самой так не доставало этого! Из-за рождения ребенка она не смогла стать аспирантом, а потом остаться на фронте, когда разразилась эта проклятая война.
Теперь… Если посчастливится им встретиться когда-либо, что она скажет ему? Что не уберегла Витюшку? Что испугалась тюрьмы и согласилась ухаживать за солдатами, которые стреляли в мужа и в его товарищей?..
Мысли эти заставили Александру Семеновну жестоко страдать. Она так была погружена в них, что не заметила, как подошел полицай и окликнул ее.
Александра Семеновна поднялась и пошла за ним.
В Богодаровке Сычик свернул к зданию райпотребсоюза, где теперь помещалась полиция. Александра Семеновна, увидев широкие двери подвала, в котором умер ее сынишка, на мгновение задержалась.
Заместитель начальника полиции Супруненко с угрюмым лицом стоял спиной к окну, широко расставив ноги в ярко начищенных сапогах. За столом сидел упитанный немец с прозрачными, изжелта-красными веками и маленькими осоловелыми глазками; он, видимо, успел плотно пообедать. Тут же находился переводчик, молодой краснощекий паренек.
Покосившись на немца, переводчик ободряюще улыбнулся подходившей к столу женщине и деловито стал чинить карандаш.
Супруненко стукнул кулаком по столу, на котором лежала бумажка, принесенная Сычиком, и яростно, но, как показалось Александре Семеновне, не совсем натурально крикнул:
– Что это такое?! А? Против властей агитировать? Кожу сдеру!.. Сгною!..
Чем больше он ругался, тем хладнокровнее глядела на него Александра Семеновна. Кричал он долго, потрясая бумажкой перед бледным лицом женщины, и немцу, видимо, это надоело. Лениво поковыряв мизинцем в ухе, он спросил у переводчика:
– Жена подполковника?
– Да, но работает в лазарете для солдат, – ответил тот.
Немец широко, во весь рот зевнул, ничего больше не сказал, надел фуражку с высокой тульей и пошел к двери. Переводчик последовал за ним.
Супруненко сел за стол, в продавленное кресло.
– Они на вас разозлились только за это? – спросил он, ткнув пальцем в бумажку. – Не бойтесь, говорите правду, – добавил он тихо. – Нас никто не слышит.
У Александры Семеновны мелькнуло подозрение, что ее хотят спровоцировать. Она пристально глядела в лицо Супруненко, и ей не верилось, что это он минуту назад мог кричать на нее так свирепо. Перед ней сидел совершенно иной человек, усталый, по как-то сразу преобразившийся.
– Вам ведь сообщили, – сказала она осторожно. – Я отказалась писать обращение в газету о помощи раненым.
– Ну, это не так страшно. А все-таки двое суток придется у нас отсидеть. Для отвода глаз. Я посажу вас где почище…
Он поднялся, подошел к двери и вызвал полицейского.
– В третью! – коротко приказал он и, не глядя на женщину, сварливо пригрозил: – Я отобью охоту агитацию разводить!..
Сидя в одиночной, сравнительно опрятной камере, Александра Семеновна размышляла о поведении Супруненко, и уверенность, что он вовсе не тот, за кого выдавал себя и за кого его принимали гитлеровцы, радовала ее.
…В Чистую Криницу она вернулась на третий день. Катерина Федосеевна с плачем бросилась навстречу невестке.
– Попрощалась я уже было с тобой, Шурочка, – всхлипывая и обнимая ее, шептала она. – Как сказали, что повел тебя Пашка в район, сомлела. Не знаю, как в себя пришла…
– Обошлось на этот раз, мама… Успокойтесь. Пошатываясь, Александра Семеновна добрела до скамейки.
– Устала я сильно… Сашко́ где?
– Пошел до тетки Христа ночевать. Она попросила. Там квартиранты ее бесчинствуют, боится…
Катерина Федосеевна завесила дерюжкой окошко. Зажигая свет, дрожащим от волнения голосом произнесла:
– У нас, Шура, новость.
– Что такое?
– От Василинки письмо пришло.
– Нет, в самом деле? Откуда? Да давайте его сюда!..
Забыв об усталости, Александра Семеновна проворно пересела поближе к свету.
Катерина Федосеевна подошла к шкафчику, чтобы достать письмо, и вдруг Александра Семеновна услышала ее приглушенный плач.
– Да чего же вы печалитесь, мама? – удивленно спросила она. – Дочь нашлась, а вы горюете.
– Ой, Шура! Прочитаешь, как им там живется, не будешь спрашивать.
Разглядывая объемистый конверт, Александра Семеновна ни увидела ни марки, ни почтовых штемпелей.
– Это не почтой. Кто-то передал?
– Парубок один тайком принес… из Песчаного… Ты читай, я еще раз послушаю.
Катерина Федосеевна села рядом.
Василинка писала:
«Дорогая моя мамуся!
Пишу вам из далекой Германии. Письмо вам передаст мальчик из хутора Песчаного Федя Самойленко.
Работаю я у бауэра, по-нашему – кулака, около города Мюнхена. Вы себе не представляете, что делалось, когда нас привезли сюда; перебирали нас, украинок и русских, как на базаре, хозяин давал за меня двадцать марок. Это такой был трудный момент, что не могу передать.
Работать приходится так, что скоро и кожа погниет. Работаю я одна, больше никого из наших у бауэра нет. Вы в своей семье, а я сама, как рыбочка в кринице. Хозяин и его жена за человека меня не считают. Они сядут есть и разговаривают между собой, а я сама себе сижу, молчу, и, как вспомню про батька, про вас, мамочка, горько заплачу.
Дадут мне брюкву, я ем и вспоминаю: вареники, хлеб свежий, борщ, пироги с ягодами, сыром, капустой, кабаком. Хочется всего! Вспоминаю: сколько хлеба брали мы в поле, а сейчас маленький кусочек на четыре дня. Вспоминаешь, как вы меня заставляли кушать, если я откуда-нибудь поздно приду, а теперь бы я ела и сонная, если бы что-нибудь было.
Я уже не дождусь того, чтобы прийти с работы и сказать: „Мамо, я хочу есть“, а вы бы ответили: „Бери там хлеб, молоко или сало“.
Ой, матуся, я не могу вас забыть! Вы все время у меня перед глазами. Все говорю во сне „мамо“ или прошу: „Мамо, укройте“. Проснусь – нету.
Когда я дома лежала больной, то вы не знали, с какой стороны и подойти ко мне, а теперь лежу больная, сложу накрест руки…»
– Доню моя родненькая, – сдавленным голосом произнесла Катерина Федосеевна. – Ласточка моя…
«…сложу накрест руки, некому даже рассказать о такой тяжкой доле.
Никуда я не хожу, потому что я босая и ободранная. Куда же идти? Как раз юные годы, ходить бы гулять, а я сижу и проклинаю свою жизнь. Если бы вы увидели, какая у меня кофточка залатанная, латка на латке, уже негде заплаток цеплять.
Настунька работает тоже у хозяина, только к ней идти далеко, и мы виделись всего два раза.
Как я мечтаю встретиться с вами! Когда настанет этот счастливый день?
Ой, если б были крылья,
Я бы к вам в оконце влетела…
Моя дорогая матуся, сфотографируйтесь с теткой Палажкой и пришлите мне и Настуньке.
Когда я писала это письмо, то не плакала, потому что нельзя, а как выйду за ворота, то и дорожки не вижу из-за слез…»
В заключение письма Василинка передавала сердечные приветы родным и знакомым. Она тщательно перечислила всех поименно, список получился очень длинный; девочка не забыла спросить даже о кошке, и по вопросу этому Александра Семеновна особенно остро почувствовала, как сильно страдает и тоскует Василинка на чужбине.
У нее навернулись на глаза слезы. Крепясь, она сказала Катерине Федосеевне:
– Девушке, конечно, не сладко в неволе. Но знаем хоть, что жива… И то на душе легче…
Катерина Федосеевна сидела, крепко сжав губы, и лишь глубокие бороздки на лбу, под низко повязанным платком, выдавали ее скорбь.
Позже, когда женщины, загасив свет, улеглись, она вспомнила:
– Я этим письмом так расстроилась, что и не спросила… Как это тебя из Богодаровки отпустили?
– А в чем же я провинилась?
– Малынец нахвалился, что тебя туда, к Макаровым телятам, угонят. Они вчера по дворам ходили, на раненых собирали.
– Ну и как?
– А никак. Все одно говорят – давать нечего, сами голодаем… А по правде, не хотят. Чего это ради? Ну, скажи, за ради чего грабителей своих кормить, одевать? Люди не против нации… Немцы, нехай они себе немцы… Так они же сколько горя с собой принесли! Сколько слез из-за проклятых пролито! А мы им – хлеба, яичек? Нет, никто ничего не дал… Микифор, староста этот задрипанный, взъярился, сам бегал, верещал что-то, ну с тем же приветом и к нему…
Александра Семеновна вспомнила вдруг об автомате, спрятанном ею под сундуком. Долго колебалась: умолчать или сказать? Решила, что не следует волновать и без того измученную свекровь.
Ночью она достала сверток, тихонько вынесла во двор и, в темноте открыв за коморкой ямку, положила оружие и присыпала землей, решив при удобном случае перепрятать автомат в более надежное место.
Днем она сказала Сашку:
– Твою игрушку, которую ты за соломой нашел, я выбросила. И больше никогда таких вещей в дом не таскай. А об той молчи, кто бы тебя не выпытывал. Обещаешь?
– Ла-а-адно.
– Твердо пообещай.
– Сказал же!
Александра Семеновна успокоилась. Она знала, что слово свое Сашко́ умел держать крепко.
VII
В конце мая в настроении оккупантов произошли заметные перемены. На заборах и на стенах домов Чистой Криницы все чаще расклеивались фашистские газетки и плакаты со сводками главной квартиры фюрера. В них трескуче сообщалось об успешном наступлении в Крыму и на изюм-барвенковском участке.
Двадцать третьего мая аршинными буквами было возвещено о взятии Керчи.
Криничане не знали, верить или не верить этим сводкам, освещающим, как обычно, положение на фронтах в хвастливом и крикливом тоне. Ведь гитлеровцы не раз уже заявляли о взятии их доблестными гренадерами Москвы и Ленинграда, а потом всю зиму брехали что-то «об отходе на зимние квартиры».
Но Малынец повел себя так независимо и вызывающе, а у солдат и офицеров из гарнизона было такое отличное самочувствие, что даже те селяне, которые наиболее недоверчиво относились к фашистской пропаганде, помрачнели: видно, и впрямь фашисты набрались за зиму сил.
Еще большее уныние овладело селом, когда, словно в подтверждение слухов об успехах гитлеровцев под Харьковом, в последних числах мая по большаку прогнали длинную колонну пленных.
Варвара Горбань, которая собирала топливо за селом, прибежала к Катерине Федосеевне. От быстрого бега платок сполз у нее с головы. Не поправляя его и поминутно оглядываясь на окна, она торопливо рассказывала:
– Вроде ваш зять, Ганнин муж, шел, тетка Катря… Да разве признаешь?! Много их, сердешных… В пылюке, черные… Я глядела: может, Андрей мой там…
– Куда же их вели?
– До разъезда погнали… Тетка Катря! Вы б видели! Раненые меж ними… Кто идти не может, им – плетюги… – Не дай, не приведи, как знущаются.
Дня через два в селе стало известно, что возле железнодорожного разъезда устроен концентрационный лагерь для военнопленных. Огромную площадь обнесли несколькими рядами колючей проволоки, пленных держали под открытым небом.
Криничанские женщины, собрав тайком хлеба, сухарей, яиц, устремились туда. Но их и близко не подпустили к пленным. А после того как двух женщин часовые избили резиновыми палками, ходить к разъезду вообще стали бояться.
Безотрадные, мрачные дни переживало село…
Особенно тяжко воспринимали события в маленькой семье Рубанюков. Александра Семеновна, наслушавшись в лазарета хвастливых сводок о победах над русскими и о скором окончании войны, приходила домой удрученная и осунувшаяся. До глубокой ночи они шептались с Катериной Федосеевной; их одинаково волновала судьба близких: Остапа Григорьевича, Ивана, Петра с Оксаной, Василинки.
Катерина Федосеевна как-то с тоской сказала Кузьме Степановичу Девятко:
– Видать, сват, никогда уже не повидаем наших. Ну, зачем она, такая жизнь? Лучше лечь и помереть.
– Помереть, свахо, всегда поспеем, – сердито сказал Кузьма Степанович. – Лег под образа, как деды говорили, да выпучил глаза. Небольшое дело! Тут думка, как прожить да чертяк этих пережить… А своих… будем живы – повидаем. Вернутся свои, Федосеевна…
Говорил он будто уверенно, а сумрачное выражение выцветших глаз, устремленных куда-то в угол, скрыть не мог. И голос его задребезжал совсем по-старчески, когда, помолчав, он сокрушенно добавил:
– Вот вспоминаю товарища Жаворонкова, командира того, которого расстреляли… что переводчика лопатой огрел…. Помню, как он радовался, что англичане с нашим правительством договор заключили. Что-то не видно, чтоб англичане и американцы поспешали нам помогать… Верно я тогда еще говорил: не за нас, а за себя у капиталистов голова болит.
Катерина Федосеевна смотрела на него с состраданием, думала про себя: «Постарел человек, дуже постарел. И глаза как у хворого…»
Кузьма Степанович и впрямь очень сдал. Пелагея Исидоровна, сумевшая и в самые тяжкие дни оккупации сохранить твердость духа, мужественно переносившая разлуку с дочерьми – Оксаной и Настунькой, глядела на него с тревогой.
– Тебя не ноги мучают, старый? – спрашивала она, когда Кузьма Степанович, придя домой из правления, садился с болезненно-желтым лицом на скамейку и безучастно смотрел, как жена собирала на стол. – Пошел бы до лазарета. Нехай что-нибудь тебе дадут от ревматизму.
– Это кто даст? Фашисты?
– А тебе не все равно? Что ж, так и будешь мучиться?
Кузьма Степанович только отмахивался; ни к чему, дескать, эти разговоры.
В конце концов Пелагея Исидоровна поняла, что не болезнь мучит ее старика. С фронта приходили все более мрачные вести, и это подтачивало силы Кузьмы Степановича. Пал Севастополь. Фашистские орды рвались к Дону, подступали к Ворошиловграду, к Ростову.
По распоряжению из района, «сельуправа» готовилась отметить в селе победы германского оружия большим праздником. Он был намечен на последнее воскресенье июля, когда с грехом пополам уже скосили озимую рожь и ячмень и сложили чахлые снопы в крестцы.
За два дня до праздника, в пятницу перед вечером, Кузьма Степанович, встретив Александру Семеновну на улице, около нывшего сельмага, спросил:
– Как там радио? В исправности?
– Садятся аккумуляторы. Но принимать пока можно.
– Надо. И побольше листков переписать. Дуже прошу… Наших не скоро можно ждать. Так обернулось… Но дела у мазуриков этих не такие уж нарядные. Хотя кричат дуже. Послушаешь, Москва – у них, Сталинград – у них, Ленинград – последние минуты…
– Очень сильные они?
– Сильный тот, кто на землю валит, а пуще сильней, кто поднимается. Об этом и разговор у нас. Вот они праздник, шарлатаны, удумали сделать. Людям головы хотят забить… Надо правду сказать… Возле Сталинграда, по всему видать, дуже великое кровопролитие, а взять они его никак не могут…
– Я все сделаю, Кузьма Степанович.
* * *
Еще за несколько дней до воскресенья полицаи и староста начали хлопотливо готовить помещение «сельуправы» к празднику. Малынец ждал начальство из района, да и в селе набиралось немало немцев, которых надо было пригласить.
Дома жена Малынца выгнала из кукурузы и бурака несколько четвертей самогона, выпотрошила со снохой полдесятка кур, пекла пироги с рыбой и с телячьей печенкой.
Но то готовилось для самых избранных гостей, а в «сельуправе», где должен был начаться праздник и куда собирались позвать всех желающих, подготовка шла своим чередом. Солдаты по приказанию фон Хайнса подвезли сюда полную машину сосновых веток. Сычик, получивший недавно звание старшего полицая и весьма возгордившийся этим, из кожи лез, чтобы отличиться. Он совсем загонял полицаев и добровольных помощников из мальчишек, заставляя их навешивать гирлянды хвои на крыше и на стенах, скрести и мыть полы, наличники окон и дверей.
– Поднавернем такого, – фамильярно подмигивая старосте, разглагольствовал Сычик, – ух, ты! В Берлине такого не видели.
– Ты давай, давай. Старайся, – одобрительно бормотал Малынец.
Он самолично прибил над столом портрет в рамке с надписью «Гитлер-освободитель», разложил газетки «Голос Богодаровщины», «Украинский доброволец», «Нова доба», «На казачьем посту».
Накануне, в субботу, фон Хайнс пришел посмотреть «сельуправу». Бесстрастно оглядел марлевые занавесочки на окнах, цветочки, сказал: «Гут!» – повернулся и ушел.
Однако спал в эту ночь Малынец неспокойно. Можно было ждать подвоха от односельчан. Хоть и бегали полицаи по дворам, строго-настрого приказывая никак не позже девяти утра явиться всем к «сельуправе», а все же черт их знает!..
– Придут! – заверил Сычик. – Не заявятся добром, на веревочке приволокем.
– Э-э, дурень! – фыркал Малынец. – «На вере-е-воч-ке…» Ты еще скажи «на цепке». Это ж, голова твоя, праздник… Разъяснить требуется. «На вере-е-вочке»…
– Разъясняли, – глядя куда-то вбок мутными глазами, уверял Сычик.
Докладывая, он уже не особенно твердо держался на ногах, и Малынец, зная, что поручать ему что-либо в таком состоянии рискованно, решил назавтра сделать все самолично.
Потому-то и встал он чуть свет и, надев новый пиджак, начистив сапоги едко смердящей ваксой, немедля пошел в село.
Шагал, подозрительно заглядывая через плетни и заборы. Увидев хозяина или хозяйку, тоненьким своим голоском визгливо напоминал:
– Не копайтесь! Все на свято! В обязательном порядке…
На просторной площадке усадьбы МТС немецкие солдаты, громко перекликаясь, мыли машины, посыпали двор желтым приднепровским песком.
Малынец постоял, посмотрел. Солдаты, резвясь, пихали друг друга в кучу песка, весело гоготали. Настроение у них было, видимо, превосходное.
Малынец шагал дальше, мимо дворов, и постепенно мрачнел: ему начало казаться, что криничане готовят какой-то подвох. На его напоминания о празднике люди молча улыбались и невозмутимо продолжали заниматься своим делом.
«Ну погодите! – грозился он мысленно. – Я еще покажу, кто такой есть Микифор!»
Взгляд его скользнул по белой стене общественного амбара. Накануне он велел тщательно выбелить его известкой и уже представлял себе, как хвастнет перед начальством: «Под зерно нашим дорогим освободителям…»
Но что это? Малынец схватился обеими руками за голову. Во всю ширину побеленной стены кто-то крупно вывел дегтем:
Не видать вам, каты, Сталинграда,
Как Москвы и Ленинграда.
Малынец в смятении заворочал головой по сторонам. Вдоль плетней, поджав хвост, бежала по каким-то своим делам шелудивая собачонка, поодаль рылись в конском помете две черно-сизые вороны.
С вороватым видом староста поднял щепочку, торопливо стал соскребать надпись. На праздничный костюм его, на сапоги, на картуз сыпалась известковая пыль, но все усилия были тщетны. Жирный деготь прочно въелся в глину и не поддавался.
Малынец отшвырнул щепочку, отряхивая на ходу пыль, ринулся к «сельуправе».
Через несколько минут он бежал назад. Следом за ним спешили со скребками и щетками полицаи.
Возились подле амбара долго. Сычик, примчавшийся к месту происшествия позже других, грозно отгонял всех, кто намеревался пройти мимо.
– Кругом! Запрещенная зона! – орал он, размахивая резиновой палкой.
Но надпись была видна издалека. Криничане шли в обход «запрещенной зоны», гася усмешки, подмигивая друг другу.
Кое-как приведя себя в порядок, Малынец заспешил к «сельуправе». Стали съезжаться гости.
Около увитого зеленью крылечка, разминая ноги после тряской езды, прохаживался «украинский представитель».
Малынец издали опознал его по ярко расшитой сорочке, огромным сборчатым шароварам и соломенной шляпе.
– Пану старосте! – басил приезжий, шагая навстречу. – Атаману, так сказать, вольного казацтва украинского.
Он был в отменном настроении, этот неизвестно кого представляющий «представитель». Троекратно, по древнему обычаю, облобызав Малынца, пощекотал его вислыми усами, щедро обдал запахом лука и водочного перегара. Взглянув на кислое лицо криничанского старосты, хлопнул его пр плечу широкой ладонью, пропел:
Гей, ну-мо, хлопци, ела в ни молодци,
Чом вы смутни, невесе-ели?..
– Проходьте в помещение, проходьте, як що желаете, – приглашал Малынец.
Он пропустил вперед широкозадого, пропотевшего в подмышках гостя. Глядя на его мощную спину с жирными полукружпями лопаток под полотняной, до блеска выглаженной сорочкой, подобострастно лопотал:
– Имя, отчества не помню, ну вы присаживайтесь… Побегу. Еще подъедут…
– Ого-го! – рокотал «представитель», разглядывая газетки. – Полная культура! Знает атаман, куда нос держать…
– Как вы сказали?
– Проехало. Полная культура, говорю…
Малынец попытался изобразить улыбку, но вдруг лицо его вытянулось и позеленело. На портрете Гитлера над шальным чубом фюрера, глядевшего на Малынца выпуклыми злыми глазами, торчали приделанные углем рожки. Это уже пахло весьма крупным скандалом.
– Жарковато в помещении, пан добродий, – торопливо забормотал Малынец, увлекая гостя обратно, к двери. – Может, на свежем воздухе прохолонете?..
«Представитель», озадаченный столь странным гостеприимством криничанского старосты, слегка сопротивлялся, но Малынец проявлял такую настойчивость, дергал гостя за рукав так энергично, что ему пришлось-таки оставить прохладное помещение и снова выползти на жару. Малынец, еще раз со страхом оглянувшись на рогатого фюрера, плотно прикрыл за собой дверь.
На его счастье, остальные гости – гебитскомиссар, Збандуто, фон Хайнс – еще не прибыли. Отыскав глазами среди полицаев Сычика, староста зловещим голосом позвал:
– Старший полицейский! А ну сюды!
Втолкнув Сычика в помещение, он яростно ткнул пальцем в портрет:
– Это что? Га?
Полицай непонимающе выпучил глаза:
– Это… хюрер…
– Я тебя спрашиваю, балбес, что это?.. Кто сотворил такую пакость?
– А вы не лайтесь.
– Я тебе полаюсь… Ишь ты! Обидчивый какой… Гляди лучше! Раскрой пьяные свои зенки.
Сычик, наконец, заметил, как разрисовали портрет.
– Ух ты! Какая ж это стерьва? Хлопчаки, сучьи дети…
– Лезь, стирай!
Взгромоздив на стул табуретку, Сычик вскарабкался на нее.
– Держите, а то брякнусь.
– Быстрей!
Придерживая табуретку и отдуваясь, как в бане, Малынец косился на окно. Где-то за площадью уже гудели легковые машины.
– Стирай живей! – почти плакал Малынец.
– Тряпочкой не берет. Размазывает только.
– Шкуру сдеру, – потрясал кулаками и чуть не плача орал Малынец.
– Дайте ножичка… Да держите! А то как бухну… Громко сопя, полицай начал счищать рожки лезвием. В этот момент к крыльцу «сельуправы» подкатили одна за другой две легковые машины. Малынец дернулся:
– Готов?
– Зараз!.. Ейн момент… Ух ты! – ужаснулся вдруг полицай: впопыхах он выдрал «фюреру» глаз.
Этого Малынец уже не мог пережить. В горле его что-то булькнуло, зашипело, и он бессильно присел на корточки. Сычик, потеряв равновесие, судорожно уцепился за рамку и имеете с портретом грохнулся вниз.
Едва «оппель» с гебитскомиссаром свернул к «сельуправе», Збандуто, подпрыгивавший на заднем сидении, вытянул по-гусиному голову и, оглядев кучку полицаев подле крылечка и одиноко возвышающегося над ними «представителя» в соломенной шляпе, понял, что празднество сорвано. А ведь он, понадеявшись на старосту, заверил гебитскомиссара и районного сельскохозяйственного коменданта, что в Чистой Кринице их с нетерпением ожидают «освобожденные» крестьяне!
Поправив галстук и шляпу, Збандуто резво выпрыгнул вслед за гебитскомиссаром из машины и сердито крикнул ближайшему полицаю:
– Старосту!
Малынец выбежал на крыльцо испачканный и взлохмаченный.
– Тут я, пан бургомистр. Тут!
Вид его был столь непрезентабелен, а глаза так испуганно вытаращены, что Збандуто, вместо приветствия, напустился на него:
– Вас что, корова жевала, господин староста?
– Да тут… извиняюсь… маленькая неувязка случилась…
– «Неувязка»! Кто гостей должен… э… встречать? Я? Где люди?
Збандуто оглянулся на немцев, которые переговаривались в сторонке с «украинским представителем», приблизился к Малынцу и, сжав кулаки, прошипел:
– Голову оторву..! Где люди?
Староста виновато вытянул руки по швам:
– Приглашали… Да, может, еще подойдут… Бургомистр смерил его с ног до головы свирепым взглядом. Заметив майора фон Хайнса, показавшегося из-за угла, он приподнял над лысиной шляпу, с вежливой улыбочкой засеменил навстречу.
Малынец затравленно поглядывал по сторонам. Кроме нескольких мальчишек, сбежавшихся поглазеть на машины, никого из криничан не было. А часы уже показывали десять… Конечно, можно разослать полицейских по дворам, те приведут.
Продолжая стоять по стойке «смирно», Малынец сторожко наблюдал, как бургомистр, фон Хайнс и гебитскомиссар о чем-то меж собой разговаривали.
– Староста!
Малынец подбежал.
Фон Хайнс встретил его тяжелым взглядом.
– Почему никто нет?
– Сейчас все исделаем… Все село сгоним, – с готовностью предложил Малынец. – Может, паны-господа желают закусить с дороги? Горилочки отведать?.. Ягодная…
Фон Хайнс протянул ему листовку с последним сообщением Совинформбюро.
– Откуда в селе?
– Что это?
Вытянув голову, Малынец хотел прочесть. Фон Хайнс яростно скомкал бумажку и швырнул ему в лицо.
– Сволошь! Находить! Кто распространял?
VIII
Полчаса спустя, так и не дождавшись людей на «праздник германского оружия», гебитскомиссар, Збандуто и другие гости, разъяренные и голодные, покинули Чистую Криницу.
А к вечеру из Богодаровки прибыли офицеры зондерн-команды. Ночью начались повальные обыски и аресты.
Вместе с другими был арестован Кузьма Степанович Девятко. Для него это не явилось неожиданностью. Связной подпольного райкома партии Супруненко успел предупредить, что в гестапо поступил на него донос. Чувствуя, что ему не миновать ареста, Кузьма Степанович сказал вечером жене:
– Если меня заберут и не вернусь, передай дочкам… пускай они комсомола, партии крепко придерживаются. Это мой батьковский наказ. А партия всегда укажет им, как жить… – И еще сказал он: – будут забирать меня, легко в руки не дамся. Хоть одного паразита решу.
Пришли за ним солдаты и полицаи около полуночи, когда он уже разделся и лежал в кровати.
– В «сельуправу» вас, пан Девятко, кличут, – объявил Сычик.
– Оденусь и приду, – сказал он, поглядев на толпившихся в сенцах солдат.
– Давай, давай! – повысил голос Сычик. – Нечего вылеживаться.
Кузьма Степанович неторопливо поднялся, подумав, и пул к боковой комнатке.
– Куда?
– Не кричи. Пиджак и штаны возьму.
Сычик намеревался последовать за ним, но Девятко быстро прикрыл за собой дверь, набросил крючок. Услышав, как гукнуло в комнате окно, Сычик рванулся к выходу.
– В сад! – крикнул он солдатам, на ходу срывая с плеча карабин.
Пелагея Исидоровна, цепенея от страха, слушала топот ног за хатой, треск ветвей, громкие крики полицаев.
Через несколько минут Сычик, хрипло отдуваясь и прикладывая к рассеченной щеке листок лопуха, ввалился обратно в хату, крикнул хозяйке со злостью:
– Давай одежу! Стоишь, раскрылилась… – И торжествующе добавил: – Поймали голубя…
Он сам вынес пиджак и шаровары Кузьмы Степановича во двор, потом с другим полицаем и двумя солдатами принялся обыскивать хату. Ушел через час, ничего не найдя, но прихватив кое-что из сундука.
В «сельуправе» тем временем учиняли допрос задержанным. Среди арестованных был шестнадцатилетний подросток Миша Тягнибеда, племянник казненного полевода. Кто-то из полицаев случайно заметил на его пальцах следы дегтя.
Паренек держался мужественно. Его избивали всю ночь, с короткими передышками, а он твердил одно: «Ничего на амбаре не писал, никто этого не поручал, мазал к воскресенью сапоги». Смазанных дегтем сапог у него не оказалось. На заре гестаповцы швырнули его, полуживого, в заброшенный колодец на участке огородной бригады.
Туда же бросили еще кого-то полуживым. Женщины, проходившие утром мимо, видели около колодца часового и слышали глухие стоны.