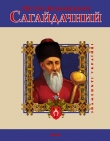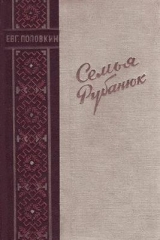
Текст книги "Семья Рубанюк"
Автор книги: Евгений Поповкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 59 страниц)
– Чем?
– Дело даже не в кокетстве вашем. Хотя, простите за резкость, женщина, потерявшая мужа, могла бы вести себя несколько иначе.
– Но, товарищ подполковник…
– Нет, сперва выслушайте меня. Потом будете возражать, если не согласны со мной. Вы не видите ничего предосудительного в легких интрижках, в развязном обращении с мужчинами. Вы извините меня, но мне неприятно не только за вас, а и за Татаринцева.
Алла несколько раз пыталась вставить слово, но Рубанюк продолжал:
– Ведь вы же любите мужа!
Волнуясь, он достал папиросу, чиркнул зажигалкой. Она не зажигалась, и Алла, воспользовавшись паузой, сказала:
– Я ни в чем не виновата, товарищ подполковник. Я знаю, вы видели, как я с Румянцевым дурачилась. Так он мальчишка. Веселый, хороший паренек.
– Возможно. Но веселых, хороших у нас немало. Дурачиться, шутить – это одно. Но ведь о вас создалось у наших командиров нелестное мнение.
– Что сделано – жалеть не велено, – сказала, нахмурившись, Татаринцева. – А за лекцию спасибо.
Она поправила волосы, одернула гимнастерку.
– Я знал, что вы обидитесь, – сказал примирительно Рубанюк. – Но я старше вас. Ну, и опытнее, что ли.
Он встал и протянул руку.
– Мне бы очень хотелось, Алла, чтобы Григорий, когда вернется, гордился вами…
Татаринцева задумчиво глядела на лампу, потом, не прощаясь, медленно пошла к двери. У порога она задержалась. Ресницы ее дрожали.
– Значит, я… – произнесла она чуть слышно. – Если и вы обо мне так думаете, значит не имею права на уважение. Но вы когда-нибудь поймете…
Она хотела сказать еще что-то, но только махнула рукой и с излишней тщательностью прикрыла за собой дверь.
VII
Полк Рубанюка находился на старом месте еще всю вторую половину августа. Но после получения 3 сентября известия о взятии гитлеровскими ордами Днепропетровска Рубанюк понял, что сидеть на своем хорошо подготовленном для обороны рубеже полку остались считанные дни. Штаб дивизии с частью сил уже перебрался километров за сорок выше по Днепру, в село Малую Лепетиху.
Зарядили беспрерывные дожди. С северо-запада безостановочно ползли тяжелые низкие тучи, щедро поливая хаты и жнивье, вконец испортив и без того раскисшие дороги.
Как только хоть слегка разведривалось, немедленно появлялись вражеские бомбардировщики. Они бомбили переправу, дороги, ближайшие железнодорожные станции.
После первого же налета бабка перекочевала с Санькой в погреб.
– Старэ, як малэ, – подсмеивалась Татьяна. – Меня и калачом з погреб не заманишь…
Но когда от бомб сгорели колхозная птицеферма и две ближайшие к ней хаты, Татьяна немедленно обосновалась там же, где бабка, и боялась на шаг отойти от двора.
В селе появились бойцы, отставшие от своих частей. Они шли в одиночку и группами, без винтовок, с сапогами, притороченными к вещевым мешкам или перекинутыми через плечо.
Рубанюк приказал выставить патрули и задерживать каждого, кто шел без командира.
Приказ о передислоцировании полка пришел ночью 4 сентября. Рубанюк оставил за себя комиссара и на рассвете поехал к новому месту расположения, в село Северные Кайры.
Еще накануне лил дождь, а с восходом солнца подул ветер, тучи разметало, и проселок быстро подсох. Атамась вел машину уверенно, виляя между обозными телегами и группками забрызганных грязью красноармейцев.
К полудню добрались до Малой Лепетихи. Рубанюк без особого труда разыскал штаб дивизии. Начальник штаба, немолодой заикающийся подполковник, рассказал, что оккупанты уже несколько дней назад захватили села Саблуновка и Золотая Балка на правом берегу и обстреливают из орудий все, что находится на левой стороне Днепра в поле их зрения.
Уточнив по карте свой участок, Рубанюк не стал задерживаться и поехал в Северные Кайры.
Уже на полпути он убедился в правильности того, о чем рассказывал начштаба. По обе стороны дороги стояли разбитые снарядами хаты и сараи, лежали поваленные плетни, зияли многочисленные воронки. Но женщины занимались своими делами, за бойцами бежали ребятишки. И Атамась, покрутив головой, заметил:
– От люды у нас живучие! Как будто с малолетства привыкли под снарядами жить. Хату спали ему, а он все одно со своего двора не пойдет.
В полукилометре от Северных Каир Рубанюк внезапно услышал нарастающий свист. Позади грохнул взрыв. Машину качнуло воздушной волной.
– На хвост соли! – задорно проговорил Атамась, не оглядываясь, и прибавил газу.
Еще несколько снарядов разорвалось невдалеке, но машина уже влетела в село. Атамась, не желая рисковать, поспешно укрыл ее меж строениями.
Через час Рубанюк, сверяясь с картой, осмотрел местность, намеченную для обороны. Участок был тяжелый и совершенно неподготовленный. Лишь за селом саперы спешно сооружали примитивный деревянный мост к плавням: там должен был расположиться один из батальонов.
Перед вечером Рубанюк вернулся в село. Он велел остановиться возле крайней хаты, с наглухо закрытыми зелеными ставнями и ярким цветником в палисадничке.
– Тут и переночуем, если хозяева есть, – сказал Рубанюк.
– Цэ мы одним моментом разнюхаем, – откликнулся Атамась, проворно вылезая из машины.
Наискось через дорогу подполковник заметил толпу и направился к ней…
В середине стояло около десятка заросших, худых мужчин в разномастной одежде.
– Что за люди?
Перед подполковником почтительно расступились.
– Из окружения, – ответил боец в замызганной разорванной подмышкой шинели.
– Откуда? – властным тоном повторил Рубанюк, обращаясь к одному из тех, кто стоял в кругу: он в упор глядел на подполковника светло-голубыми глазами.
– С правого берега.
– С того света, – ухмыляясь, добавил другой, в мятой, маленькой не по голове кепочке.
– Красноармейцы?
– Красноармейцы.
– Что ж это вырядились так, словно старцы с паперти? Командиры есть среди вас? – пристально посмотрев на них, спросил Рубанюк.
– Есть. Лейтенант Малукалов, – откликнулся невысокий изможденный человек с грязной повязкой на глазу. Он чуть выдвинулся вперед.
– Где попали в окружение?
– Кто где. Я из плена. Под Бродами бежал. Лицо лейтенанта было иссиня-желтым.
– Когда через Днепр перебрались?
– Сегодня. Рыбаки подсобили. А то бы снова попались, – ответил за лейтенанта голубоглазый охрипшим, простуженным голосом. Потом заискивающе добавил: – Вы нас до себя в часть возьмите, товарищ начальник.
– А вот разберемся, проверим, как это вы оружие побросали, – холодно сказал Рубанюк. – Там видно будет. Вам дай винтовки – опять покидаете.
Он, раздумывая, оглядел красноармейцев, потом по-командирски властно приказал:
– Лейтенант Малукалов! Назначаетесь старшим. Завтра явитесь ко мне, получите указания. Понятно?
– Понятно, товарищ подполковник.
– Расположитесь до утра вон в той клуне.
Рубанюк повернулся и пошел к машине, провожаемый молчаливыми взглядами.
Атамась успел уже переговорить с хозяйкой хаты. Он помог ее сыну, бойкому подростку, открыть ставни в чистой половине, приготовил воды для умывания.
В хате были в беспорядке свалены на полу мешки с зерном, помидоры, пахло коноплей.
Рубанюк распахнул окно, примостился около него и стал изучать карту с беглыми карандашными пометками.
Возле машины Атамась словоохотливо объяснял хозяйскому сыну, как действует мотор:
– Ось дывысь. Колы ты зразу нальешь соби в глотку пивлитры, то захлебнешься. А выпый по стаканчику, то як раз буде добре. Так и машына… Газувать треба помаленьку.
Через несколько минут он уже вертелся около хозяйки, гремевшей у печи чугунами и ухватами.
Полк прибыл в Северные Кайры к рассвету. Сразу же в переулках задымили походные кухни.
Рубанюк созвал командиров и коротко разъяснил им задачу. Батальон Лукьяновича отправился в плавни, другие два батальона должны были готовиться к обороне на окраине села и вдоль большака. С полудня на рытье окопов выйдут дивчата и подростки.
Для своего командного пункта Рубанюк приказал отрыть блиндаж в саду, с краю села. Тут же поместился и комиссар. Посоветовавшись с ним о вышедших из окружения красноармейцах, Рубанюк приказал Каладзе тщательно допросить их, подозрительных отправить в особый отдел для дальнейшей проверки, а остальных зачислить в строй, – взять на довольствие.
Через два дня приехал член Военного Совета Ильиных. Рубанюк только что вернулся из плавней; скинув сапог, перематывал намокшую портянку. При появлении Ильиных он заторопился.
– Аккуратненько, аккуратненько, подполковник, не спеши, – сказал Ильиных.
Он сел на табуретку.
– Обжился на новом месте?
– Не так, как на старом, но окопы и минные поля уже почти готовы.
– Видел. Я ведь к тебе по особому делу. Рубанюк справился, наконец, с сапогом.
– Ты садись, закуривай, – предложил Ильиных. – Знамя твое полковое отыскалось.
– Знамя?!
Рубанюк с недоверием посмотрел на Ильиных. Лицо члена Военного Совета было серьезно. Да и не мог же он шутить по такому поводу! Но как отыскалось знамя? Значит, Татаринцев жив?
– Уверен был, товарищ член Военного Совета, что знамя уцелело, – радостно сказал Рубанюк, поднимаясь с табуретки. – Но где нашлось?
Ильиных внимательно смотрел на его взволнованное, сияющее лицо.
– Братья есть у тебя?
– Два.
– Большие?
– Один еще мальчонка, другой – взрослый, Тимирязевскую академию закончил, – ответил Рубанюк, не понимая, какое это имеет отношение к знамени.
– Его не Петром зовут?
– Правильно, Петром.
– Ничего о нем не знаешь?
– Нет.
– Ну, так я, тебе расскажу. Ты не делай таких глаз, сейчас все уразумеешь.
Ильиных глубоко затянулся. Понимая состояние Рубанюка, он поспешил пояснить:
– Жив, жив твой брат. Только в Москву, в госпиталь его отправили на санитарном самолете. С ногой что-то…
– А откуда вы знаете, товарищ бригадный комиссар?
– Сейчас, не волнуйся… Вышел из окружения. Это он вынес твое знамя. Оно у нас, в штарме. Татарцев, что ли, передал ему.
– Татаринцев – мой штабной командир.
– Вот. Татаринцев этот умер там же, в окружении, а знамя вынес твой брат.
Более подробно о том, как Петро перебрался через линию фронта и каково сейчас его состояние, Ильиных сказать не мог; знал лишь, что подобрали его, раненого, в какой-то части. Там, по настоянию Петра, наведи справки, разыскали штаб армии.
В блиндаж вошел Путрев.
– Знамя наше нашлось! – сообщил ему Рубанюк радостно.
Ильиных поднялся. Перед, тем как оставить блиндаж, он сказал:
– Брата твоего, Иван Остапович, Военный Совет решил к награде представить. Полагаю, возражать не станешь? Реляцию для Москвы уже подготовили. Присвоили ему также звание старшего сержанта.
Рубанюк проводил Ильиных до машины, потом вернулся.
– Надо будет Татаринцевой сообщить о смерти мужа, – сказал он комиссару.
Путрев отсоветовал:
– Придет еще время разбираться, кто уцелел, кто погиб. Женщина успокоилась, живет надеждой, ну и пускай.
Но Алла узнала обо всем сама. В тот же день поздно вечером она стремительно вошла в блиндаж. Не здороваясь, коротко спросила:
– Верно все о Татаринцеве, товарищ подполковник?
Рубанюк переглянулся с Путревым и нетвердо спросил:
– Что именно?
– Гриша погиб? Ведь я все знаю. Зачем скрываете?
– Да, Алла, – печально произнес Рубанюк. – Но умер ваш муж героем.
Губы Татаринцевой дрогнули. Ничего не сказав, она вышла из блиндажа.
VIII
Восьмого сентября гитлеровцы начали усиленный артиллерийский обстрел рубанюковского участка. Огонь не прекращался почти двое суток.
К исходу второго дня на командный пункт прибежал лейтенант Румянцев. Рука у него была наскоро забинтована.
– По поручению комбата Яскина, – доложил он, тяжело дыша. – На дороге из Завадовки появилось несколько немецких броневиков. Меня с разведкой обстреляли. Связь порвана. Вот, – показал он забинтованную руку. – Ранило. Остальные убиты.
– А вы, лейтенант, успокойтесь, – сказал Рубанюк. – Странно было бы, если б фрицы перед нами не появились.
В блиндаже, кроме командира полка, находились Каладзе и Путрев.
Каладзе вызвал к телефону Лукьяновича и нервно закричал:
– Почему взвод не выслал для охраны «Вишни»? Ты что, ребенок? Не понимаешь? Хочешь полк без «Вишни» оставить?.. Знать не знаю… Нету твоего Ореховского!
В трубке дребезжал голос Лукьяновича, но Каладзе не стал его слушать и яростно швырнул трубку.
– Ты поспокойней, поспокойней, капитан, – заметил ему Рубанюк, поднимаясь. – Комиссар, я пошел к Яскину. Ведите, лейтенант.
Путрев задумчиво побарабанил пальцами по столу и поднял глаза на Каладзе.
– Как вы, капитан, – проговорил он, – бранитесь! Прямо слушать страшно. Не годится. На месте Лукьяновича, я подумал бы: «Нет, это не я виноват, это у Каладзе такой характер горячий». Приказывайте спокойно, но веско. Берите пример с командира полка.
– Еще днем я приказал ему выслать взвод для охраны штаба, – оправдывался Каладзе. – Почему не выполнил?
– А вы разберитесь.
Спустя немного времени из батальона позвонил Рубанюк. Он предупредил, что останется там до утра. Потом позвонил Лукьянович и сообщил, что гитлеровцы накапливаются на правом берегу.
На рассвете Рубанюк вернулся. Устало стянув с себя испачканную глиной гимнастерку, он собрался окатиться водой. Вдруг стены блиндажа затряслись от мощных взрывов.
Атамась вскочил в блиндаж.
– Самолетов пятнадцать, як що не бильше, над плавнями, – сообщил он. – Садят так, що ничего не видно.
Путрев озабоченно сказал:
– Я пойду туда, Иван Остапович.
– Нет, оставайся, – возразил Рубанюк. – Я сам к Лукьяновичу побегу.
Он быстро выбрался из блиндажа и торопливо зашагал вдоль плетней к спуску.
Над плавнями висел густой грязно-желтый дым, огромные водяные смерчи с крошевом лозы, камышей вздымались и рушились дождем на землю. Самолеты снижались до двухсот метров, кружились хороводом, бомбили, стреляли из пушек и пулеметов.
Рубанюк быстро пробежал километр до моста, который связывал с плавнями. Остановился он перед вздыбившимися, в щепья искромсанными жердями: это было все, что осталось от моста.
Здесь и догнал его запыхавшийся, потный Атамась.
– Товарищ пидполковнык, – крикнул он, наклоняясь к уху Рубанюка, – тут щель! Левей! Переждать треба.
Рубанюк, не оборачиваясь, глядел на бревна, обломки досок, оглушенную рыбу, которая плавала во взбаламученной воде, и вдруг заметил по ту сторону моста Татаринцеву. Забрызганная илом, багровая от натуги, она пыталась перетащить по уцелевшим сваям окровавленного бойца. Это было бессмысленно: мост у берега обвалился, но Татаринцева, крепко обхватив грузного красноармейца, продолжала волочить его.
– Ложись! – свирепо крикнул ей Рубанюк, но голос его потонул в нарастающем визге падающей бомбы.
Его обдало горячим воздухом и с силой швырнуло в сторону, к камышам.
Он очнулся от холодной воды, льющейся в ноздри, в уши, вокруг стоял удушливый серный запах. Рубанюк хотел приподняться и ощутил, что не может шевельнуть правой рукой, ноги не слушаются. Словно в густом рыжем тумане возникли испуганные лица Атамася и Татаринцевой. Алла склонилась над ним и, сжимая его пожелтевшую безвольную руку, шептала запекшимися губами.
– Подполковник… милый!.. Сейчас все будет хорошо. Потерпите, голубчик…
Рубанюк устало смежил веки. Сознание медленно оставляло его.
IX
Основные силы фашистских оккупантов, форсировав Днепр, двигались со стороны Богодаровки, а в направлении Сапуновки, юго-восточнее Чистой Криницы, был выброшен подвижной отряд с танками и артиллерией. Замысел гитлеровского командования заключался в том, чтобы отрезать путь к отступлению советским частям, которые держали оборону в районе Чистая Криница – Сапуновка – поселок Песчаный.
Достигнув почти без боев Сапуновки, подвижной отряд фашистов повернул на запад.
Около одиннадцати утра перед Чистой Криницей со стороны Богодаровки появились мотоциклисты. Красноармейцы, окопавшиеся за селом, открыли огонь, и гитлеровцы повернули обратно.
Спустя полчаса на гребне показались танки и сопровождающая их мотопехота. Около окопов и в самом селе начали рваться снаряды.
Фашистам ответили батареи из перелеска.
Неожиданно пулеметные очереди полоснули со стороны ветряков, с горы: оккупанты окружили село.
…Когда просвистел первый снаряд и с грохотом разорвался где-то в посадках, Пелагея Исидоровна была дома одна. Кузьма Степанович где-то задержался. Настунька убежала к Рубанюкам.
Пелагея Исидоровна, слыша, как все чаще бухали на гребне пушки и трещали ружейные выстрелы, заперла на замок хату и сараи и тоже побежала к Рубанюкам.
Сокращая путь, она спустилась огородами и на полдороге замедлила шаг, удивленная внезапно установившейся тишиной.
Через двор деда Довбни Пелагея Исидоровна выбралась на улицу. У плетней стояли женщины и ребятишки. Они смотрели в сторону ветряков. Оттуда сползали к майдану серо-зеленые цепи солдат.
– Ой, матинко, сколько их! – раздалось чье-то испуганное восклицание.
– А вон что за страховище, кума?
– Танка, наверно.
– Гляньте, гляньте, до церкви какой-то завернул. На моциклете…
Мимо широким шагом прошел Тягнибеда. Он невесело усмехнулся женщинам:
– Ишь, какие невесты! Подождите, они вас всех в церкви покрестят и повенчают.
Оккупанты расползались по улицам и переулкам, звеня алюминиевыми котелками, громко переговариваясь. Крупные, откормленные кони, обмахиваясь куцыми хвостами, тащили неуклюжие массивные повозки, походные кухни.
И странно: собаки, словно по уговору, забились под навесы и крылечки – не слышалось ни одного тявканья на пришлых людей. От этого еще тоскливее становилось на душе криничан, со страхом и любопытством следивших за каждым шагом чужеземцев.
В доме Рубанюков было так тихо и печально, будто только что проводили кого-то из семьи на кладбище. Катерина Федосеевна, Александра Семеновна и Василинка сидели с заплаканными лицами. Даже Сашко́ притих и боязливо жался к матери.
Пелагея Исидоровна еще с порога заметила, что Настуньки у Рубанюков нет.
– До дому побежала, – отозвалась Василинка на ее тревожный вопрос о дочери. – Только-только.
Пелагея Исидоровна тихонько прошла, села на скамейку. Кутаясь в платок, она сказала:
– Мой как пошел с ночи, до сих пор нету.
– И наш где-то пропадает.
– Уехать не успели. Что-то оно будет?
Василинка, не отрываясь, смотрела в окно. Длинные косы ее расплелись, но она словно забыла о них.
– Если в селе не поставят солдат, может быть обойдется, – после долгого молчания сказала Александра Семеновна.
От калитки к дому – быстрые шаги.
– Ганька наша бежит, – сказала Василинка.
Ганна шумно вскочила в сенцы, но, увидев из дверей, как Александра Семеновна склонилась над больным ребенком, вошла на цыпочках и шепотом проговорила:
– Червоноармейцев ловят по лесу. Волокут в школу… Страшно глядеть… Людей собралось…
Василинка сорвалась с места.
– Сядь! – строго остановила ее мать.
В хате было тихо. Сюда не доносились громыханье немецких повозок, чужой гортанный говор. Женщины сидели молча, понурившись, отдавшись своим невеселым мыслям.
Спустя немного времени прибежала соседка. Она сообщила, что солдаты ходят по дворам, расселяются по квартирам и что деда Довбню, который отказался пустить их к себе в хату, разукрасили так, что страшно глядеть. Пелагея Исидоровна и Ганна встревожились, заторопились по домам. Вместе они пробежали до переулка и, увидев, что народ валит к школе, решили пойти туда же.
Во дворе, за кирпичной оградой, сидели и стояли несколько десятков бойцов и младших командиров. Пять автоматчиков расхаживали вокруг и отрывистыми возгласами отгоняли толпившихся криничан.
Некоторые из пленных почему-то были без гимнастерок, под разодранными сорочками виднелось озябшее, посиневшее тело. Шестеро были ранены. Один из них лежал на земле и громко стонал. Сквозь грязные бинты сочилась кровь.
– Может, и наши, сердечные, где-то вот так… – сказала Ганна, смахивая слезу.
Она пробилась вперед сквозь толпу стариков, женщин, ребятишек и, пригорюнившись, глядела на красноармейцев.
Около часовых вертелся переводчик в немецкой форме, при пистолете. Строго поглядывая сквозь очки на толпу, он покрикивал:
– Нечего собираться, панове. Отойдите в сторону. Бандитов никогда не видели?
– А куда их погонят, сердешных? – несмело спросила Ганна.
Переводчик снисходительно покосился на нее:
– Честным трудом займутся…
Домой Ганна возвращалась совсем разбитая. Один из пленных живо напомнил ей Степана. Всю дорогу она шла, думая о муже, и ей теперь уже не верилось, что когда-нибудь придется с ним увидеться.
То, что ей сейчас пришлось испытать, наполняло ее, добросердечную и незлобивую женщину, таким гневом, что она была способна кинуться с топором, дубиной, с голыми кулаками на любого немца.
«Ну нет, собачьи выродки! – шептала она побелевшими, дрожащими губами. – Не пановать вам над нами! Не надеть вам ярма на нас, каты проклятые!».
Ей хотелось немедленно, сейчас же что-то делать, куда-то бежать, чтобы выручить пленных советских воинов, и, она, не замечая этого, шла не домой, а к колхозному правлению. К Кузьме Яковлевичу Девятко привыкли в Чистой Кринице всегда обращаться в трудные минуты.
В правлении было пусто. Ганна стала на пороге, обвела глазами комнату со снопиками пшеницы в углах и вдруг увидела красное переходящее знамя своего звена., Знамя, которым она и ее подруги так гордились!
Ганна, еще не зная, что будет делать с ним, быстро отделила алое полотнище от древка, спрятала его под жакетом.
Домой она добиралась глухими переулками, стараясь не попадаться на глаза солдатам.
Дома ее свекровь завесила в хате окна, загнала внучат на печь, а сама со старшей невесткой стала поспешно укладывать в мешки одежду.
– У Варьки Горбанихи все рушники забрали, – сказала Христинья Ганне.
– Вот супостаты!
Ганна спрятала знамя в надежном месте на чердаке, быстро сняла платок и принялась помогать. Они не успели увязать и двух мешков, как хлопнула калитка и послышались шаркающие шаги за стеной.
Старуха приоткрыла занавеску, выглянула.
– До нас идут, проклятые.
– Тащи на печь! – схватив один из мешков, шепотом приказала Христинья.
Вместе с Тайной они швырнули узлы в угол печи и забрались туда сами. Накрывшись рядном, женщины прикинулись спящими.
Солдаты вошли один за другим, обивая на крыльце грязь с башмаков, звеня котелками и автоматами. Шестеро.
– Драстуй, хозяйка! – произнес один из них, благодушным, немного шепелявым голосом.
Пришедшие складывали у порога свои сумки, оружие, котелки. Хата наполнилась смешанным запахом кожи, едкого пота, оружейной смазки, табака.
– Масльо, шпик, яйки, млеко есть? – спросил тот же благодушный голос.
Старуха, видимо, растерялась, не знала, что и как ответить. Мародер переждал, высморкался. Затем снова заученно повторил:
– Хлеб, масльо, млеко… Ам, ам… Кушайт.
Старуха скрипнула дверью, через минуту вернулась с двумя хлебами и глечиком коровьего масла. Некоторое время были слышны лишь громкое чавканье, стук ножей, отрывистые фразы.
Солдаты отрезали, каждый своим ножичком, ломтики хлеба, густо намазывали их маслом.
Старуха внесла еще один хлеб. Солдаты ели и ели, и когда все было поглощено, тот же шепелявый произнес:
– Яйка, курка… Ам, ам!
– Нету, – робко заявила старуха.
– Шпик? Сальо? – не сдавался солдат.
Кряхтя, старуха снова побрела в коморку, принесла несколько луковиц, два хлеба.
Луковицы шепелявый решительно отверг:
– Нехорош.
Он произнес что-то по-немецки. Солдаты засмеялись. Двое из них поднялись, вышли во двор. Спустя несколько минут за окном истошно завизжал подсвинок.
– Сальо! – добродушно констатировал шепелявый и сердито прикрикнул на старуху, которая рванулась к двери – Матка, никс ходить!
Ганна больше не могла вытерпеть. Она отшвырнула рядно и, затягивая дрожащими пальцами поясок юбки, выглянула с печи.
– О! Марушка!
Горбоносый высокий толстяк, со сложными нашивками на петлицах, осклабившись, поднялся со скамьи и шагнул к лежанке.
– Не надевай себя, Марушка! Спать, спать… муж, жена. Он влез коленями на лежанку; поймав Гаипинуруку, повторил:
– Спать. На пара… ты… я.
Ганна побледнела. Вырвавшись, она соскользнула с печи и, гневно сверкая глазами, закричала:
– Вот пойду до вашего начальника, пожалуюсь. Он вам покажет «спать»!
Толстяк только сейчас заметил, что она беременна. Уставившись водянистыми голубыми глазами на ее выпуклый живот, он сделал несколько движений вокруг своего.
– Нехорош, Марушка. Спать никс. Нехорош.
Все это было так оскорбительно, гадко, что у Ганны хлынули из глаз слезы. Она схватила с лежанки свой платок и хотела выбежать из хаты.
Горбоносый стал у двери, раскинул руки и преградил ей дорогу.
X
Всю ночь безостановочно лил дождь. В непроглядной темноте то и дело вырисовывались бледно-голубые квадраты окон, и тогда Ганне было видно, как вздрагивало от зарниц небо и дымилась под водяными брызгами крыша соседней хаты.
Лежа на печи, Ганна вглядывалась в темноту, настороженно прислушивалась к дыханию развалившихся на кровати, на скамьях солдат. Не спала и Христинья.
– Будто плачет Украина, – шептала Ганна, и женщины тихонько, чтобы не слышали немцы, всхлипывали.
Солдаты часто вставали, выходили на крыльцо, тут же справляли нужду. Один ощупью разыскал на припечке чугунок с остатками вареной свинины, долго чавкал, сыто и довольно отрыгивая.
Едва дождавшись рассвета, Ганна, с отвращением глядя на храпевших солдат, выбралась из хаты. Она надела жакетку, платок и побежала к своим.
По размытому ливнем шляху бесконечным потоком ползли автомашины, орудия. На огромных вездеходах тесными рядами сидели солдаты в касках. С воем и ревом, разбрызгивая грязь, пробирались штабные машины с офицерами. Где-то на проселке гудели танки. Все двигалось в направлении Сапуновки.
Дождевые тучи уползали к западу, но уже новые, еще более черные, надвигались с другой стороны.
На квартиру к Рубанюкам оккупанты не стали: Остап Григорьевич предусмотрительно распространил слух, что ребенок болен тифом.
Ганна, плача, поделилась с родителями пережитым накануне.
– Вы бы взглянули на ихнюю культуру, – плача, рассказывала она. – Подумать, и то срамно. Жрут, как свиньи, до нужника лень им пойти.
– А как ты думала? – едко откликнулся отец. – Они нас за людей считают? Пойди до Днепра, погляди.
– Что там?
– Всех пленных червоноармейцев вечером побили. Поставили в кучу… и из автоматов!
Голос Остапа Григорьевича звучал глухо, и сам он был страшен, с глубоко ввалившимися глазами и пепельно-серым лицом.
– Разве какое государство так раньше казнило пленных? – сумрачно спрашивал он.
– И похоронить как людей запретили, – плача, сказала Катерина Федосеевна.
Никто не знал, что сулит завтрашний день. Нестерпимо больно было сознавать, что свои войска отходят все дальше и некому заступиться, защитить от пришлых головорезов.
Остап Григорьевич вырядился в рваный пиджак и такие же штаны. Он сидел у окна и чинил обувь. Василинка помогала матери собирать на стол.
Сашко́ приник к окну.
– Сидай с нами, поснидаешь, – сказала мать Ганне. – Не ела, наверно?
Семья рассаживалась за столом, когда в хату вихрем ворвалась Настунька Девятко и со слезами рухнула на лежанку.
– Ты чего, Настунько? – всполошилась Катерина Федосеевна.
– Жаворонок… наш, – уткнувшись лицом в косынку, рыдая, вымолвила Настунька. – Он же такой был…
– Да ты толком расскажи, – бросив инструмент и подходя к ней, сказал Остап Григорьевич.
– Жаворонкова нашего, что квартировал… словили.
– Да что ты? Он в селе был?
– В лесу. До света пришел к батьку. Попросил старенький пиджачок и ушел… А его словили… Повели до школы.
Настунька снова запричитала. С трудом удалось понять, что Жаворонков оказался раненым и что Кузьма Степанович велел женщинам идти к штабу просить, чтобы капитана не расстреливали.
– Иди, – коротко приказал Остап Григорьевич жене.
– Побежим, Ганько.
– И Ганна нехай идет. Потом поснидаете.
Женщины побежали к школе. Около нее стояли часовые. Ганна показала матери на выгон за школьным садом. В просвете между деревьями видна была толпа.
Обойдя ограду, они торопливо направились туда. Навстречу, повязываясь на ходу платком, бежала Варвара, колхозница из звена Ганны.
– Не ходите, ро-одные! – плачущим голосом воскликнула она. – Там его так разрисовали!.. Не могу глядеть на такое…
Жаворонкова не сразу можно было узнать. Он стоял между солдатами без головного убора. На побелевшем лице его под левой скулой и на подбородке горели багровые кровоподтеки. Старый пиджачок был разодран в нескольких местах, обнажая залитую кровью военную гимнастерку.
Толпа молча и испуганно глядела на него. И вдруг Жаворонков, с трудом шевеля запекшимися губами, запел высоким, рвущимся голосом:
Раскинулось море широко,
И волны бушуют вдали…
Он оборвал песню и негромко произнес:
– Не волнуйтесь, люди… Моряк нигде не пропадет… А русский…
Стоявший рядом солдат наотмашь ударил его по скуле. Голова Жаворонкова мотнулась, из носа пошла кровь, но он даже не взглянул на фашиста и договорил, повысив голос:
– А русский, советский человек и на том свете вспомнит гадам все… и Украину… и Смоленск.
Часовые засуетились, косясь в сторону школы. Вдоль кирпичной ограды шел к толпе высокий офицер. На почтительном расстоянии следовали за ним солдаты.
Ганну потянул кто-то сзади за рукав:
– Это Гютер или Гнютер… который червоноармейцев заставил расстрелять.
Офицер, скользя высокими резиновыми сапогами по раскисшей земле, подошел к торопливо расступившейся толпе. С холодным любопытством он взглянул на высокую фигуру русского командира и отрывисто бросил что-то переводчику.
Тот, блеснув очками, козырнул и обернулся к одному из солдат. Солдат выступил вперед и протянул Жаворонкову лопату.
– Обер-лейтенант Гюнтер, – громко сказал переводчик, обращаясь к Жаворонкову, – разрешает вырыть для себя могилу. Копай вот здесь.
Переводчик каблуком ботинка прочертил на земле квадрат.
– Пан офицер! – раздался дрожащий женский голос. – Не казните его.
Это говорила Пелагея Исидоровна. Она пробилась вперед к переводчику. В толпе разноголосо закричали:
– Не убивайте его!
– Он же наш, криничанский!
Офицер смотрел на Жаворонкова насмешливо. Он перевел взгляд на толпу, на переводчика и коротко сказал что-то.
– Копай! – сердито прикрикнул переводчик. – С комиссарами не нянчимся.
Толпа колыхнулась. Жаворонков рывком вскинул руку и, напрягаясь, закричал:
– Кого просите, товарищи? Кого просите?!
Он с тоской посмотрел на необозримое море желтой, поникшей после ливня пшеницы, на кувыркавшихся над кровлями хат голубей, обернулся к солдату и взял лопату.
– Вы переводчик? – спросил он того, который был в очках.
– Да, я есть переводчик.
Глаза Жаворонкова сощурились, щеки задергались.
– Ну, так русские меня и без переводчика поймут, – сказал он.
В тот же миг, подняв лопату, он яростно опустил ее на голову переводчику. Не давая никому опомниться, Жаворонков ринулся к обер-лейтенанту.
Толпа шарахнулась в стороны. Один из солдат подставил Жаворонкову ногу, и он, не ожидая этого, рухнул в грязь.