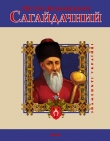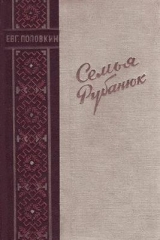
Текст книги "Семья Рубанюк"
Автор книги: Евгений Поповкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 59 страниц)
Когда смеркалось, Катерина Федосеевна шла в свою коморку; ей удалось придать пристройке к амбару мало-мальски жилой вид. Она сама сложила небольшую печку, обила старой дерюгой дверь, соорудила из досок постель, на которой спала вместе с Сашко́м. Все-таки у нее был хоть и не очень теплый, но свой угол: в других дворах хозяев совсем прогнали со двора, и они ютились в вырытых на огородах землянках.
Долгими зимними вечерами, ворочаясь на своем жестком ложе, Катерина Федосеевна передумала о многом. С того дня, как партизаны побывали в селе, она ничего не слышала ни о муже, ни о тех, кто ушел в лес, в отряд Бутенко. Ничего не могла она узнать и о судьбе невестки и внучонка, уведенных в Богодаровку. Где-то далеко воюют ее сыновья Иван и Петро, да и живы ли они?! Может, и остались из всей семьи она да Сашко́…
Перед глазами возникали то лицо Ганны, каким оно запечатлелось в ее памяти последний раз у виселицы, – бледное, с жарко горящими глазами, то плачущая Василинка, вырывающаяся из рук полицаев…
Катерина Федосеевна содрогалась от рыданий и, боясь разбудить Сашка́, тихонько вставала с постели. Прислонясь к двери, она долго и беззвучно плакала, и никто на всем свете не знал об этих материнских слезах.
Ей вспоминалось, как еще недавно можно было свободно ходить по селу, люди разговаривали громко и смело, над садками и левадами разносились по вечерам девичьи песни. Все это сейчас казалось чудом.
На память приходили самые обыкновенные, простые события. Вот ее, Катерину Федосеевну, премировали телушкой за работу в огородной бригаде. Вот старый Остап схватился на собрании с председателем правления Девятко из-за того, что тот не дал песчаных участков под виноградник. Остап разлютовался тогда так, словно без этих бросовых песчаных земель за Лисьим Крутояром ему ничего другого не оставалось, как тут же, на колхозном собрании, лечь и помереть… И собрание, одобрительно посмеиваясь, поддержало его: решило закладывать виноградник за Лисьим Крутояром, а новую молочно-товарную ферму строить за Долгуновской балкой… Остап Григорьевич вернулся домой после того собрания с таким счастливым видом, будто всю жизнь ему не хватало только этих десяти гектаров песчаника…
Катерина Федосеевна находила в этих воспоминаниях утешение. Перед рассветом, осторожно укладываясь на скрипучих досках рядом с сынишкой, она засыпала чутким, беспокойным сном. Спала не раздеваясь, готовая в любую минуту вскочить, если вдруг придет и постучит кто-то из своих, кому она может понадобиться.
Но никто к ней не приходил, и утром, вставая, она видела одно и то же: часового с черными наушниками, топчущегося у крыльца, денщика, прогуливающего по двору овчарку фон Хайнса, парные патрули на улице.
Сам фон Хайнс выходил из дому редко. Каждый день в строго определенное время он вызывал к себе подчиненных ему офицеров и старосту. Коротко переговорив с ними, отпускал. Изредка во дворе появлялся Кузьма Степанович Девятко. Его по-прежнему именовали председателем колхоза, но эсэсовцы оставили за ним лишь одну обязанность – производить среди колхозников реквизицию продовольствия для содержания гарнизона, и Кузьма Степановиче внешней покорностью составлял списки, ходил с полицаями по дворам неплательщиков.
Никто в селе не знал, что бывший заведующий богодарозской сберкассой Супруненко, который устроился на должность помощника начальника районного управления полиции и время от времени приезжал в Чистую Криницу, был связным подпольного райкома партии. Кузьма Степанович получил от него указание всеми средствами разоблачать ложь гитлеровской пропаганды, знакомить криничан с действительным положением на фронтах, вселять в людей уверенность в неминуемом разгроме оккупантов.
Стремясь получше выполнить это задание подпольного райкома и в то же время не разоблачить себя, Кузьма Степанович пускался на всевозможные хитрости.
Однажды в канцелярии «сельуправы» у Малынца собралось человек двенадцать стариков. Всех их вызвали по одному делу: деды упорно уклонялись от сдачи продовольствия на нужды германской армии.
Малынец, багровый и потный от напряжения, то уговаривал их, то грозился отправить «куда Макар телят не гонял» и при этом искоса поглядывал на сидевшего рядом Кузьму Степановича, ища у него поддержки.
Старики кряхтели, сдержанно покашливали.
– Откуда, пан староста, яиц наберешь? Курей и на развод не осталось.
– Куроедов полное село.
– А о хлебе и сами забыли, какой он есть.
– Мерзлую картошку копаем, тем и живем…
Кузьма Степанович, все время молчавший, внушительно произнес:
– Правильно староста распекает тут вас, паны старики…
Малынец обиженно оттопырил губу:
– Все утро мордуюсь. Отправлю в комендатуру, там им быстро мозги вправят…
Кузьма Степанович прервал его властным жестом и строго продолжал:
– Новые наши власти одно пишут, а вы в свою дудку дуете… Вот я почитаю вам газетку «Голос Богодаровщины», а вы смекайте…
Он извлек из кармана старенького, сильно поношенного кожуха сложенную вчетверо газету, развернул ее, надел очки и неторопливо прочитал:
– Военный корреспондент эсэс Мартин Швабе пишет: «Край над Днепром стал одним из наших наиболее могучих союзников в борьбе с большевизмом».
Деды сидели понуро, не глядя на Девятко, но слушали напряженно: с Кузьмой Степановичем привыкли считаться.
– Шваба этот, – продолжал тот, – ясно нам, дурням, растолковал, кем теперь доводится германская держава для украинцев. Дорогие наши «союзнички!» А вы, заместо того чтобы сдавать продукт на их прокормление, наоборот, сдавать не дуже поспешаете. До кого во двор не зайдешь, один разговор: «Нету», или: «Забрали все». Что значит «забрали»? Куда «забрали»? Если забирают, стало быть своего продукта у союзников наших нету.
Вслушиваясь в интонации голоса Кузьмы Степановича, можно было подумать, что старик и впрямь возмущен. «Умный человек и сам поймет, куда гну, – думал он, выбирая нужные слова. – А дурак не разберется, так это еще лучше…»
И, внимательно поглядывая из-под своих седых кустистых бровей то на селян, то на Малынца, Кузьма Степанович укоризненно продолжал:
– По углам шепчутся, выдумки разные выдумывают. То, мол, говорят, червоноармейцы германскую армию от Москвы погнали… Извиняюсь, не то слово сорвалось… Германская армия вроде отступает от Москвы. А «Голос Богодаровщины» нам все описывает: «Аж на Урале уже Червоная Армия, вон куда дошли храбрые германские гренадеры…» Вы газетку читать не хотите, то дело ваше, но и по-за углами нечего шептаться, что, мол, Барвенково и Лозовую червоноармейцы уже забрали… Как же, рассудите, люди добрые, могут они Лозовую взять, если сами за Сибирью?..
Кузьма Степанович не жалел сердитых и гневных выражений, бичуя односельчан за распространение всяческих слухов, которые он тут же подробно пересказывал. Хитро, хотя и рискованно вел дело Девятко. Это деды начинали понимать, и хмурые, напряженные их лица посветлели, заулыбались.
А Малынец важно кивал головой, поддакивал, и по выражению его глуповатого лица было видно, что он вполне доволен «поддержкой» председателя.
Сдача продовольствия для гарнизона после этого отнюдь не наладилась. Зато в хатах, у плетней и колодцев, всюду, где не угрожала опасность быть подслушанным врагами, криничане с явным удовольствием пересказывали друг другу услышанное от Девятко.
Правленческий конюх Андрей Гичак, повстречав как-то в переулке Катерину Федосеевну, поздоровался и, оглядевшись по сторонам, спросил:
– Не приметили, Федосеевна, ваш квартирант свои манатки еще не собирает?
– Я к нему в комнату не захожу. Ничего не приметила… А почему вы так, дядько Андрей, спрашиваете?
– И сват ваш Кузьма Степанович ничего не рассказывал?
– Я ж никого не вижу… Со сватом уже неделю словом не перекинулась.
– Зря! Вы его порасспросите. Правду ли он про Барвенково и Лозовую в «сельуправе» говорил? Вроде они уже отбиты у немчугов нашими червоными армейцами…
– Неужто наши наступают, дядько Андрей?
Катерина Федосеевна смотрела на него горящим взглядом.
– По селу разное балакают, – уклончиво сказал Гичак. – Волнуются люди… Так вы ничего за своим не приметили? За Гайнцем?
– Я его только и вижу, когда, извиняйте, он до нужника ходит…
– Вы со сватом потолкуйте, – посоветовал Гичак и, заметив патрульных в конце улицы, попрощался.
Взволнованная неожиданной новостью, Катерина Федосеевна в тот же день пошла к Девятко.
Пелагея Исидоровна ей очень обрадовалась. Они сели за стол, хозяйка поставила перед гостьей миску с жареными тыквенными семечками.
– Крошу тыкву, тем и кормимся со старым, – сказала она и тут только вспомнила, что Катерине Федосеевне живется еще тяжелее.
– Что ж вы, свахо, и дорожку до нас забыли? – попеняла она. – Мой говорит: «Сходи, может нужно что…» Так у вас же солдаты стоят на воротах.
– Ой, свахо, я и за порог боюсь лишний раз выйти… Ну, а вы как тут?
Женщины торопливо выкладывали друг другу свои горести и нужды. Вспомнили о детях.
– За Петра и Ванюшу наших так болит сердце, так болит, – жаловалась Катерина Федосеевна. – И про Оксану вспомню – сердце кровью обливается… Где они? Как там они?
– И им, свахо, думать про нас доводится…
– Про Ганну еще не знают… Каждую ночь вижу то ее, то меньшенькую, Василинку, – говорила Катерина Федосеевна надломленным голосом. – Ганя хоть дома смерть свою приняла… А как там Василинка, на чужбине? Доня моя родная… Никто ж ее не доглянет, никто не спросит, ела она или пила.
– И моя там горе терпит, – пыталась утешить ее Пелагея Исидоровна. – Сколько они, катюки, молоди поугоняли.
Пелагея Исидоровна всхлипнула, потом громко запричитала. Так и застал обеих женщин плачущими Кузьма Степанович, войдя в хату.
Он молча поглядел на них, повесил кожушок у дверей и подсел к столу. Покашливая, сказал:
– Ты, стара, обедом сваху угостила бы. Плакать потом будете. Да и мне еще в «сельуправу» идти…
Громко вздыхая и вытирая глаза фартуком, Пелагея Исидоровна завозилась у печи.
От обеда Катерина Федосеевна отказалась. Ей надо было спешить домой, готовить еду Сашку.
– Что я вас хотела спросить, Степанович, – сказала она, поглядывая в окно. – Есть такая чутка, что наши на Барвенково наступают. Правда это?
Кузьма Степанович, положив руки на стол и медленно шевеля пальцами, с минуту молчал.
– Вам, Федосеевна, можно сказать истинную правду, – произнес, наконец, он. – Знаю, что лишнего никому не сболтнете. Дал мне человек один газету московскую. Наступают наши, на Украине уже. По этому дурачку, Микифору Малийцу, заметно. Он мне по три раза на день «доброго здоровья» желает. Шапочку снимает. Чует, тварюга, куда дело поворачивается.
– Ну, а про наших… про товарища Бутенко… ничего не слыхали?
– Особого пока ничего не слышно… Они свое время выберут.
– Помогай им господь бог!
Ушла Катерина Федосеевна от Девятко ободренная, внутренне окрепшая. Понимала она, что еще много испытаний, горя, унижений придется перетерпеть, но мысль о том, что где-то уже недалеко, бьются, гонят врага родные люди, может быть ее сыновья, придавала ей силы, будила светлые надежды.
Шла она домой быстрыми, энергичными шагами. Переступив порог, чуть не вскрикнула: на скамейке сидела, разговаривая с Сашко́м, невестка Александра Семеновна.
XXII
Александра Семеновна поднялась и шагнула навстречу свекрови.
Свет проникал в коморку скупо, однако Катерина Федосеевна сразу заметила, каким изможденным было лицо невестки. Худенькая и раньше, Александра Семеновна сейчас выглядела совсем сухонькой и слабой.
Катерина Федосеевна с трудом сдержала слезы.
– Шурочка! – тихо произнесла она, припадая к ее плечу. И тотчас же, подняв голову и поведя взглядом по сторонам, встревоженно спросила: – А Витя?
Глаза женщин встретились. Бескровные губы Александры Семеновны дрогнули в неестественной улыбке, в глазах ее мелькнуло почти сумасшедшее выражение. И Катерина Федосеевна поняла все.
– От воспаления легких… В тюрьме, – шепотом, еле слышно произнесла Александра Семеновна.
В коморке стало тихо. Часто падали в лоханку капли воды из худого ведра, стоящего на скамейке, сверчал где-то в стропилах сверчок.
– Нет Вити, – чуть слышно произнесла Александра Семеновна. Закрыв глаза рукой, она мгновение стояла неподвижно и вдруг закричала: – Нету сыночка… мама… И Ванюши нет… Никого…
– Шура, ты что?! – испуганно воскликнула Катерина Федосеевна. – Сядь, голубонько, успокойся… Может, Ванюша живой и здоровый, воюет где-то…
Она почти насильно усадила невестку на свою постель, развязала ее платок.
– Сашко́, затапливай, – приказала она, прикидывая тем временем, чем бы покормить невестку.
– «Шпахен» вас кличет, мамо… Что вы, не слышите? – сказал Сашко́.
Только сейчас до слуха Катерины Федосеевны дошли настойчивые крики денщика.
– Приляг, Шурочка, отдохни, – поспешно проговорила она. – К майору кличут, чтоб он сказился… Приду, наговоримся с тобой.
Денщик стоял на крыльце, широко расставив ноги.
– Вассер?! – крикнул он, топорща щетинистые усы. – Вассер! Вассер!.. Куда ходил? – Видя, что женщина не понимает его, он рассердился: – Вода… Почему вода мало?
Катерина Федосеевна обомлела, вспомнив, что сегодня пятница, а в этот день фон Хайнс принимал ванну.
Катерина Федосеевна бросилась за ведрами, затем побежала к колодцу. Она наполнила кадку, растопила на кухне печь и поставила чугуны. Оставалось вымыть кипятком ванну (ее в первый же день солдаты привезли из сельской больницы) и застлать пол дорожками.
Денщик суетливо вертелся тут же и поторапливал ее.
В кухню вошел фон Хайнс. Он был уже в халате и домашних туфлях. Солдат, отскочив к порогу и вытянувшись, глядел на него немигающим взглядом. Могли быть крупные неприятности из-за опоздания с водой. Свой девиз «организованность и дисциплина превыше всего» – майор Эрих фон Хайнс привык соблюдать с неуклонной точностью. Не раз денщик тайком, ради забавы, сверялся с часами, когда майор неторопливо шествовал к деревянному домику, специально сооруженному в углу двора.
Против ожидания, фон Хайнс, увидя, что ванна еще пуста, сохранил на своей костлявой, худой физиономии такое безразличие, что денщик выпучил глаза еще больше.
Майор снял ручные часы, отложил их и стал разоблачаться. Скинул халат, оглядел прищуренными глазами, белье и разделся догола.
Катерина Федосеевна торопливо подкладывала в огонь хворост, без видимой необходимости шуровала в печи ухватом, переставляла чугуны, гадливо отворачиваясь, лишь бы не видеть оскорбляющего ее достоинство голого бесстыдника. Такого сраму на своем веку она еще не видела!
А фон Хайнс ее просто не замечал. Он прошелся по кухне, постоял перед зеркалом, разглядывая прыщик на подбородке, затем, согнув руки и отставив острые локти в стороны, принялся приседать и распрямляться, вертеть поочередно то правой, то левой ногой…
Вода, наконец, согрелась. Катерина Федосеевна зажгла лампу, быстро наполнила ванну и пошла было к дверям. Фон Хайнс окликнул ее.
– Жена оберст-лейтенаит Рубанюк? Где? – спросил он, пробуя воду пальцем.
– Невестка? В хатынке. Катерина Федосеевна взглянула на майора с испугом. Она еще ни о чем не успела расспросить Александру Семеновну и не знала, как удалось невестке вернуться в село.
– Фельдскомендатура дала разрешение жене оберст-лейтенанта Рубанюк проживание дома, – сказал фон Хайнс, распрямляясь. – Я тоже позволяю такой разрешение. Она зайдет ко мне на квартиру. Через полтора часа.
– Она же больная, пан офицер! – воскликнула Катерина Федосеевна. – Может, дозволите завтра утречком?
– Через полтора часа, – повторил, чуть повысив голос, фон Хайнс. – Вы свободен…
Катерина Федосеевна вышла. Над селом стояли густые зимние сумерки. Прихватывал мороз. Под ногами звучно поскрипывал снег.
«Зачем она ему понадобилась, этому проклятому, да еще ночью? – думала Катерина Федосеевна, медленно идя к своей коморке. – Наверное, он про нашего Ивана хочет расспросить. Узнал, что муж – подполковник… А может, он, ирод, что плохое сделать замыслил?.. Сидит, как сыч в дупле, дидько лысый его поймет, что у него на уме!»
Расстроенная и подавленная, Катерина Федосеевна вошла к себе.
Хозяйственный Сашко́ успел уже завесить окно ветошью, засветил плошку и, сидя на корточках, подкладывал в печку хворост.
Александра Семеновна отогревалась под стареньким кожухом Остапа Григорьевича.
Зачем вас вызывали, мама? – спросила она слабым голосом.
– Баню ему готовила, черту проклятому, – с сердцем ответила Катерина Федосеевна, сбрасывая платок.
– А обо мне у вас не было с ним разговора?
– Спрашивал…
Катерина Федосеевна со скрытой жалостью разглядывала бледное, измученное лицо невестки.
– Как же тебе посчастливилось до дому попасть? – спросила она, ласково положив руку на ее голову.
– И сама не ожидала… Дайте я сяду: – Александра Семеновна поднялась и, поправив кожух, сползавший с худеньких плеч, зябко поежилась. – Когда нас в Богодаровку отправили, я уже с жизнью прощалась… А в тюрьме вовсе упала духом. Витюшка ведь больной был да в дороге еще больше простыл… Кашляет, горит весь. Одно твердил: «Пить, пить!» Домой просился, маленький мой…
Подбородок Александры Семеновны дрогнул. Она помолчала, потом продолжала совсем тихо:
– Что там делается, мама! Я не одна с ребенком была. Дети, мужчины, женщины – все вместе, в одном подвале. Душно, сыро, из щелей холод идет… Я Витю с рук не спускала. С нами военнопленные командиры наши сидели. Устроили скандал, настояли, чтобы пришел врач. Ну, пришел он. Осмотрел… Крупозное воспаление легких. Пообещал перевести в тюремный лазарет… Забыл, конечно. Им не до меня было. Каждый день по двадцать, тридцать человек отбирали… Расстреливали…
Александра Семеновна, заметив, что Сашко́ слушает ее с широко раскрытыми глазами, замолчала.
– Ты делай свое дело! – прикрикнула на него Катерина Федосеевна. – Там, в сундучке, пшена трошки осталось, перебери две жменьки, кашу сварим.
– …На третий день умер, – закончила свой рассказ Александра Семеновна. – У меня его отобрали, даже похоронить не разрешили…
Александра Семеновна глядела, не мигая, в одну точку, и в глазах ее вновь мелькнуло то же странное выражение, которое давеча заметила Катерина Федосеевна.
– Ты, Шура, успокойся, – мягко сказала свекровь. – Я вот двоих дочек потеряла. Про сынов, про старого ничего не знаю, а рукам своим не дозволяю опускаться. Нельзя этого.
В голосе Катерины Федосеевны было столько материнской теплоты, что Александра Семеновна, внимательно и благодарно посмотрев ей в глаза, доверчиво прижалась к ней.
Собирая на стол скудный ужин, Катерина Федосеевна напомнила:
– Ты мне, Шура, так и не рассказала, как они тебя освободили…
– Подвал разгружали от людей… Меня и еще трех женщин под расписку выпустили. Велели каждый месяц в комендатуру являться для проверки… Я, уже была в «сельуправе», отдала бумажку старосте.
– Как-нибудь переживем, – сказала Катерина Федосеевна. – Вдвоем нам легче будет. А то я одна, одна со своими думками… Не знаю, кого доведется живым повидать…
– Нас, мама, никто не может услышать? – спросила Александра Семеновна, настороженно оглядев коморку.
Катерина Федосеевна вышла за дверь, постояла, прислушиваясь. За плотно прикрытыми ставнями дома было тихо.
– Сидят люди по таким вот сарайчикам або в ямах, – сказала она, вернувшись. – И каждый по ночам свою думку гадает: будет он жить или схватят – ив холодную…
– Скоро изменится, мама, – шепотом произнесла Александра Семеновна. – О Харькове ничего не слыхали?
– Нет.
– Наши на Харьков наступают. Мне один лейтенант, из пленных, сказал. Говорит, четыреста населенных пунктов уже освободили… Ручался, что точно знает.
– И у нас балачки по селу идут. Дал бы господь!
– Вдруг Ванюша где-то уже недалеко, – с надеждой в голосе сказала Александра Семеновна.
– А что ты думаешь! – поддержала Катерина Федосеевна. – Если правда, что наши гонят этих идолов, и Ванюша и Петро могут заявиться… Садись, поешь. Сашко́, доставай ложки…
Они поели втроем немасленой каши. Невестке Катерина Федосеевна дала припасенный стакан молока.
– А что офицер про меня спрашивал? – вспомнила Александра Семеновна. – Староста предупредил, что он здесь главный начальник.
– Гайнц деда Гичака с пистолета застрелил, – вставил Сашо́. – За часы.
– Какие часы?
– Ой, Шурочка, – вздохнув, сказала Катерина Федосеевна, – правда это! Вынул револьвер и убил. Тот на сходку опоздал.
– Неужели убил? За опоздание?
– Все ж видели… При людях… Такой скаженный, ну зверюга, истинный зверюга!
– А что он про меня говорил?
– Требует, чтоб ты явилась до него сегодня.
– Зачем?
– Разве он мне скажет? Я думаю, про Ванюшу будет расспрашивать. Так ты ж за мужа не можешь ответ нести. Так и выскажи ему…
– Меня про Ваню уже столько допрашивали, – ответила Александра Семеновна. – Я этим следователям и счет потеряла…
Она кое-как привела себя в порядок и, накинув на голову платок Катерины Федосеевны, призналась:
– Страшновато идти.
– Может, все обойдется. Я ложиться не буду.
– Вы обо мне, мама, не тревожьтесь, – сказала Александра Семеновна. – У вас и так есть о ком болеть душой.
– Что ж ты, чужая мне?! – рассердилась Катерина Федосеевна. – И скажет такое!
Александра Семеновна завязалась платком по-старушечьи и, нерешительно постояв у низенького порога, вышла из коморки.
XXIII
Майор фон Хайнс сидел в высоком кресле и разбирал только что полученную почту.
Он уже завершил свой туалет: безукоризненно ровный пробор поблескивал в холодном свете карбидной лампы, от накинутого на плечи мундира распространялся по комнате тонкий запах одеколона. На столике дымилась чашка кофе.
Фон Хайнс пробежал глазами сообщения главной квартиры фюрера о положении на фронтах и, отложив газету, взялся за письма.
– Мильда! – резким голосом позвал он.
Овчарка спрыгнула с постели на пол и, навострив уши, заискивающе уставила на хозяина желтые глаза.
Фон Хайнс смерил собаку строгим взглядом и, приказав ей лечь у двери, вскрыл конверты.
Два письма, были из Гроссенгайма, от отца. Их можно было просмотреть бегло: отец аккуратно, два раза в неделю, сообщал об одном и том же в одинаковых выражениях: все в порядке, Эрих может спокойно исполнять свой долг перед великой Германией и фюрером.
Одно из писем, со штемпелем фельдпочты, – от брата из действующей армии. Наверное, опять нытье. Подождет. Лиловый конверт с белой каемкой – из Брюсселя. Фон Хайнс вскрыл его. Старый сослуживец Густав Мейзер, с которым в 1939 году пришлось в одном полку начинать войну в Польше, сожалел, что судьба забросила Эриха в дикую, холодную Россию. Густав до сих пор не может забыть чудесных дней, проведенных вместе во Франции…
«…Я с таким удовольствием, – читал фон Хайнс, – вспоминаю о приятных вечерах в общей гостиной, с ее глубокими креслами, с пенящимся шампанским в бокалах. Помнишь? На столе целая батарея бутылок с отборными винами и груда бумажных франков. Ночной налет на кабачок Шато-Эссэ и звон колоколов Монришара, свидетельствующих о бьющей ключом жизни…»
Фон Хайнс дочитал письмо, морщась. Густав не сетовал на то, что ему удалось остаться в Брюсселе. Газированное пиво и ракушки с жареной картошкой… Обворожительные девушки у мадам Жеймо…
– Пройдоха! – громко произнес фон Хайнс. – Отвертелся от России, теперь посмеивается…
Овчарка нерешительно постучала хвостом по полу и снова легла, вытянув передние лапы.
Фон Хайнс взглянул на часы. Жена русского подполковника придет через десять минут. У него еще было время. Он вскрыл последнее письмо, от брата. Оно долго бродило где-то, Отто написал его еще 9 декабря…
«Наро-Фоминск… Сколько мы за это время пережили! Генеральное наступление выдохлось…»
Морщины на лбу у майора сбежались к переносице:
– Этот мальчишка Отто никогда не отличался храбростью! Паникер!.. Мильда, не смей спать!
«…Сейчас мы отступаем при тридцатиградусном морозе, кругом буря и снега… Когда русские в штатском приходят мимо, мы просто срываем с них шапки, поэтому почти на каждом солдате надета русская шапка. Преследуемые большевиками на земле и с воздуха, рассеянные, окруженные, мы мчались назад, по четыре-пять автомобилей в ряд. Рядом с автомобилями – конные повозки… Отказываюсь, дорогой Эрих, от железного креста, хочу свой крестец принести домой целым. Солдаты мечтают получить „хайматшусс“[25]25
Хайматшусс – дословно: выстрел на родину (немецк.).
[Закрыть], то есть легкое ранение…»
Отто писал длинно, многословно, жалуясь на трудности войны на Восточном фронте, и фон Хайнс обозлился. Маленькая военная неудача, вызванная, по-видимому, метелями и сильным морозом, уже повергает в панику таких молокососов, как Отто. Планомерный отход на зимние квартиры, задуманный ставкой фюрера, в изображении трусишек выглядит чуть ли не провалом русской кампании… Фон Хайнс и мысли не допускал об этом. Ему было обещано после «победы» поместье на берегу Днепра.
– Идиот! – Фон Хайнс отшвырнул письмо и выругался так громко, что Мильда вскочила.
Он прихлебнул остывший кофе, вытянул из папки паспорт Александры Семеновны Рубанюк и раскрыл его. С фотографии смотрели улыбающиеся веселые глаза молодой женщины с изящной прической и по-детски полными, сочными губами.
Фон Хайнс внимательно перечитал сведения о владелице паспорта, проверил штампы богодаровской комендатуры и, положив паспорт в папку, позвал денщика.
Солдат вытянулся у притолоки.
– Жена оберст-лейтенанта явилась?
– Ждет, господин майор.
– Зови! Мильда, на место!
Александра Семеновна переступила порог и, став у двери, обвела комнату тоскующим взглядом. Со стены в упор глядел на нее портрет Гитлера. Увеличенные фотографии Геббельса, Геринга и главного шефа фон Хайнса – Гиммлера, цветные пейзажи Германии, развешанные в простенках между окнами, кожаные чемоданы, пирамидой сложенные у стола, сообщали хате, прежде уютной и милой своей простотой, что-то непереносимо чужое и отталкивающее.
Взгляд Александры Семеновны упал на кроватку сына. Она вздрогнула и огромным усилием воли подавила крик. На кроватке, поводя ушами и враждебно уставившись на вошедшую, сидела овчарка.
– Вы жена подполковника Рубанюк? – глухо донесся до нее голос офицера.
– Что? – шепотом переспросила Александра Семеновна.
– Вы мадам Рубанюк? Жена подполковника?
В тоне, каким был задан вопрос, сквозило недоверие. Простой деревенский платок, грубые сапоги, изможденное лицо с глубокими темными впадинами под глазами – все это явно разочаровало фон Хайнса. Он снова достал паспорт, посмотрел на фотографию, потом на женщину.
– Садитесь, – с холодной любезностью предложил он и, указав на стул, провел ладонью по блестящему пробору.
– Я постою.
Фон Хайнс пристально смотрел на нее. Втайне он рассчитывал на то, что общество жены русского подполковника окажется более приятным. Во Франции он весьма недурно проводил свой досуг с женой убитого французского капитана.
Женщина, стоявшая сейчас перед ним с холодным выражением лица, не могла возбудить в нем ничего, кроме неприязни.
– Вы оценили доброту немецкого командования, давшего вам разрешение жить дома? – спросил он, все больше раздражаясь.
– В тюрьме у меня умер единственный ребенок, – с усилием разжав зубы, произнесла Александра Семеновна. – Эту доброту я оценила…
Глаза фон Хайнса встретились с ее глазами. Во взгляде женщины майор прочел такую откровенную враждебность, что ему сразу стало ясно: она принадлежала к тем фанатичным русским, которые не считаются ни с правилами войны, ни с силой победителей. Впрочем, эта хилая, полубольная женщина не в состоянии причинить какую-либо серьезную неприятность. Фон Хайнс был уверен в своих силах, – он добьется ее покорности.
– Чем вы думаете заниматься? – сухо задал он вопрос, косясь на Мильду.
Овчарка, шумно сопя, выщелкивала зубами блох.
Александра Семеновна с минуту раздумывала:
– Если бы мне разрешили… Я могу преподавать. В селе есть начальная школа.
– В школах будут преподавать подготовленные нами учителя, – желчно сказал фон Хайнс.
– Тогда я займусь физической работой. В колхозе…
– Какие сведения есть о вашем муже? – перебил он, угрюмо глядя на Александру Семеновну.
– Я рассталась с мужем в первый день войны. Нам пришлось срочно эвакуироваться…
Губы фон Хайнса тронула тщеславная улыбка.
– Наши «юнкерсы» и мотоциклисты не оставляют времени для размышлений…
Александра Семеновна промолчала. Майор поднялся, холодно произнес:
– Великая Германия напрягает силы, чтобы победить и дать лучшую жизнь вашей стране. Каждый должен много, хорошо работать. Мы укажем подходящее для вас занятие.
– Можно идти? – спросила Александра Семеновна.
– Да.
Она с излишней поспешностью повернулась, боясь еще раз взглянуть на кроватку сына.
Катерина Федосеевна ждала ее, не раздеваясь и не гася коптилки.
– Ну что? – спросила она.
– Работать на них не буду… Пусть опять в тюрьму гонят, – сказала Александра Семеновна. – Вы мне, мама, помогите к партизанам уйти…
– Чего он, катюга, хотел от тебя? Что говорил?
– Что бы ни говорил, оставаться мне здесь нельзя… Вы знаете, мама… – Александра Семеновна запнулась. Она собрала все свое мужество, чтобы сказать спокойно, но у нее вырвалось почти с воплем: – Поганая сука в Витюшкиной кровати спит…
– Тчш! Не волнуйся, Шура, заспокойся, дочко… Есть и на черта гром, – сказала Катерина Федосеевна. – Посоветуемся завтра со сватом. Он скажет, что делать…
Сашко́ уже спал, во дворе слышались голоса солдат, и Катерина Федосеевна успокаивала ее шепотом:
– Ложись, Шура, я тебе около печки постелила… Тепло будет…
Александра Семеновна покорно легла и сразу затихла. Но Катерина Федосеевна, спавшая все эти ночи чутким сном, слышала, как невестка почти до рассвета тяжело вздыхала, стонала и бормотала во сне что-то жалобное.
XXIV
Дни становились длиннее. Солнце проглядывало еще редко – февраль стоял пасмурный, с нескончаемыми снегопадами и вьюгами, но уже обозначался перелом к весне: тускнели, покрывались пепельно-серыми плешинами снегоэые просторы за селом. Все чаще дул ветер с юга.
По ночам прояснялось, и тогда на черном пологе неба высыпали такие крупные звезды, что светлее становилось и на земле.
Раньше, бывало, накинув кожух, выйдет криничанин в такую предвесеннюю ночь наведаться к скотине и долго стоит, слушая, как перекликаются петухи, как замирают на дальних кутках села голоса парубков и дивчат, расходящихся по домам с ночной гулянки.
Теперь над селом нависала по ночам глухая тишина, даже собачий брех и петушиный крик не нарушали ее.
Тяжело доживали криничане зиму. Тяжело и тревожно…
Подступал голод. Оккупанты отбирали скот, зерно, яйца, масло, теплую одежду. С богодаровской станции то и дело отправлялись в Германию товарные составы с награбленным добром.
Кузьма Степанович Девятко болел. Он по нескольку дней не слезал с печи, жаловался на ноги и поясницу. Пелагея Исидоровна добывала муравьиный спирт для втираний, делала припарки из сушеной мяты.