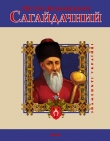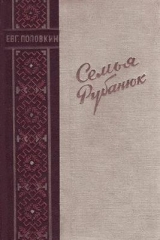
Текст книги "Семья Рубанюк"
Автор книги: Евгений Поповкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 55 (всего у книги 59 страниц)
Письмо было коротенькое и состояло главным образом из вопросов к матери о том, как она живет, не слышно ли чего о Настуньке. Быстро пробежав его глазами, Петро задержался на приписке в конце:
«…Дошли до меня басни о Петре и какой-то учительнице. Я им не верю, и человека, приславшего эти сплетни, не знаю, а Петра знаю. Не хочу думать, что он такой. Надеюсь скоро с вами повидаться…»
– Все это, мама, ерунда, – спокойно произнес Петро, возвращая письмо. – Я жду Оксану честно, с нетерпением.
Он впервые назвал Пелагею Исидоровну «мамой». Это взволновало женщину и, может быть, убедило ее больше, чем все другие слова Петра.
А он, увидев, как ее лицо просветлело и стало добрым, простым и чем-то напомнило лицо Оксаны, произнес повеселевшим голосом:
– Моим отцу с матерью и вам, Пелагея Исидоровна, стыдиться за нас с Оксаной не придется.
XV
Обещание, данное секретарю райкома Бутенко строителями межколхозной электростанции, было выполнено.
К Первому мая в Чистой Кринице, хуторе Песчаном, Сапуновке и еще в двух ближних колхозных хуторах появилось электричество.
Свет из-за нехватки проводов и малого количества изоляторов и лампочек был проведен пока только в общественные учреждения, на фермы и в бригадные дворы, но и те немногие яркие огни, которые вспыхивали теперь по вечерам, вызывали у криничан радостное, праздничное оживление.
Яков Гайсенко, охотно принявший на себя заведование электростанцией, повесил две большие лампы на высоких столбах у сельрады и около колхозного правления.
В теплые весенние вечера старики, подростки, женщины, сидя на завалинках, крылечках, смотрели на огни, переговаривались:
– Как в городе!
– Ну, в Киеве или в Харькове трошки больше таких каганцов.
– На пять лампочек, – иронически добавлял кто-то.
– Вот, повремените, Яша в хаты свет проведет, вот тогда…
– И молотить будем с электричеством?
– Ну, а как же!
Особенное восхищение вызвало у всех купленное колхозом оборудование для столярной мастерской. Здесь была и круглая пила, и строгальный и долбежный станки, электрорубанок. Ефим Лаврентьев быстро освоил все это богатство и ходил именинником.
– Погодите, поставим скоро моторы на соломорезку и корнерезку, – сулил Яков Гайсенко. – А летом поливную установку смонтирую огородной бригаде. Когда захотим, запустим себе дождик…
Но еще не остыло возбуждение, вызванное пуском электростанции, как радостное событие снова всколыхнуло село. Советские войска принудили остатки гитлеровской армии к капитуляции. Пожалуй, с возникновения Чистой Криницы ее широкие, ровные улицы и просторный майдан не видели такого буйного веселья, какое охватило село на рассвете девятого мая.
Никто не мог объяснить впоследствии, какими путями долетела до криничан весть о победе.
Когда Петро Рубанюк, услышав по радио правительственное сообщение, выскочил на улицу, чтобы поднять село, во всех его концах, в садах, левадах уже хлопали выстрелы из невесть как сохранившихся при оккупантах охотничьих ружей. У кого-то нашлись ракеты; сверкающие золотоискрые шары беспрестанно взмывались в небо, рассыпались над улицами, заполненными народом.
У хат, на майдане, в бригадных дворах – всюду, где собиралось хоть несколько криничан, дрожала земля от ударов каблуков – молодицы и дивчата плясали не переставая; не нашлось в селе человека, который не приложился бы к праздничной чарке горилки или хмельной сливянки.
В этот день в поле, за село, с утра вышли только парторг Громак, комсомольцы во главе с Полиной Волковой и плотник Ефим Лаврентьев с несколькими своими помощниками из строительной бригады.
На границе села, в сторону Богодаровского шляха, они спешно воздвигали массивную арку и дальше за ней наглухо вкапывали в землю аккуратные указатели, сделавшие бы честь любой самой благоустроенной фронтовой дороге в дни продвижения советских войск на запад.
По случаю победы готовился большой колхозный бал, и Петро смог выбраться из села лишь около полудни.
Ради праздника он надел новый, сшитый зимой у богодаровского портного костюм из добротною синего шевиота, галстук, фетровую шляпу, повесил все награды; криничане провожали его долгими, восхищенными взглядами.
Триумфальная арка, давно задуманная Громаком и Ефимом Лаврентьевым, уже возвышалась на взгорье, обсаженном зеленым кустарником и серебристыми тополями. Петро, подкатывая к ней на велосипеде, с удовольствием отметил, что она сразу придала въезду в село нарядный вид.
Громак, тоже в праздничном пиджаке, в новой сорочке с галстуком, сидел на бревне, смотрел, как Лаврентьев приколачивал последние доски, а Павка Зозуля и Гриша Кабанец, взобравшись на верх арки, выводили кистью крупные буквы:
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ДОБЛЕСТНЫЕ ВОИНЫ-ПОБЕДИТЕЛИ!»
Рядом, у обочины дороги, возвышался указатель, украшенный стеклышками стоп-сигналов, снятых с разбитых немецких автомашин:
ЧИСТАЯ КРИНИЦА
Петро проехал несколько дальше, соскочил, звеня орденами и медалями, с велосипеда, полюбовался на арку издали и подошел к щиту.
Громак поднялся с бревна, они постояли рядом, посмотрели на четко выписанные буквы.
– Не заблудятся теперь наши землячки? – шутя спросил Громак.
– В Европе не заблудились, а домой как-нибудь разыщут дорожку, – ответил Петро, прикасаясь пальцем к стекляшкам на указателе и щурясь от солнца. – Теперь уж скоро начнут возвращаться.
Он смотрел на родное село, живописно раскинувшееся над зеркальной полосой Днепра, на тенистые садочки, высокие журавли колодцев, белые хаты и думал о том, как оживет, забурлит Чистая Криница, когда домой вернутся отвоевавшиеся фронтовики, молодые парни и девушки, угнанные в Германию.
– Знаешь, Александр Петрович, – сказал он Громаку, – даже не верится, что война уже позади, что теперь знай спокойно работай, никакая фашистская сволочь не помешает.
– Война-то позади, а пакости на свете осталось еще немало, – с коротким вздохом ответил Громак. – Ну да головы разным гадам добре научились откручивать.
– Где же остальные ребята? – спросил Петро, оглядываясь по сторонам.
– А они пошли с Волковой щиты ставить.
– Проехать мне помочь?
– Помоги! Тут недалеко. Последний указатель в пяти километрах поставят и вернутся.
Петро вскочил на велосипед. Отъехав немного, он обернулся и, притормаживая, крикнул:
– Забыл сказать! Кинопередвижка из района приехала. Вечером картину посмотрим.
В полутора километрах, у развилки дорог, стоял деревянный указатель: «К Днепру». Еще дальше Петро увидел щит с надписью:
ДО КОЛХОЗА «ПУТЬ ИЛЬИЧА» 2 КИЛОМЕТРА
«Хоть кое-какой порядочек навели к концу войны, – думал Петро, разглядывая хорошо прокультивированные черные пары, густые посевы озимой пшеницы. – Жалко, до садов руки не дотянулись в этом году. Ну, теперь легче будет».
Комсомольцев он нашел у последнего указателя, на пятом километре от села. Они сидели рядышком у дороги, на поросшей молодой травкой насыпи, щелкали семечки. Волкова разбирала на коленях полевые цветы.
Груня Кабанец, озорная девушка, что-то сказала, и все, глядя на подъезжающего председателя, дружно засмеялись.
– С праздничком! – поздравил Петро, кладя свой велосипед на траву и подходя к ним. – У вас, вижу, весело.
– Какой там весело! – с притворным унынием откликнулась Груня. – Животы поподтягивало. Мы думали, вы нам обед привезли.
– Грунька сегодня второй раз пообедать еще не успела! – звонко воскликнула дочь школьной сторожихи Люба.
Все снова засмеялись.
– Был у нее кусочек хлеба, – продолжала Люба, – хотела размочить, а он в ведро не влез, так всухомятку и съела.
Петро с улыбкой смотрел на беспечно шутивших дивчат. Задержавшись взглядом на Волковой, он заметил, что глаза у нее были печальные.
«Это не годится, – подумал он. – Такой день, а на лице тоска».
Девушки немного побалагурили, поднялись, чтобы идти в село.
– А ведь хорошо придумали? – сказал Петро Волковой, стараясь задержать ее и указывая на деревянный щит. – Правда?
Девушка усмехнулась.
– Звучит солидно… «До колхоза „Путь Ильича“ пять километров»… Дивчата, погодите! Куда вы удираете?!
– Вы их догоните, – сказал Петро, придерживая ее за рукав.
Они пошли рядом.
Стараясь казаться веселой, девушка улыбнулась, но губы ее неожиданно дрогнули. Закрыв лицо руками, она заплакала. Петро растерянно смотрел на нее и не знал, что сказать.
Горе по соседству с радостью ходит. Петро вдруг понял: девушка в часы всеобщего торжества грустила о своем друге.
– Полина! – сказал он. – Слушайте, Полина… у каждого из нас есть о ком подумать в этот день. У меня погибла сестра, лучшие друзья погибли…
Волкова, не оглядываясь и прижав к щекам руки, быстро пошла к селу.
– Куда же вы?!
– Оставьте меня, – глухо пробормотала девушка. – Я хочу побыть одна… – И, сердито посмотрев на Петра, вдруг добавила: – Какое вам дело до меня? У вас своих забот много. Поезжайте…
Это было несправедливо и грубо. Петро, скрыв обиду, сказал:
– Напрасно вы так. Для нас всех вы стали родным, близким человеком.
Постепенно Петру удалось несколько отвлечь девушку от печальных мыслей.
– Помните, как мы в первый раз познакомились? – спросил он, когда они подходили к арке.
– Еще бы! Вы тогда чуть не искалечили меня. Кажется, это было совсем недавно, а уже скоро год… Неужели целый год?!
– Зато какой год! Будут вспоминать его и друзья наши и враги…
Волкова, глядя на празднично разряженных, ликующих людей, заполнивших улицы и дворы, снова стала грустной.
В этот день вечером Петро видел ее среди танцующих, а потом Полина незаметно исчезла.
…Затихли над селом последние звуки празднества, и люди шумно разошлись по домам. Петро долго сидел у раскрытого окна. Вот и пришел долгожданный мир, во имя которого пролили свою кровь тысячи таких чудесных советских людей, как Василий Вяткин, Григорий Срибный, Ганна и Степан Лихолит, Тягнибеда, Кузьма Степанович Девятко… Сколько жизней отдано во имя мира, во имя человеческого права свободно жить и трудиться!
Петро знал, как изголодались руки по мирному, привычному труду у тех, кто долго находился в окопах, и в его воображении рисовались самые заманчивые картины послевоенного мирного строительства.
Несколько дней он, как и все криничане, провел в ожидании, что фронтовики вот-вот будут возвращаться домой, но от Оксаны и Ивана одновременно пришли письма, из которых он понял, что из армии пока не демобилизуют и рассчитывать на скорую встречу нельзя.
– К зиме, не раньше, начнется демобилизация, – высказывал предположение Громак. – Американцам самим с японцами не справиться. Непременно запросят помощи у нас. Так что, товарищ председатель, придется нам летом рассчитывать на те силы, какие есть.
– Придется, – согласился Петро с огорчением: многие планы переустройства колхоза, выношенные им, отодвигались на неопределенное время.
Уже выбросили колос пшеница и ячмень: надо было усиленно готовиться к уборке. Подоспела первая прополка подсолнуха, подкармливались пропашные культуры; в саду нужно было выпалывать сорняки, уничтожать гусеницу.
Каждый вечер, собираясь с членами правления и бригадирами, Петро ломал голову над тем, как управиться с полевыми работами и одновременно дать людей в распоряжение Лаврентьева, Якова Гайсенко, Грищенко. Надо было строить новый скотный двор. На таборе Федора Лихолита подводили под крышу и штукатурили общежитие бригадного стана.
Лето начиналось трудно, и хотя за колхозом «Путь Ильича» упрочилась репутация надежного и даже крепкого колхоза, Петро был совершенно неудовлетворен результатами работы.
В середине июня Волкова, собираясь уезжать на время школьных каникул в Запорожье, зашла к нему в контору попрощаться и застала его расстроенным.
– Что с вами? – участливо спросила Полина, заметив, как он, сдвинув брови, ходит из угла в угол.
– Вы в Сапуновке давно были? – спросил он вместо ответа.
– Давно. Еще в марте.
– Значит, не видели, какую они ферму построили?
– Хорошую?
– Ангар, а не ферма. Масса света, электричество, автоматические поилки…
– Так и у нас же ферма строится!
– У нас! – Петро страдальчески сморщился. – На днях переключаем всех людей на уборочные работы.
– Сапуновка во время оккупации так не пострадала, как «Путь Ильича», – попыталась утешить девушка.
– Зато нам государство помогает больше. Стыдно брать уже… А что мы сами сделали?
Петро снова зашагал по комнате.
– Холода долго держались в начале весны, – сердито продолжал он, – теперь все сразу доходит: и озимка и яровые… Вот и тпру!.. Сели на мели!
Петро безнадежно махнул рукой.
– Так вы надолго уезжаете? – изменил он разговор.
– Собиралась на все лето. И вот… не знаю. Пожалуй, съезжу, повидаюсь – и обратно.
– Вам надо отдохнуть, – сказал он дружелюбно. – За вас Павлик Зозуля остается?
– Павлуша. Буду рваться сюда, я чувствую, – задумавшись, произнесла она и уже твердо добавила: – Да, недели через полторы вернусь.
* * *
Приближалась страдная пора. Гриша Кабанец уже привел на бригадный табор комбайн, прикрепленный к колхозу «Путь Ильича», когда Громак, ездивший в район, вернулся с новостями, взволновавшими все село. В Богодаровку прибыл первый эшелон с молодежью, освобожденной советскими войсками из фашистской неволи.
Катерина Федосеевна, услышав об этом вечером от соседки, тут же, как пришла со свеклы, в будничной кофте и старенькой юбке, побежала к сельраде.
Громак встретился ей на полдороге.
– Справляться о дочке? – улыбаясь, опередил он ее вопрос. – Петро ваш уже знает. Ждите домой завтра или послезавтра.
Боясь, не ослышалась ли она, Катерина Федосеевна переспросила:
– Александр Петрович… я про Василинку нашу спрашиваю. Не слыхали про нее? Хоть живая она?
– Так я про нее и говорю. Живая и даже веселая. Видел ее. Можете печь паляницы, Федосеевна. Настю Девятко, Варьку Грищенкову, Фросю Тягнибеду – всех повидал…
Не дослушав его, в радостной растерянности даже забыв поблагодарить за весть, Катерина Федосеевна заторопилась домой. Она боялась, что Василинка может явиться в ее отсутствие; дома никого не было.
В этот вечер в селе царила радостная суета. Родные вернувшихся с чужбины дивчат и хлопцев до поздней ночи готовили для них угощение, запасались выпивкой, наводили в хатах чистоту. Много горя хлебнули угнанные в неволю, и их хотели встретить как можно теплее и ласковее.
Катерина Федосеевна, не глядя на ночь, замесила тесто, к рассвету испекла любимых Василинкой кнышей с макой, пирожков с вишнями, поставила в погреб махотку с молоком.
Днем она наведалась с поля домой, забежала справиться к Пелагее Исидоровне. Сашко́ с обеда подался за село и прокараулил там до темноты, но так и вернулся один.
Катерина Федосеевна, истомившись ожиданием, накинулась на Петра:
– Не мог сесть на велисапед, пробечь в Богодаровку! Может, она хворая. Может, ей харчей повезти надо было.
– Я же около комбайна и лобогреек был до обеда занят. Потом совещание бригадиров, вечерний наряд… Будто вы не знаете!
– Я б сама туда побежала.
– Ну, хватит! – прикрикнул Остап Григорьевич. Старик волновался больше всех и уже несколько раз выходил к воротам, настороженно прислушивался к каждому звуку на улице.
– Завтра поеду, – сказал Петро.
Семья села вечерять. Мать поставила на стол миску с оладьями и глечик ряженки, как вдруг дверь из сеней распахнулась, словно от вихря. На пороге стала, тяжело дыша, Василинка. Лицо ее было так неузнаваемо искажено волнением, так бледно, что только по глазам ее, почти безумным от радости, можно было поверить, что это действительно Василинка. И хотя этого момента все давно ждали и каждый по-своему представлял его, появление Василинки казалось неправдоподобным.
Первое мгновение никто не мог произнести ни слова. Потом Василинка, уронив узелок, бросилась к сидевшим за столом и, смеясь, невнятно что-то бормоча, схватила в объятия и затормошила первым попавшегося ей Сашка́, прижалась к Петру и уже на груди у матери обессиленно и счастливо зарыдала.
Прошло немало времени, пока улеглась суета – объятия, поцелуи, слезы – и Василинку усадили за стол.
Подвигая ей дрожащими руками еду и неотрывно глядя на нее, мать всхлипывала:
– Ешь, доню! Какая ж ты худенькая… одни косточки. Наедайся! Сметанку бери, пирожочков.
– Я уже поправилась, – похвалилась Василинка. – Вы бы поглядели, какая была в Германии. Когда наши пришли и освободили, мы наелись вволю. И хлеба, и бекону, и борща себе наварили…
Петро принес из светлицы бутылку вина, разлил в стаканы.
– Ну, сеструшка, – сказал он, чокаясь. – За твое возвращение, за славную нашу армию!
– За армию и ридну краину! – добавила Василинка, переводя затуманенные глаза с Петра на отца, на мать. – Ой, как же мы скучали по ней!
– Ешь, ешь, – твердила мать. – Закусывай, а то опьянеешь. Косы заставили отрезать?
Проведя рукой по коротко остриженным волосам, Василинка судорожно глотнула. Лицо ее было изможденным, с печатью какой-то незнакомой робости, со множеством глубоких морщинок у некогда живых и ярких, а теперь потускневших глаз.
Она то по-старушечьи пригорюнивалась, то вдруг вскакивала и ластилась к матери, прикасалась к Петру, к домашним вещам, словно боялась, что все это сон. Поймав дичащегося ее кота, она незаметно прижала его к щеке и тихонько всплакнула.
Спустя полчаса в хату к Рубанюкам набились соседки. Они вздыхали, утирали кончиками платков глаза и разглядывали Василинку так, точно она явилась с того света.
– Где же ты мыкалась там, бедолашная? – допытывалась Степанида Горбань, соболезнующе разглядывая худые руки и покрытые веснушками острые скулы девушки.
– Сразу как пригнали нас, взял меня бауэр, – рассказывала Василинка почему-то шепотом. – Потом дивчата научили меня, как руки попортить, кислотой…
Она отвернула рукава старенькой, аккуратно заштопанной кофточки, обнажив рубцы лиловых шрамов на запястьях.
Соседки жалостливо ахали, а Василинка все тем же торопливым шепотом продолжала:
– Думала, домой отправят. А меня не отправили. Положили в лазарет, морили голодом, били.
Рассказывая, Василинка дрожала, и Остап Григорьевич, недовольно косясь на женщин, сказал:
– Ну, хватит! Что зря себе душу растравлять…
Но Василинка, убедившись, что можно не таясь делиться пережитым, все говорила и говорила:
– …Когда подлечилась, перевели на деревообделочную фабрику, в Мюнхен. Мы там носилки делали… Ой, а как пригнали нас всех спервоначалу на Гинденбургплац! Посходились фрау, старики, выбирают, щупают, как на базаре… Мы стоим, так стыдно, провалилась бы! Тогда меня и взял бауэр. В семье – он, хозяйка, старуха, девочка. Спала я у них на дерюжке, в чулане. Холодно, спину ломит.
– Хлопцы писали, что на заводе не так трудно было, – сказала одна из соседских девчонок.
– Писали, потому что заставляли. На фабрике деревообделочной еще хуже было. Фрау Мюллер поставили над нами, фюрершу, по-ихнему. Старая, лет семьдесят… в очках…. кости одни, глядеть гадко. А как ударит – и мужчина так не сможет. В другом цехе французы работали. Хорошие хлопцы были. Мы у них только и могли дознаться, где наши, что на фронте делается.
Уже было за полночь, когда разошлись люди от Рубанюков, а Василинка все не могла всласть наговориться. Она легла спать вместе с матерью, на ее кровати, и Остап Григорьевич, выходивший уже перед зорькой загнать в хлев вырвавшуюся на волю телушку, слышал перешептывание матери и дочки.
XVI
Дня два дивчата и парни, вернувшиеся из Германии, ходили по гостям, навещая родню и знакомых и отъедаясь домашними яствами, а потом стали появляться в колхозном правлении, у Петра, настаивая, чтобы им поскорее дали работу.
Василинка пришла вместе с Настунькой. Петро до этого виделся со свояченицей только мельком и сейчас разглядывал ее с критическим любопытством.
Пребывание в Германии наложило отпечаток на ее внешность. Свои рыжеватые волосы Настунька укладывала на темени каким-то причудливым кренделем.
Петро сказал ей насмешливо:
– Вижу, Настя, набралась ты «культуры» в Европе!
– Вот это? – Настунька смущенно ткнула пальцем в крендель на голове.
– Это самое… Брось, Настуня, эти фигли-мигли. Глядеть неприятно.
– И верно, Настунька, – поддержала брата Василинка.
Там осточертело глядеть на эти бублики, а ты еще здесь всем очи мозолишь. Я себе косы отпущу.
– Ну, добре, – кивнула Настунька, – я себе тоже отращу. Так завтра мы с Василинкой на степь пойдем, Петро Остапович?
– Федор Кириллович скажет, что делать. У него плохо с людьми…
Парни и дивчата с жаром взялись за работу, с какой-то особой радостью повиновались всем колхозным порядкам и дисциплине. Чувствовалось, что молодежь, изведавшая позор и мучительное бремя фашистской неволи, с удесятеренной силой стала любить свою родину, по-новому оценила все то, что раньше казалось обычным, само собой разумеющимся.
Вскоре после начала молотьбы вернулась в Чистую Криницу Полина Волкова. Весь свой отпуск она проводила в степи..
– Дивчата требуют, чтобы их в комсомоле восстановили, – сказала она как-то Громаку и Петру. – Некоторые даже свои комсомольские билеты сумели уберечь, здесь, в селе, спрятали. Как поступим?
– Пускай пока работают, – сказал Громак. – Огулом подходить нельзя. Будем каждого принимать индивидуально… Так, Остапович?
– Совершенно верно. Приглядимся, кто как работает, что у него на совести.
– Очень старательные ребята, – похвалила Волкова. – Бригадиры уже кое-кого к премии собираются представлять.
* * *
Еще летом стали возвращаться пожилые фронтовики, потом, после капитуляции японской армии, начали прибывать эшелоны с демобилизованными, которые побывали в Берлине, на Эльбе, в Харбине.
Теперь казалось, будто и не пережила Чистая Криница столько бед: снова разносились до первых и вторых петухов над селом и левадами девичьи песни, весело перекликались баяны, балалайки, губные гармоники.
Как-то перед вечером в правление колхоза к Петру зашли Яков Гайсенко и Михаил Грищенко – сын колхозного плотника Павла Петровича, служивший в армии связистом и на днях вернувшийся с фронта.
– Штучку одну обмозговали, Петро Остапович, – сказал Гайсенко, – можем свой телефонный коммутатор заиметь.
– Каким образом?
– Лежит один трофей у нас на складе. Уже ржаветь начал. Вот Мишка глядел, говорит – вполне подходит… Могли б связать правление с бригадами, с электростанцией, сельрадой и так далее.
– Перебрать, почистить надо, и точек пятнадцать – двадцать обеспечу, – подтвердил Грищенко.
Он стоял, опустив по солдатской привычке руки по швам, и Петро с удовольствием поглядывал на его румянощекое лицо. Сейчас таких здоровых, расторопных парней в селе появилось много, и они охотно брались помогать колхозу.
– А кабель, аппараты где достанем? – спросил Петро. – Кто будет сидеть на коммутаторе?
– Кабель нам черногуз в клюве принесет, – загадочно ухмыляясь, ответил Гайсенко, – моточка три-четыре. А об аппаратах уж вы, товарищ председатель, похлопочите. Из райсвязи монтеры были, провод в сельраду тянут. Они говорят, остановки за аппаратами не будет, абы разрешение начальства.
– А на коммутатор, товарищ председатель, можно посадить мою сестренку Варю, – добавил Грищенко. – Я ее за два-три дня обучу. Дело нехитрое.
– Что ж, – подумав, сказал Петро. – Если больших расходов не требуется, давайте. Аппараты беру на себя.
Они тут же осмотрели пустующую полутемную комнатку в правлении, которую Петро наметил для установки коммутатора, определили, куда прежде всего надо тянуть телефонный провод.
В первую же поездку в Богодаровку Петро достал шесть аппаратов, и Михаил Грищенко с энтузиазмом принялся мастерить несложную станцию.
За три дня до Октябрьских праздников явился домой Алексей Костюк. Он приехал поздно вечером на попутной автомашине и вскоре пришел к Рубанюкам.
Все, кроме Василинки, были в сборе. Алексей, широкоплечий, тщательно выбритый, прежде чем раздеться, степенно поздоровался со всеми за руку, поцеловался с Петром. Сняв фуражку и солдатскую шинель с эмблемой танкиста на погонах и повесив их на гвоздь у двери, подошел к столу.
– Э, да ты, брат, вот с чем домой вернулся! – с искренним восхищением сказал Петро, заметив на гимнастерке Алексея золотую звездочку Героя, прикрепленную повыше других орденов и медалей. – Ну, поздравляю, поздравляю! Где заработал?
– На Одере, – ответил Алексей, расчесывая чуб, и, мельком взглянув на два ряда орденских ленточек Петра, подмигнул. – У тебя вроде побольше моего!
– А все-таки, за что Героя получил?
– Все ребята моего экипажа по звездочке получили, – с гордостью сказал Алексей. – Мы на Одере первыми ворвались к фрицам. Нас, понимаешь, заградительным огнем отрезали, а мы не сдрейфили – на огневые позиции! Расчеты передавили, наделали паники немцам. Тут и наши поднажали. А сдрейфили б, – все!
– Совсем вернулся или в отпуск?
– Совсем.
– О Нюсе вашей ничего не слышно? – осведомилась Катерина Федосеевна.
– Мы с ней переписку имели, а сейчас как-то потерялись. Думаю, что она где-то в оккупационных войсках.
Алексей и говорил и держался с достоинством, подобающим его почетному званию. Он угостил Петра и Остапа Григорьевича дорогими папиросами, а когда чуть позже в кухню влетела запыхавшаяся Василинка, он, поразив всех, встал и подвинул к ней табуретку. Но девушка и бровью не повела.
– А Оксана что ж, не приехала еще? – спросил он, искоса разглядывая Василинку.
– Нету нашей Оксаны, – со вздохом ответила Катерина Федосеевна. – Из всех, наверное, одна осталась.
– Обещала к празднику приехать, – добавил Петро, – да, видно, что-то помешало.
Алексей посидел еще с полчаса. Когда он собрался уходить, Петро поинтересовался:
– Что думаешь делать, Леша? Чем займешься?
– Бутенко решит. Меня восстановили в партии, знаешь?
– Да, батько говорил.
– Механиком в эмтеэс опять хочу пойти. Ну, бувайте здоровеньки! С матерью еще и не поговорил как следует.
После его ухода Василинка важно села на табуретку. Закинув ногу на ногу и стараясь придать своему голосу как можно больше солидности, она похоже передразнила:
– Кгм! Мы с Бутенко порешим, как там и что.
– Такой шальной был, бедокур на все село, – смеясь ее шутке, сказала мать. – А теперь, гляди, каким стал!
– Он хороший парубок, – вставил Остап Григорьевич. – Бутенко его еще в лесу образовал.
Петро молча поднялся и пошел к себе в комнату. Каждый раз, когда кто-нибудь возвращался домой с фронта, его начинала одолевать все большая тоска по Оксане.
Он сел к столу и написал ей длинное письмо, упрекая за долгое молчание и прося более настойчиво добиваться демобилизации.
В конце ноября от Оксаны пришли сразу телеграмма и письмо. Телеграмма была из Киева. Оксана сообщала о времени прибытия в Богодаровку и указывала номер вагона.
XVII
Петро с Пелагеей Исидоровной подъезжали к богодаровской станции, когда пассажирский состав с белыми от инея вагонами уже подходил к перрону.
– Говорил, опоздаем! Жми давай! – торопил Петро Гичака, и без того стегавшего взмыленных лошадей.
С момента получения телеграммы Петра ни на минуту не покидало чувство радостной приподнятости. Он плохо спал – все представлял себе встречу с Оксаной. Временами его охватывала смутная тревога. Прошли многие месяцы после того, как они виделись. Может быть, Оксана изменилась за это время и встреча будет менее теплой, чем хотелось бы Петру. Ведь бывает же, что долгая разлука делает и очень близких людей чужими!
Все произошло иначе, чем рисовалось Петру. Не успели подъехать к вокзалу, как он заметил Оксану, стоявшую у выхода на привокзальную площадь с чемоданом в руке.
Оксана тоже увидела мать и мужа. Ее лицо просветлело, и она побежала к Петру, соскочившему с брички на ходу, с такими сияющими, счастливыми глазами, что все его терзания и сомнения вмиг развеялись.
– Родненькие мои! Думала, не встретите, – отрывисто и часто дыша от волнения, говорила она, целуя Петра в щеки, губы, лоб. – Боялась, успеет ли телеграмма… Мамонька моя, золотце…
Оксана оторвалась от Петра, чтобы поцеловаться с матерью, потом, держась за его руку и заглядывая ему в лицо, сказала:
– Выглядишь хорошо… Не болел? Как твоя рана?
– Я уже и забыл о том, что меня оперировали.
Петро, поправляя выбившийся у нее из-под синего берета с красной эмалевой звездочкой завиток волос, ощутил ее горячий влажный лоб, а она это прикосновение его грубых, шероховатых пальцев приняла с радостью.
– Ну, а ее скоро сымешь? – спросила мать, кивнув на шинель Оксаны с узенькими серебристыми погонами. – Уже все домой вернулись.
– Сниму, сниму! Приедем… и все! Что же мы ждем? Здравствуйте, дядя Андрей! Давайте поедем.
– Лошадей чуточку подкормим и тронемся, – сказал Петро. Они стояли около брички, и нетерпеливым взаимным вопросам, казалось, конца не будет.
– Как там Иван Остапович наш? – спрашивал Петро, затягиваясь дымком от папироски и осторожно выпуская его в сторону. – Не обещал приехать?
– Говорил, в отпуск обязательно приедет. Он ведь Герой Советского Союза. Не читали в газетах?
– Ну?! Как же это мы пропустили!
– Герой, Герой! Генерал-лейтенант…
– Молодец Иван! Леша Костюк, между прочим, тоже со звездочкой вернулся. Он у нас теперь директор эмтеэс.
– Сколько новостей!
– Иван не женился? – полюбопытствовала Пелагея Исидоровна.
Оксана замялась.
– Как будто к этому дело идет, – сказала она неуверенно. – Ты ее знаешь, Петрусь… Аллочка…
– Которая с тобой под Москвой была?
– Ага!
– Вот это неожиданная новость! Пара ли Ивану? – удивленно сказал Петро. – Правда, я плохо помню ее.
– Я и сама долго не могла ее понять. А последнее время полюбила. Она, знаешь, скрытная очень. Ей тяжело было на фронте. Сильно она тосковала по девочке. А никогда не выдаст своих переживаний. Еще других подбадривает. И какой товарищ прекрасный! Нет, если Иван женится на ней, Алла будет чудесной женой.
– И как у них?
– Ты знаешь, она сперва и слышать не хотела об этом. А потом плакала навзрыд у меня. Она ведь давно любит Ивана Остаповича. «Он, говорит, такой человек, за него можно жизнь отдать, не задумываясь. Что я смогу сделать большого и хорошего для него!»
– Она в медсанбате по-прежнему?
– На днях должна демобилизоваться.
Минут через тридцать Андрей Гичак, напоив коней и кинув в передок брички, себе под ноги, торбы с остатками овса, объявил:
– Так что можно трогаться.
Лошади, словно и не пробежали до того двадцать километров, пошли резво и к двум часам докатили бричку до криничанских земель.
Оксана сидела сзади, рядом с матерью, укутанной в большую шерстяную шаль, и не сводила с Петра глаз.
– Я тебя о главном не спросила, – сказала она, когда бричка миновала указатель невдалеке от села. – Как твоя карта?
– Закончил. На днях обсудим на правлении.
– А это кто придумал? – оглядываясь на щиток, показала она рукой.
– Комсомольцы наши. Парторг.
– Я ведь кандидат партии, Петро. Кто парторгом у нас?
– Громак.
– А в комсомоле?