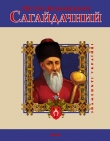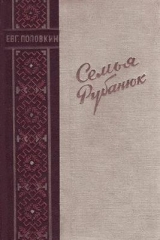
Текст книги "Семья Рубанюк"
Автор книги: Евгений Поповкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 59 страниц)
Твоя молодая женушка».
Петру почудился запах мяты. Он приблизил письмо к губам. Нет, просто память вызвала к жизни то, что когда-то промелькнуло и запечатлелось. В прохладной чистой хате, где провели Петро и Оксана последние минуты перед отъездом, гак хорошо пахло любистком и мятой.
Петро весь остаток дороги разглядывал затуманенными глазами наивные васильки на уголке письма, косые фиолетовые строчки. Перед тем как войти в село, он огляделся и крепко прижал письмо к запыленной гимнастерке.
…На медпункте у Петра извлекли из подбородка два небольших осколка, промыли и перевязали рану. Через полтора часа он был уже в роте.
А спустя еще десять минут противник, перегруппировав, свои силы, начал новую атаку.
XII
За день полк выдержал еще два яростных натиска. К вечеру вражеские солдаты, окончательно измотанные, отошли на исходный рубеж и активности больше не проявляли.
В роте Людникова были тяжелые потери: из строя выбыло больше половины личного состава. Людникову в последней атаке задело осколком предплечье. Быстро перебинтовав рану, он продолжал ходить по своим взводам и, осипший, но по-прежнему настойчивый и требовательный, сводил остатки роты в боеспособное подразделение.
В сумерках он наведался к пулеметчикам. Тахтасимов и Брусникин сидели на бруствере, свесив в окопчик ноги, и грызли размоченные в воде сухари.
– Сидите, сидите, – поспешно и приветливо сказал Лютников, заметив, что они хотят подняться.
Ему было известно во всех подробностях, как они вели себя в бою. По ним непрерывно бил миномет. Потом стреляла прямой наводкой вражеская пушка. Расчет трижды менял огневые позиции. Когда пулемет все же был разбит, пулеметчики, сидевшие в это время в укрытии, вместе со всеми пошли в контратаку.
Все это Людников знал и, как только противника отбросили, прислал связного передать, что действиями расчета доволен.
Но все же он посчитал нужным сделать несколько замечаний.
– В атаке вы слишком мешкаете, – сказал он Брусникину. – Потому вас и царапнуло. Живости нет.
– В другой раз не подкачаю, товарищ лейтенант, – пообещал Брусникин, краснея.
Ему было неловко за свой недавний страх, и он тщетно старался скрыть свое смущение.
Людников оглянулся.
– А Рубанюк где?
– Спит, товарищ лейтенант. Вон там, под кустиком, – показал Тахтасимов. – Прикажете разбудить?
– Не надо… Смелый он хлопец.
– Очень смелый, товарищ лейтенант.
– Горячий только чересчур.
Людников посидел еще немного, наслаждаясь коротким отдыхом, затем ушел к патронному пункту.
Около полуночи полк отвели во второй эшелон. Сменила его кадровая дивизия, с боями отходившая от Збруча. Дивизия, сдерживая врага, прошла не один десяток километров, была обескровлена, но каждый боец ее дрался за четверых.
Рота Людникова расположилась в садах Большой Грушевки, откуда только что выехал дальше в тыл медсанбат.
Петра, который немного поспал, назначили дневалить.
В темноте он ощупью нарвал в каску вишен и, прислонившись к дереву, глядел в сторону передовых позиций.
Черный полог небосвода на западе беспрерывно рвали багровые зарницы орудийных выстрелов. Трепетало марево ракет. Месяц нырял в оранжевое облачко и снова выплывал на чистые просторы темно-синего неба.
Где-то за мостиком скрипели колеса повозок, из глубины сада доносился негромкий говор. Петро с удовольствием вдыхал домашний запах ржаного хлеба…
Гитлеровцы пошли в наступление на рассвете. Их свежие танковые части и мотопехота, поддержанные авиацией, за три часа кровопролитных боев прорвали оборону и разрезали силы оборонявшихся.
Командир дивизии отдал приказание отходить в направлении станции Христиновка, ведя арьергардные бои одним полком.
Проселочной дорогой, которая шла на северо-восток вдоль леса, можно было, сделав небольшой крюк, выйти к Гайсину.
На эту дорогу и устремились отступающие части и поток беженцев из Большой Грушевки и окрестных хуторов.
В повозках, с впряженными коровами и молодыми бычками, сверх домашнего скарба – сундуков, цыбарок и узлов – сидели, испуганно тараща глаза, ребятишки, старухи. Вдоль узкой дороги, растекаясь по зреющей озими и поднимая ее копытами, брели коровы, отары овец.
Петро шагал с Брусникиным и Мамедом в хвосте роты. Вскоре к ним присоединился Михаил Курбасов. Свой пулемет – один из двух, уцелевших в роте, – он поставил на повозку старшины.
Петро притронулся рукой к плечу Михаила и кивнул на степь. Он давно уже приметил пожилого, одетого в добротный темный костюм человека, шагающего в густых хлебах недалеко от дороги. Рослая пшеница была человеку по грудь, но он продолжал шагать, скинув картуз и поминутно отирая рукавом лысую макушку. Время от времени он останавливался, срывал колосья, мял их в руке и снова брел дальше. Дойдя до вспаханной земли, человек свернул на дорогу.
Он встретился с настороженными взглядами бойцов и, будто очнувшись, быстро проговорил:
– Бачыте, що ворогу оставляем? Это ж участок моей бригады. По сто пудов с гектара думка была взять. И взяли б…
Ему очень хотелось, чтобы оценили труд и достижения его бригады. Видя, что бойцы слушают его сочувственно, он оживился и стал рассказывать о том, как хорошо было наладились дела. Возле пшеничного клина он задержался, осторожно сорвал несколько колосьев.
– Вот, – показал он, – если в хлеборобстве понимаете, товарищи красные бойцы. Сортовая! На семена засеянная.
Бригадир с грустью смотрел на колоски, широкая ладонь его словно одеревенела. На лице бригадира, лоснящемся от пота, резко проступили скулы, вырисовались морщины под глазами.
– Эх, товарищи! – сказал он, вздохнув. – Не будет он ею пользоваться!
Торопливо, как бы боясь передумать, он пошарил в кармане, вытащил спички. Опустившись на корточки, сгреб оброненную кем-то на дороге солому, сделал из нее несколько пучков и зажег их. Горящие пучки он растыкал в нескольких местах и, услышав, как начала потрескивать пшеница, побежал, низко нахлобучив картуз и не оглядываясь.
Впереди клубился дым над подпаленным ранее участком озимой ржи. Рожь была еще зеленоватая и загоралась неохотно. От подвод отделялись люди: они раздували огонь в тлеющей соломе и с ожесточенными лицами совали горящие пучки в хлеба.
В трех-четырех шагах от Михаила шла, поскрипывая щегольскими полуботинками, красивая, полная молодица с небольшим узелком в руке. Пыль оседала на ее накрахмаленной косынке, на густых бровях и ресницах. Но даже и сейчас она выглядела аккуратной и опрятной, и, глядя на нее, легко было представить ее хату – чистую и прохладную, со свежесмазанным, усеянным травой полом, со сверкающими белизной занавесками на окнах.
Молодица, держа в зубах былинку и покусывая ее, молча смотрела на горящую степь.
– Что же это налегке, тетенька? – спросил ее Михаил. Женщина быстро оглянулась, метнула на него из-под платка глазами.
– Без вещичек почему, тетенька? – повторил Михаил.
– Не знала, что у меня такой племянничек есть, – насмешливо отозвалась она.
– Чем плохой? – поправляя пилотку, игриво спросил Михаил.
– Герой… Поперед старых дедов отступает.
Михаил с Петром переглянулись.
– Сердитая, – смущенно сказал Михаил.
– На сердитых воду возят. А на мне не повезешь.
Молодица строго уставилась на него светлыми глазами.
– Вы что ж одна? Одинокая? – поинтересовался Петро.
Молодица не ответила и, замедлив шаг, отстала. Голубоватая косынка ее мелькала некоторое время среди подвод, потом исчезла в облаках пыли.
Далекий прерывистый гул самолета заставил всех поднять головы.
– «Костыль» распроклятый летит, – сказал незнакомый боец. К его вещевому мешку были привязаны ботинки.
– Какой-такой костыль? – спросил Мамед. Он впервые видел горбатый «хеншель».
– Лучше б сорок других прилетело, – зло сказал боец. – Отбомбились бы и ушли. А этот вот прилетит, выключит моторы – вроде ты голый… Всего обсмотрит. А потом покличет бомбардировщика.
Предсказание сбылось. Разведчик покрутился над дорогой и скрылся за лесом, а минут через десять послышался тяжелый гул.
Петро оглянулся. Резко выделяясь на фоне белых облаков, приближался «юнкере». На темных его плоскостях смутно были видны черно-желтые кресты. Кренясь, «юнкере» пошел прямо на проселок. Толпа засуетилась, с подвод посыпались в придорожные канавы детишки и женщины. Всхрапывающие кони понесли вскачь две-три брички по ржи и подсолнухам в сторону от дороги.
– Ну, сейчас даст, – сказал кто-то.
Над дорогой тонко засвистели пули. Забавляясь, летчик выстрачивал короткими очередями по мечущимся людям: тр-р… тр-р… трр-трр… тр-тр-тр… трррррр… тр… тр…
Петро, как сквозь туман, видел рухнувшую на обочине дороги лошадь, сумасшедшие от страха глаза женщины, на руках которой побагровел от крика ребенок. Рядом стреляли Михаил и Мамед Тахтасимов. Глухо такали ручные и зенитные пулеметы.
Самолет вдруг пошел креном, выровнялся и резко начал падать, оставляя за собой хвост грязного дыма. Он еще раз попытался набрать высоту, задрал нос и тогда уже с лету врезался метрах в двухстах от дороги в кукурузу.
– Туда, хлопцы! – крикнул Михаил. – Летчик, наверно, жив.
От дороги к месту падения самолета, опережая друг друга, устремились, бойцы, ребятишки, женщины.
Петро с Михаилом добежали, когда невдалеке от горящего самолета уже плотно сбилась толпа. Рослый сержант одной рукой держал летчика за расшитый галунами мундир, а в другой у него поблескивал отобранный пистолет.
– Стрелять хотел, – обращаясь к толпе, взволнованно пояснил он и вдруг широко размахнулся и огрел летчика по затылку.
Белокурая прядь волос летчика мотнулась, но он сейчас же выпрямился и озлобленно посмотрел на толпу.
– Ты детишек зачем расстреливаешь? – крикнул сержант. – Подлю-юга! Бандит!
Петро, протискиваясь вперед, услышал, как летчик, презрительно глядя на сержанта, сказал:
– Никс стрелять… тетишек…
– Никс? – разъярился сержант. – Гитлеровская морда! Что ж ты, конфеты кидал?
В круг людей прорвалась женщина. Петро узнал молодайку с узелком. Она подошла вплотную к летчику, в упор разглядывая его холеное лицо с выпуклыми светлыми глазами.
– Ты ему еще цыгарочку поднеси, – сердито бросила она сержанту. – Разговоры завел…
И прежде чем сержант успел ответить, она рывком потянула фашистского летчика к себе и сильной рукой швырнула его к толпе.
– Бейте его, бабы! – взвизгнула она высоким рвущимся голосом.
– Эй, тетка! Самосуд устраиваешь? – крикнул рослый сержант и загородил своим телом летчика. – Он нам живой пригодится. Такой «язык» с неба свалился, а ты…
…В километре от леса поток беженцев и воинских частей повернул обратно. Переполох подняли мчащиеся навстречу люди в повозках из обоза какого-то полка. Они сообщили, что дорога на Гайсин отрезана танковым десантом противника.
XIII
Последний раз Петро разговаривал с Людниковым в полдень на выгоне за хутором.
Вражеские бронемашины прорвались со стороны Большой Грушевки, пронеслись окраиной и свернули к вербам, отрезая советским подразделениям выход на дорогу.
Людникову удалось собрать десятка три бойцов из своей и других рот. Он отозвал Петра и торопливо сказал:
– За огородами, вон там, где конопля, два наших пулемета. Патроны есть. Кройте туда, к пулеметчикам. В случае чего, прорвемся к лесу. А я соберу по хутору бойцов.
Петро крикнул Брусникина и Мамеда, и все вместе они побежали к конопле.
Тут расположилось несколько бойцов. Петро сразу обратил внимание на то, что оружие их свалено в кучу, у пулеметов.
– Вы что, в санаторий приехали? – крикнул он. – Разбери винтовки.
– А ты что за пень вылупился? – огрызнулся высокий боец с грязной, запыленной повязкой на левом глазу. – Ишь, строгий какой.
Петро пристально посмотрел на него, сдвинул брови и тихо, но твердо приказал:
– Сейчас же разобрать оружие! Тахтасимов, проверить пулеметы!
– Над нами поставили одного такого начальника. Чего орешь! – неохотно поднимаясь, сказал боец с повязкой на глазу. – Вон, возьми его за рупь двадцать.
Он кивнул в сторону подсолнухов. Оттуда, шелестя листьями, вынырнул Михаил. В подоле его гимнастерки лежали крупные желтоватые огурцы, головки лука.
– Сейчас подзаправимся, – широко улыбаясь Петру, сказал он. – Огурчики…
– Не время, Мишка, – недовольно прервал его Петро. – Накроют нас здесь фрицы, будут тогда всем огурчики.
У Петра сбилась повязка, показалась кровь. Поморщившись, он поправил бинт и сказал:
– Без драки мы отсюда не выберемся. Так и Людников полагает. А у вас оружие вон в каком виде.
Михаил молча роздал огурцы и начал возиться у своего пулемета.
В лесу, совсем недалеко, разгоралась ружейная перестрелка, и бойцы зашевелились энергичнее: приготовили гранаты, помогли установить пулеметы.
…Собрав на хуторе бойцов, Людников приказал им накапливаться на окраине и присел на завалинке, чтобы перевязать руку.
Близкое гудение моторов заставило его вскочить. Из-за угловой хаты появился танк. Тотчас же в башенном люке показалась голова танкиста. Сняв шлем, он огляделся и заметил Людникова.
– Рус, сюда! – поманил он его пальцем.
Людников с лихорадочной поспешностью схватился за пистолет.
Выстрелить он не успел. В конце улицы показались мотоциклисты. Машины приближались с бешеной скоростью, и Людников, перемахнув через низенький плетень, побежал огородами, прячась в подсолнухах и за кустами бузины.
Когда находившиеся возле пулемета заметили танк с фашистской свастикой, боец с повязкой, блестя одним глазом, сдавленно сказал:
– Ну, труба нам, ребята! Давайте сматываться, покудова они нас не обнаружили.
Петро не забывал, что в хуторе остался с бойцами Людников. Он подумал, что командир роты ни за что не оставил бы своих людей.
– Отползайте в лес, – негромко приказал он красноармейцам. – Мы придержим гадов.
– Да скорее уходите, – добавил Михаил. – Винтовки не забудьте.
Он довольно спокойно выкатил пулемет на тропинку и залег.
Бойцы начали отползать гуськом меж грядками, волоча за собой оружие и патронные коробки. Мамед и Брусникин остались около второго пулемета.
В эту минуту показались мотоциклисты. Они с треском неслись по хутору.
– Чесанем их – и ходу! – почему-то шепотом сказал Михаил.
За выгоном захлопали сперва редкие, затем участившиеся выстрелы. Осторожно высунув голову, Петро увидел бегущих к садам бойцов. Они пригибались, стреляли, снова бежали.
– А ну, жми, Мишка! – сказал Петро, нервничая. Михаил дал длинную очередь. Где-то близко короткими очередями бил Мамед.
– Есть два! – возбужденно крикнул Брусникин. Вражеские солдаты рассыпались и залегли под плетнями.
Несколько автоматных очередей сухо защелкали у крайней хаты. Чиркнув по головке подсолнуха, низко дзенькнула пуля.
Минуты через две гитлеровцы осмелели. Прячась в кукурузной поросли, спешенные мотоциклисты стали просачиваться на огороды.
– Давайте уходить, – сказал Петро. – Живее! Прихватив с собой замки от пулеметов, они ползком выбрались к стогам сена и, скрываясь за ними, побежали в лес. И вдогонку им свистели пули, и когда они уже достигли опушки, Брусникин вдруг завопил не своим голосом. Ему раздробило пулей бедро.
– Потом перевяжем, – склоняясь над ним, сказал Петро. – Идти можешь?
Брусникин стих, но потом застонал еще громче. Кровь хлестала безостановочно. Петро с Мамедом, сложив руки, понесли его.
Отойдя немного, они бережно положили Брусникина на мшистую землю. Петро осторожно отодрал от его дрожащего тела мокрую, быстро черневшую сорочку.
– Разрывная, – тихо сказал Михаил.
– Эх, как назло! Ни иоду, ни бинтов.
– Там… в сумке… полотенце есть, – бессильно произнес Брусникин.
Его перевязали чистым полотенцем и понесли дальше. Шли молча, углубляясь в лес.
XIV
После всего, что было пережито за последние сутки Петром и его товарищами, лесная тишина казалась им странной и подозрительной. Они настороженно оглядывались по сторонам, говорили вполголоса. Брусникина несли поочередно, смастерив носилки из плащпалатки и двух жердей.
Перед сумерками присели у густого, повитого паутиной орешника.
Михаил через несколько минут встал, поднял кверху горящие ладони, потряс ими, сгоняя кровь, затем вытянул по швам и сказал, подражая Людникову:
– Комендантом укрепрайона назначаю Рубанюка.
– А сам на какую должность хочешь пристроиться? – спросил Петро без улыбки.
– Начальником продсклада. У кого что в сумках или карманах завалялось, немедленно сдать на хранение. И в первую очередь табачок.
Запасы оказались жалкими: несколько сухарей, две банки мясных консервов, семь кусочков сахара с налипшими на них крошками махорки. Сейчас, когда можно было сиять обувь, раскинуть ноги и прижать воспаленные ступни к прохладной траве, об еде никто и не думал. Но спустя некоторое время голод дал себя почувствовать.
– Еще не раз вспомним роту, – мечтательно произнес Михаил. – Каши сколько хочешь, вечером чаек, впереди тебя боевое охранение.
– Дд-а, тут подтягивай пояс, – откликнулся Петро.
Михаил повертел в руках консервные банки, сунул одну из них обратно в вещевой мешок, а другую, открыв плоским штыком, поставил перед Брусникиным.
– Получай спецпаек, – сказал он, стараясь придать своему голосу беспечность и веселость. – Чтобы все слопал.
– У нас поговорка старый есть, – сказал, подсаживаясь к Брусникину, Мамед. – У кого борода нет, то каждый из своего борода по один волос дает – и у него будет борода! Кушай, друг.
Он судорожно глотнул слюну и, смутившись, негромко прокашлялся.
– В груди жжет, – пожаловался Брусникин Петру, когда тот склонился над ним. – Пить хочется… А есть не хочется…
Он видел, что товарищи голодны, ему и самому хотелось есть, и он жалел, что не может сесть со всеми в кружок. Тогда бы банку разделили на четыре равные порции, и он свою ел бы со спокойной совестью.
– Мы сейчас чаю горячего для тебя сообразим, – пообещал Петро. – Мамед, бери котелок, пойдем.
– Где вы воду возьмете? – усомнился Михаил.
– Все будет. Пошли, Мамед!
Минут через двадцать они действительно вернулись с полными котелками мутной воды. Развели костер. Мамед искусно прикрыл его ветками и сидел рядом на корточках, пока не закипела вода.
– На чайном фронте прорыв ликвидирован, – глубокомысленно отметил Михаил, – а вот с куревом плоховато…
– Дня на два хватит? – встревоженно спросил Мамед, ярый курильщик.
Михаил, прикинув на глаз содержимое кисета, неуверенно сказал:
– Хватит, если выкуривать три цыгарки в сутки… каждую на всех.
– Не будем же мы в лесу век торчать, – сказал после долгой паузы Петро. – Может, завтра пробьемся к своим.
Но предположения его не сбылись. Весь следующий день они шли, стараясь продвигаться на восток, а в сумерки, к своему ужасу, убедились, что попали на то место, которое проходили раньше.
Михаил узнал выкинутые им накануне старые, истлевшие стельки из соломы, на примятой траве валялась пустая консервная банка.
– Вот это здорово! – сказал озадаченно Петро. – Так мы блуждать будем, пока к фашистам в лапы не попадем…
Посоветовались и решили, что Петро с Михаилом на рассвете пойдут на разведку к хутору, а заодно попытаются раздобыть чего-нибудь съестного.
Спали в эту ночь плохо. У Брусникина резко повысилась температура. Он дышал тяжело, прерывисто. Остатки продовольствия были съедены еще утром, всех мучил голод.
Михаил долго ворочался на своем ложе из сосновых веток, потом окликнул:
– Петро, а Петро!
– А!
– Где ежа достать?
– На кой он тебе?
– Говорят, в солдатском брюхе и еж перепреет.
Друзья рассмеялись. Петру вспомнились студенческие годы. Чаще всего они приходили в общежитие ночью, проголодавшиеся, но веселые и озорные, долго не давали друг другу уснуть.
– Михайло!
– Ну?
– А курицу мы тогда с тобой у Любаши не доели.
– Я от пирога с гусиной печенкой отказался. Не лезло!
– Теперь, небось, полезло бы?!
Брусникин заскрежетал во сне зубами, и друзья притихли. Петро лежал на спине с открытыми глазами и смотрел на яркую звездную россыпь. Ни канонады, ни гула самолетов не было слышно, и он подумал, что линия фронта отодвинулась на восток. Горят новые села и города, по дорогам бредут новые толпы беженцев.
Петро закрыл лицо руками. Он вспомнил первого убитого им долговязого фашиста, еще двух, заколотых в атаке; остальные, расстрелянные им из пулемета, все казались одинаковыми, и Петро не мог представить их лиц.
Сонное перешептывание листвы деревьев, похожее на мелкий беспрестанный дождик, усыпило его.
Перед зарей Петра разбудил треск сухих веток под чьими-то ногами. Кто-то пробирался ощупью, время от времени останавливаясь и замирая.
– Мишка, слышишь? – шепотом спросил Петро.
– Может, лошадь? Или волк?
Петро на всякий случай вытащил из-под головы гранату. Еле заметный в темноте человек подошел совсем близко.
– Кто тут есть? – спросил он, наконец, негромко, но решительно.
– Люди! – откликнулся Михаил. – Ты кто такой? Пришедший оказался советским бойцом. Он рассказал, что вместе с ним шел из окружения тяжело раненный лейтенант. В полночь состояние лейтенанта ухудшилось, он начал бредить, просил пить. Боец, оставил его и отправился разыскивать воду.
– Как же ты нашел нас в потемках? – спросил Петро.
– Мы еще с вечера слышали: здесь кто-то есть, да лейтенант приказал не подавать голоса.
Петро силился разглядеть пришедшего, потом сказал:
– Если не врешь про лейтенанта, поможем. Тебя как зовут?
– Павел Шумилов.
– А лейтенанта?
– Татаринцев.
– Тяжел он, говоришь?
– Дюже плох. У него осколок в грудь попал.
Спустя полчаса лейтенанта перенесли и положили рядом с Брусникиным. Он был без памяти, ругался, на миг затихал и снова начинал метаться.
Мамед помог Шумилову нарвать свежей, мягкой травы. Прохладное ложе несколько успокоило Татаринцева, и он забылся.
– Ему бы доктора, – сказал Шумилов. – Жена у него фельдшерица. Пока мы в окружение не попали, они вместе были.
Петро послал Мамеда за водой к небольшой яме, которую они вдвоем отрыли накануне в болотистой низине, и начал собирать сушняк для костра.
Лейтенант вдруг позвал кого-то глухим, дребезжащим голосом. Петро подошел и наклонился.
– Кто? – глядя на него широко раскрытыми глазами, произнес Татаринцев.
– Что-нибудь нужно, товарищ лейтенант?
Петро спросил участливо и мягко, но Татаринцев испуганно отстранился и застонал от резкого движения. Потом опять произнес хрипло, не спуская с Петра глаз:
– Кто? Ты кто?
– Я Рубанюк. Красноармеец.
– Брехня!
Татаринцев сказал это беззлобно, с хитроватой улыбкой. Веки его медленно опустились, чуть прикрыв глубоко запавшие глаза.
– Рубанюк, – шепнул он.
– Я.
– Вы не обманывайте… Я подполковника Рубанюка хорошо знаю…
«Да он, может, в полку у брата был? – мелькнула у Петра догадка. – Возможно, что Иван где-то здесь недалеко воюет».
– Командира полка вашего не Иваном Остаповичем зовут? – спросил Петро нетерпеливо.
Татаринцев не ответил: он впал в забытье. Петро бесшумно отгонял веткой осу, которая носилась с тонким жужжаньем над лейтенантом, и внимательно разглядывал его лицо. Искаженное страданием, с крапинками пота на широких, монгольских скулах, оно все же оставалось привлекательным.
«Не выживет», – подумал Петро, заметив, что полуприкрытые глаза лейтенанта временами тускнели.
Татаринцев вдруг тяжело задышал, заворочался и рванул рукой ворот гимнастерки. Петро заметил у него под сорочкой что-то красное. Показалось, что это пропитанная кровью перевязка. Петро хотел было отвернуть ворот сорочки, но Татаринцев резко отвел его руку и застонал.
– Лежите, лежите, товарищ лейтенант, – поспешил успокоить его Петро. – Вам вредно шевелиться.
Татаринцев приподнялся, хотел сесть, но сил у него не хватило. Он упал на спину и громко, по-детски всхлипывая, заплакал.
Петро положил ему руку на лоб. Татаринцев перекатывал Голову по сумке, которая заменяла ему подушку.
– Не могу… больше… хочу… идти…
– Лежите, товарищ лейтенант. Утром доставим вас, начнут лечить.
Татаринцев скрипнул челюстями, прикусил губу так, что кровь проступила под зубами.
– Не могу лежать, – с глухой злобой повторил он. – Мне… идти надо…
Он отвернулся, но сейчас же снова устремил на Петра наполненные слезами глаза.
– Наши далеко сейчас… ушли?
– Да нет, не очень. Хорошо держат фрица.
– Жарко у нас было… Навряд кто остался… На высоте сто двадцать семь… накрыл нас… головы поднять нельзя… Ну, и его положили там… сотни две.
Он лизнул пересохшие губы и попросил пить.
– Сейчас хлопцы принесут. Пошли по воду.
Петро подождал, пока Татаринцев передохнул, и повторил свой вопрос:
– Командиром полка у вас не Рубанюк был? Иван Остапович?
– Рубанюк. А вы знали его?
– Ну как же! Это брат мой родной.
Татаринцев посмотрел на Петра широко раскрытыми глазами и судорожно глотнул воздух. Еле слышно прошептал:
– Погиб он… на моих глазах…
– Ванюшка!
Петро побледнел. А Татаринцев, забыв о том, что перед ним брат Рубанюка, продолжал медленно и тихо:
– Немцы бросили танки… окружили… Подполковник сам нас в атаку повел… Я пробрался, а тут они… опять навалились…
По лицу Татаринцева словно бродили отсветы пережитого боя: оно все время менялось, голос его переходил в полушепот.
– Отполз я… прилег в ямочку… Гляжу, подполковник упал… танк через него гусеницами… потом и в меня осколком…
Он умолк, а через минуту заговорил тверже и отчетливее:
– Наш полк добре дрался. Где трудней – туда комдив рубанюковцев. А когда его убили… не знаю, кто стал командовать. В меня самого… осколок…
Где-то очень высоко горело жаркое июльское солнце. Макушки тополей, грачи, снующие под синим небом, были освещены, а внизу, в мягко темневшей глубине леса, кривые стволы ясеней, груш-дичков, вязов шелестели листвой дремотно и печально. Солнечный луч никогда не пробивался сюда.
Зубы Петра невольно выстукивали все чаще и чаще. Сделав усилие, он попытался свернуть цыгарку, но руки его тряслись, махорка падала на колени, на босые ноги.
– У меня все горит внутри, – сказал Татаринцев, шевеля пальцами рук. – Умру…
Он строго глянул на Петра глубоко запавшими глазами.
– Слушай… полковое знамя… я успел отбить… Фашисты хотели взять… не дал им… Тут, со мной… Достань. Я не могу двигаться…
Петро осторожно расстегнул гимнастерку раненого… Шелковое полотнище в засохших сгустках крови коробилось под пальцами, было горячим от тела.
– Найди наш полк… Скажи: Татаринцев нес, сколько мог… Вернуть знамя… надо.
Он перевел дыхание, лицо его покрылось испариной.
– Увидишь жену… Аллочку… она в полку, расскажи все… вот… Рубанюк…
Татаринцев вновь впал в забытье. Петро развернул знамя; подумав, вынул складной ножик и осторожно отпорол бахрому. Снова сложив знамя, он спрятал его под сорочкой. Потом застегнул гимнастерку и только тогда позвал вернувшегося с водой Мамеда.
В полдень Татаринцев, не приходи в сознание, умер.
XV
Петро переживал свое горе мужественно, ничем не показывая, как тяжело у него на душе. Стараясь забыться, утишить острую боль, которую причиняли ему мысли о брате, он придумал себе работу: тщательно вычистил оружие, собрал большой ворох сухих веток и листьев, потом взял саперную лопатку и принялся рыть могилу Татаринцеву.
Только теперь он понял, как сильно любил брата. Долгая разлука не притупила этого чувства. Все, что было связано с Иваном, вставало сейчас в памяти с такой отчетливостью, словно это было только вчера.
…Петру едва исполнилось шесть лет, а Иван уже состоял в чоновском[11]11
Чон – часть особого назначения.
[Закрыть] отряде. По району бродили небольшие кулацкие банды; они терроризировали население, убивали коммунистов и комсомольцев, уводили в леса советских активистов, жестоко с ними расправлялись. Иван появлялся дома редко. Он приходил запыленный и усталый, с карабином за плечами и с полными карманами патронов. «Ой, смотри, Ванюшка, – испуганно говорила каждый раз мать, – убьют они тебя». – «Не убьют, – бесстрашно откликался Иван. – А и убьют, то за людей голову положу, за правду».
Петро во все глаза смотрел на брата, с уважением ощупывал его боевые доспехи. А когда Иван замечал, наконец, устремленный на него восхищенный взгляд братишки и подмигивал ему, тот смелел и начинал донимать бесконечными вопросами: зачем люди делаются бандитами? Убивают ли они маленьких? Есть ли у них такие винтовки, как у Ванюшки? Однажды, после разговора брата с отцом, Петро спросил: «А что такое людская правда?» Иван переглянулся с отцом и матерью, долго с улыбкой смотрел на маленького Петра. Но ответил серьезно, как взрослому: «Это большое слово – правда. Подрастешь – тебе все понятно станет. За правду Ленин и другие большевики шли в тюрьму, в ссылку. Добивались, чтоб не только графам Тышкевичам жилось добре, а всем людям. За правду эту человеческую и батько наш с белополяками да немчуками бился». Иван ласково потрепал братишку по плечу, а Петро стал допытываться про графов, белополяков.
…И еще вспомнилось Петру… Он уже был секретарем комсомольской ячейки, когда Иван, отслужив срочную службу, приехал из армии домой на побывку. Деятельностью Петра в селе он остался доволен, но на прощанье все же сказал: «Гляди, Петро, всегда помни, чем наша семья государству своему обязана. При другом строе так бы и не выбились мы из нужды. Крепко держись партии большевистской! Это верная мать для таких, как наша семья».
Петро вспомнил еще многое. И о том, как Иван поддерживал семью, когда ей приходилось туговато, и о том, как радовались, когда Иван получил свое первое командирское звание.
Долбя лопаткой слежавшиеся пласты лесного перегноя, Петро думал о том, что никто из семьи не узнает даже, где погребено тело Ивана, не поплачут над его могилой отец, мать…
Отдавшись горестным думам, Петро не заметил, как солнце стало клониться к западу и в лесу стало прохладнее, темнее.
Он вернулся к орешнику, лег ничком на траву. Скоро должны были вернуться из хутора товарищи, и хотелось собраться с мыслями, взять себя в руки.
Незадолго перед вечером Тахтасимов первый увидел подходившего Михаила. За плечами у него был увесистый мешок.
– Почему один? Где Шумилов? – спросил Мамед, помогая товарищу спустить на землю ношу.
– Осторожней. Здесь бутыль с молоком. Достал для нашего санбата.
– Шумилов почему не вернулся?
– Идет сзади. С ним еще двое.
Михаил заметил, что Петро чем-то подавлен.
– Ты что такой грустный, Петя? – спросил он.
– Лейтенант помер, – шепотом ответил за Петра Мамед.
– Умер?
Михаил вопросительно посмотрел на Петра. Тот встретился с ним взглядом и вдруг, замигав ресницами, закрыл рукой лицо.
– Ты что? – встревожился Михаил. – Что стряслось, Петя?
– Брат… убит.
Михаил стоял растерянно, не зная, как утешить друга.
– Что в хуторе? – с усилием выжимая слова, спросил Петро.
– Полно фрицев. Гайсин и Христиновку сдали. В общем, дело табак.
Михаил развязал мешок, бережно извлек из него четвертную бутыль с молоком. В мешке, кроме того, были два куска свиного сала, большая буханка пшеничного хлеба, вареная молодая кукуруза, лук, огурцы. Отдельно, в полотняном мешочке, – самосад.