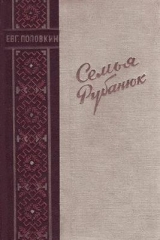
Текст книги "Семья Рубанюк"
Автор книги: Евгений Поповкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 47 (всего у книги 59 страниц)
– Что ж, товарищ майор, – сказал он грустно, – видно, я уже отвоевался?..
В голосе Петра прозвучала скрытая надежда. Он посмотрел на Олешкевича так, словно в руках того находилось решение его судьбы.
– Да, Петя, придется тебе долечиваться в тылу, – сказал Олешкевич, впервые назвав его по имени. – Я с врачом беседовал… Но горевать нечего… Повоевал ты немало, а дело идет к развязке… Скоро все займемся мирными делами…
Они говорили на эту тему долго, и у Олешкевича, как всегда, нашлись такие убедительные слова и доводы, что под конец разговора Петро приободрился.
– Ну, добре, – сказал он. – Когда Берлин возьмете, ко мне в гости, в Чистую Криницу, приезжайте… К тому времени я уже обживусь там… на инвалидном положении…
– Обязательно приедем, – пообещал Сандунян.
Перед уходом он положил в тумбочку Петра увесистый сверток, подмигнул:
– Это от меня и Евстигнеева… Станет тебе легче – выпьешь с товарищами по маленькой…
– Не скучай, Рубанюк, – сказал Олешкевич, пожимая Петру руку. – Будем навещать. Тебя в полку помнят.
Через несколько дней Петра посетили Евстигнеев и Марыганов. Потом он получил ящик с подарками от командования дивизии и солидную пачку писем от солдат роты.
Однажды утром на террасу, где сидел Петро, вбежала сестра. В этот день он впервые вышел из палаты и, устроившись в плетеном кресле, глядел на море.
– Рубанюк, – возбужденно сообщила сестра, – вас генерал-майор разыскивает…
«Какой генерал?» – хотел спросить Петро и не успел. Следом за сестрой поднимался на террасу Иван Остапович.
– Сиди, сиди! – остановил он Петра, заметив, что тот встает с кресла.
От Петра не утаилось, что брат смотрел на него изучающе и с соболезнованием. Когда они поцеловались, Петро спросил со смущенной улыбкой:
– Хорош я?
– Обыкновенный… Я в госпитале выглядел похуже.
Иван Остапович положил руку на плечо брата, подбадривающе сказал:
– Наша порода крепкая, Петро. Унывать нет никаких оснований.
Улыбаясь и испытующе глядя на Петра, он сказал:
– А я ведь не один к тебе… Жену твою привез…
Петро сделал порывистое движение и, сморщившись от резкой боли, закрыл глаза.
– Ну, вот, – добродушно-укоризненно сказал Иван Остапович, – так и думал… Поэтому и решил войти сначала один. Чтоб не слишком тебя волновать.
Иван Остапович облокотился на балюстраду, снял фуражку и знакомым Петру жестом провел по своим волосам.
– Как же узнали, что я здесь?
– А мы ведь с тобой, оказывается, вместе Крым брали. Только я со стороны Перекопа шел… И вот… Оксана твоя… Снимок обнаружила.
Иван Остапович извлек из кармана сложенный номер армейской газеты, протянул Петру.
– Видел себя?
Петро взглянул на фотографию и вспомнил, как фотокорреспондент запечатлел его с Евстигнеевым и Сандуняном на фоне разбитых у Херсонеса немецких машин и орудий.
– Пришлось Оксане в Симферополь съездить, в редакцию, – рассказывал Иван Остапович, с улыбкой наблюдая, как нетерпеливо поглядывает Петро на аллею. – Там она разведала, где твоя часть… Нашла друзей твоих. В общем, развила такую деятельность…
Петро, прервав его на полуслове, поднялся и, нетвердо ступая, сделал несколько шагов навстречу быстро приближающейся Оксане. Иван Остапович поспешил за ним, чтобы поддержать, но Петра уже крепко сжимала в объятиях Оксана. Гладя рукой его спину, она шепотом бормотала:
– Петрусь… Милый мой…
Оксана, не выпуская руки Петра из своей, горячей и дрожащей, бережно усадила его на место.
– Ну? – произнес он пересохшими губами. – Вот как встретились…
Оксана провела ладонью по его щеке, словно не верила еще, что перед ней живой Петро. А у него даже голова закружилась, когда он увидел близко перед своими глазами ее сияющее, слегка побледневшее лицо. Петро зажмурился, как от нестерпимо яркого света, потом снова раскрыл веки: да, это была Оксана, его рука лежала на ее темных тяжелых косах, короной обвивавших голову, к нему были обращены ее глаза. Но Петро и в эти минуты радости помнил о большом несчастье, постигшем брата и Оксану. Он обеспокоенно и участливо глядел на них, зная, что никакими словами не утешить родных ему людей.
– Тебе писали из дому? – спросила Оксана.
– Получил два письма от батька.
– Обо всем знаешь?
Лицо Петра помрачнело.
– Вы… вот что… – пробормотал Иван Остапович, поднимаясь. – Я пойду пройдусь, взгляну на сад…
– До сих пор не могу поверить, что нет в живых Ганнуси, Шуры, Кузьмы Степановича, – сказал Петро. – Как все это стряслось?
– Тяжело, Петро… – Оксана закрыла лицо руками. – Вспомню о батьке, о Шурочке… Витюшке маленьком… Сколько горя в одной нашей семье!
Внизу, между кедрами, кипарисами и высокими южными соснами, лениво плескалось иссиня-зеленое море. От кустов жасмина, густо окропленных золотистыми цветами, струился пряный запах.
Несколько минут назад Петро любовался массивной громадой Аю-Дага, залитого солнцем до самой макушки, дивился бушующему изобилию яркой крымской зелени, воды, кристально-чистого воздуха, подоблачных скал и утесов. Все это Петро уже видел, ощущал и раньше. Но сейчас чудесная красота окружающей его природы волновала неизмеримо сильнее.
– Хорошо здесь! – сказала Оксана. – Я рада, что ты в таком уголке…
Петро вздохнул:
– Если бы только не госпитальный халат!
Оксана повернула к нему голову:
– Не огорчайся, Петрусь… Поверь мне… Нужно только время.
Они стали рассказывать друг другу обо всем, что видели и пережили. Иван Остапович, вернувшийся спустя полчаса, присоединился к разговору, и никто не заметил, как наступил полдень. Пришла медсестра и пригласила всех к обеду.
Иван Остапович, переговорив с начальником госпиталя, сказал Петру:
– Оксана денек-два поживет здесь… Согласен?
Перед вечером он уехал к себе в дивизию, а Оксана, устроившись у госпитальных сестер, целиком взяла на себя заботы о муже.
На следующий день, рано утром, Петро попросил врача разрешить ему первую прогулку к морю.
– С таким надежным сопровождающим разрешаю, – ответил хирург.
Они шли по аллее, и Оксана поддерживала Петра, не позволяла ему делать резких движений. Петро, забыв о своих болях, оживленно говорил:
– Посмотри… Серебристо-сизый атласный кедр… Дальше вон… видишь? – пушистый крымский дуб…
Петро быстро и безошибочно называл самые редкостные, никогда не виданные Оксаной деревья, и она с искренним восхищением заметила:
– Право, ты молодец, Петрусь!.. Ничего не забыл… Это вот что? Вон, вон, розовые листья?
– Ладанник… Как он сюда попал?.. Любопытно…
Оксана не отрывала взгляда от Петра, радуясь его оживлению. Он был очень худ; возбужденно блестящие глаза, легкий румянец на скулах, тонкая шея делали его совсем юным.
– Мать все твои выписки о садах и почвах сохранила, – сказала Оксана.
– Обидно все-таки, Оксана! – сказал Петро. – Вы с Иваном, конечно, побываете в Берлине…
– Я бы лучше с тобой в Чистую Криницу поехала… Знаешь, как там люди к работе рвутся?! Да и устала я от войны.
Они выбрали большой покатый камень у моря и сели рядышком, свесив ноги над водой, как когда-то усаживались над Днепром.
– Мне один товарищ на фронте как-то, в минуту откровенности, знаешь, что сказал? – спросил Петро, улыбаясь. – «Для меня, говорит, жена моя всегда как невеста…» А он с ней пятнадцать лет прожил… Вот и… и ты…
Внизу беспрерывно закипала серебряная пена водоворота…
Под ударами волн мягко шелестела разноцветная галька… Воздух был пропитан солью, и еле ощутимое дуновение ветерка, касаясь их разгоряченных лиц, делало щеки влажными, губы солеными.
Они глядели на прибой, на черно-синюю глубину и, умолкая на минуту – на две, снова и снова рассказывали друг другу о себе, о пережитых за эти годы радостях и невзгодах.
После одной из пауз Оксана сказала:
– Машенька Назарова очень хотела тебя видеть.
– Она по-прежнему в вашей дивизии?
– Да. Знаменитый снайпер…
– Я бы тоже хотел повидать ее.
– Передай ей… Она приедет…
Оксана загадочно усмехнулась, и Петро, заметив это, удивленно спросил:
– Ты что смеешься?
– Тебе показалось…
Уехав на следующий день по срочному делу в дивизию, Оксана через два дня вернулась с Марией.
Увидел Петро их еще издали. Машенька шла незнакомой ему, твердой и уверенной походкой, спокойно поздоровалась с ним. Опустившись в кресло, она, так же спокойно разглядывая его, заметила:
– Вы почти не изменились за эти годы, Петя… Вот усики только… Сбрейте их…
– Не идут?
– Без них вам лучше.
Петро вопросительно взглянул на жену.
– А я об этом как-то не думала, – сказала Оксана. – Почему же, если нравится…
– Расскажите-ка лучше о себе, Мария, – предложил Петро. – Довольны, что мечта осуществилась? Вы так стремились На фронт…
– Очень довольна.
– Слышал, знатным снайпером стали.
– Ну уж, знатным! Таких, как я, много на фронте.
– С мамой переписываетесь?
– Конечно.
– Прошу передать от меня привет.
– Спасибо. Передам…
Обмениваясь с Марией односложными, незначительными фразами, Петро глядел в ее серьезное лицо, и ему не верилось, что перед ним та самая Машенька, которая когда-то декламировала ему по-детски наивные стихи и с непосредственностью девчонки признавалась в своих чувствах.
Словно прочитав его мысли, Мария задумчиво сказала:
– Помните, Петя, какой глупенькой и наивной я была, когда мы встретились?
– Не помню, чтобы вы были глупенькой.
– Я вам в любви объяснялась, а вы меня убеждали, что все пройдет.
– Ну, и прошло ведь?
Мария, смеясь, утвердительно кивнула головой.
Уезжая с Марией в дивизию, Оксана пообещала Петру, что при первой же возможности приедет опять.
Но в Крыму встретиться им больше не довелось. Спустя три дня Петро получил от Оксаны наспех написанную открытку:
«Дорогой мой! Срочно грузимся. Пишу на ящике. Куда едем, никто не знает. Береги себя, родной. Надеюсь, что скоро будем вместе и тогда уж не расстанемся. Иван Остапович обнимает, я крепко целую.
Твоя Оксана».
Петро с грустью вертел открытку в руках, Сейчас, когда Иван и Оксана были, видимо, уже в дороге, он с новой силой испытал горечь при мысли, что не может, как они, сесть со своими фронтовыми друзьями в эшелон и двигаться вперед… А ведь как мечтал он об этом все долгие и тяжкие месяцы войны!
Он чувствовал себя достаточно окрепшим, чтобы покинуть госпиталь. К тому же после отъезда Оксаны каждый уголок здесь навевал грустные воспоминания.
Через день он получил от Оксаны большое письмо.
«Я с каждым часом все больше удаляюсь от тебя, Петро, – писала она, – но никогда еще не была так близко к тебе, мой родной, единственный, мой хороший Петрусь! Я так понимаю твое состояние, что, кажется, это не ты переживаешь свое ранение и разлуку с фронтовыми друзьями, а я. Нас никогда и ничто не сможет разъединить, Петро, как бы далеко судьба нас друг от друга ни забросила! Верно ведь, любимый мой? Ты столько сделал для нашей победы, мы все так гордимся тобой! Я буду достойна тебя, верь мне, иначе как я смогу называться твоим другом, твоей женой?!
Петрусь, милый! Когда ты будешь в тех местах, у моря, где мы с тобой сидели, я почувствую, что ты думаешь обо мне, и мысленно приду к тебе…
Едем с Иваном Остаповичем в одном вагоне. Он мне, между прочим, сказал о том, что Романовский получил предписание выехать в Москву и с нашей частью распрощался…»
Оксана подробно писала о девушках-снайперах, настоятельно просила Петра беречь себя, передавала множество приветов.
Письмо доставило Петру большую радость, но в то же время с еще большей силой его охватило желание поскорее выбраться из госпиталя, быть рядом с близкими людьми.
В тот же день он пошел к начальнику госпиталя и потребовал, чтобы его выписали.
– Почему вы так спешите? – спросил тот удивленно. – Мы с врачом собирались вам путевочку в дом отдыха организовать… Поправились бы, а потом уж… Вы куда решили ехать?
– Домой на Украину.
XIII
Поезд пришел в Богодаровку рано. Петро решил, если не будет попутной подводы, добираться до Чистой Криницы пешком. Он приспособил за плечами полупустой вещевой мешок, привычным движением оправил новенькую, полученную в госпитале гимнастерку с погонами капитана, шинель перекинул через левую руку, чемоданчик взял в другую и пошел к базарной площади. У здания райпотребсоюза стояло несколько бричек и бидарок. Подойдя к ним, Петро увидел конюха из Чистой Криницы Андрея Гичака. Гичак узнал его сразу.
– С прибытием, Петро Остапович! – крикнул он, сняв картуз и приближаясь. – На побывку или совсем?
– Там будет видно.
– Сейчас будем ехать. Подвезем.
– Ты с кем здесь?
– С председателем. Вон идет Андрей Савельевич.
Горбань, поскрипывая протезом, сошел с крыльца. Он был чем-то озабочен и поздоровался с Петром так, как будто виделся с ним совсем недавно, а не три года тому назад.
Едва кони вынесли бричку из районного центра и покатили по Богодаровскому шляху, мимо знакомых кленовых перелесков и темных дубрав, Петро стал волноваться. Он живо представил себе, как часа через полтора переступит порог родной хаты и громка произнесет: «Ну, принимайте, мамо и тато, сына…»
Видимо, душевные переживания явственно отражались на его лице. Андрей Гичак, погонявший коней, сказал:
– С фронта мало кто в целости вертается. То ж счастье какое батькам!..
Помолчали.
– Вижу, хорошими конями разжились, – заметил Петро. – Откуда такие?
– Кони ничего, добрые, – довольно ухмыльнулся Гичак. – Да беда… по-нашему не балакают… Это же трохвей партизанский, из лесу пригнали…
Бричка, качнувшись и скрипнув подкрылками, свернула с грейдерной дороги на идущую рядом проселочную, миновала Соловьиный Гай, а Горбань все сидел молчаливый и угрюмый.
– Чего ты такой невеселый, Андрей Савельевич? – полюбопытствовал Петро.
– В глупаках остался, вот чего, – кратко откликнулся Горбань. Он звучно сплюнул и отвернулся. Приспособив удобней протез, заменявший ему ногу, он злым, высоким голосом заговорил:
– С чего это, скажи мне, веселым быть?.. Послушал бы, как Бутенко сегодня за шкирку брал… А с кем работать?
Горбань удрученно засопел и полез в карман за куревом. Нащупав пустой кисет, отрывисто спросил:
– Закурить есть?
Петро достал коробку «Казбека», угостил Горбаня и Гичака.
– Какие это? «Чужбек»? – с лукавой деловитостью осведомился Гичак, разминая крупными черными пальцами папироску.
– На прошлой неделе Игнат Семенович Бутенко приезжал до нас, – пасмурно продолжал Горбань. – Прошелся по полям… Видит, что с сорняками мы не управились… «Ты, спрашивает, хочешь колхоз из прорыва вывести или не хочешь?» – «Хочу», – говорю. «Ну, раз хочешь, значит сделаешь». С тем уехал… Ну, и что? Хочу, допустим, а если не получается? Если я из шкуры лезу и ничего поделать не могу, какими глазами мне на него глядеть? Га?
У Горбаня даже жилы вспухли на шее от волнения.
– Нет, надо за ребро брать, тогда научатся работать по-ударному, – погрозил он кулаком неведомо кому. – Меня берут, и я возьму…
– Да ты, Андрей Савельевич, – вступил в разговор Гичак, молча слушавший до этого председателя, – расскажи лучше, что нам оккупанты оставили в селе… С чего нам начинать сызнова пришлось…
Горбань погасил окурок, сказал устало:
– Обобрали насквозь!
– Об этом я слышал, – сказал Петро. – Но люди остались… те же самые… Разве хуже стали работать?
– Брехать не стану, люди берутся дружно… Да, видать, я негожий руководитель.
Сделав ударение на «я», Горбань безнадежно махнул рукой. Потом, помолчав, с обидой в голосе произнес:
– А кто начинал? Горбань! Хоть и без ноги. Раз надо, тут за инвалидство свое прятаться нечего…
Глядя на него, Петро представил, как трудно Горбаню мотаться по степным участкам, удаленным от села на пять, шесть и даже восемь километров. И чтобы как-нибудь подбодрить его, он спросил:
– Все же за это время сделал, вероятно, не мало?
Горбань оживился. Он ухватил Петра за рукав и, торопясь, несвязно, словно боясь, что ему не дадут выговориться, стал выкладывать:
– Как же не сделали? Не сравняешь с тем, что было… Выбрали меня в прошлом году… Акурат твой брат, генерал, в гости приезжал… Да-а… Выбрали. Скликали мы с Остапом Григорьевичем свой актив. Супруненко Роман Петрович пришел. Голова сельрады. Сидим, думаем… «С чего начинать будем?» – спрашивают. «Абы колеса крутились», – говорю. А у самого прямо хруст в мозгах идет от тех думок… Ну ничего же, ровно ничего в колхозе нету… «Давайте, говорю, сносить до кучи, что у кого припрятано».. Один мехи от кузницы закопал, вижу – несет, другой – инструмент… Доски, балки в бункерах взяли… Наладили мельницу, взялись за Маслобойку… К весне с маслом и мукой были… Пять электрических моторов откопали. Еще покойный Кузьма Степанович спрятал от фрица, да куда они нам? Станции нету… Да-а… Подошла весна. Чем работать? Ни конячки, ни бычка… Передают бабы, на хуторе у одного хозяина маштачок приблудился. Пошел поглядел. Гадкая кобыленка, вся в коросте. Все ж коняка. «Что хочешь?» – спрашиваю дядька. – «Ставь магарыч», – говорит. Я, конечно, задание бабам; те наварили самогонки. Выпили с дядьком, повел я кобыленку на колхозную конюшню…
Петро, сидя вполоборота к Горбаню и слушая его сетования, смотрел на поля. Вдоль дороги валялись остовы разбитых орудий и сгоревших танков. Частые воронки от снарядов и авиабомб уродовали пашню; впадины уже осыпались, покрылись свежим покровом зелени, но Петро, глядя на них, без труда представил, что творилось здесь еще несколько месяцев назад.
– Тракторов ни одного не осталось? – спросил он.
– Ха! «Тракторов»! Мэтэсе еще нету, лопат и то с превеликим трудом разжились… Теперь подошло время сеять. Зерна для посева нету, сеялки исправной ни одной. Начали копать землю лопатами. Впрягались в борону по нескольку человек и так бороновали. Ты же, Петро Остапович, сам из хлеборобов. Тебе не надо пояснять, как это лопатками сотни гектаров земли переворошить. Не пять и не десять, а сотни…
– Понимаю.
– Спасибо Бутенко, район пять конячек подкинул. Ну, все равно кругом еще светится. Чи спишь, чи не спишь, спохватываешься. Не дают думки покою. Там дыра, тут дыра…
Бричка перевалила через пригорок. Теперь из глубины зеленых просторов доносилось беспечное попискивание полевых жаворонков и коноплянок, по чуть пожелтевшей озими катились волны, словно теплый ветерок гладил посевы ласковой рукой. Белели косынки работающих женщин, паслись на толоке красно-бурые телята.
Будто и не скрежетали никогда по этим полям и дорогам гусеницы танков, не рвали снаряды на куски жирную, пахнущую корневищами трав землю, не топтали ее тысячи ног… Тишина и покой…
Петро перевел взгляд на Горбаня; в своей вылинявшей кепке, в пиджачке тот выглядел таким глубоко штатским и невоинственным человеком, что невозможно было представить себе, чтобы он когда-нибудь держал в руках оружие, ходил в атаку. Но в два ряда орденская планка на его старенькой гимнастерке под расстегнутым пиджаком красноречиво говорила, что воевал Горбань отважно.
– Вижу, Андрей Савельевич, ты на фронте человеком боевым был, – сказал Петро.
– Что было, то прошло, – неохотно ответил Горбань. Он вдруг рывком вытащил из-под Гичака ременный кнут, яростно потянул правого коня. – Но-о, ло-одырь!
Постромки натянулись, и бричка покатилась резвее.
– Радио есть в селе? – спросил Петро.
– Там ваш Сашко́, кажется, что-то смастерил. Ходят люди, слушают, – ответил Горбань и пожаловался: – Живем, правду сказать, в отрыве. Докладчик один раз приезжал… еще в зимнее время… А в селе этим делом заняться некому…
– Что ж, разве нет ни комсомольцев, ни врачей, ни учителей? – допытывался Петро. – Ведь когда-то в селе и кружки были, и чтецы-агитаторы, и артисты свои, и докладчики по любым вопросам…
Горбань только рукой махнул:
– Разве я не помню?! Ничего такого подобного нету. Некому за это взяться. Учительша одна, молоденькая, недавно приехала… Как ей фамилия, Андрюша?
– Это что у Балашихи квартирует? Полина Ивановна.
– Да… Попросил я ее как-то лекцию людям сделать про международное положение. Так она скраснелась: «Не берусь», – говорит… Сама еще девчонка.
Линейка поднялась на последний бугор, и внизу открылось село. С волнением глядел Петро на знакомые улицы Чистой Криницы. В первое мгновение он даже не заметил, что родные хаты, некогда радовавшие белизной, облупились, деревья около дворов были повырублены, заборы и плетни отсутствовали.
Перед ним лежала Чистая Криница! Это была минута, о которой Петро страстно мечтал все эти годы и всюду, куда бы ни забрасывала его фронтовая судьба.
.
Гичак остановил коней возле рубанюковского двора, поглядел на хату:
– Замок на дверях…
– На работе все, – откликнулся Горбань. – Придется послать кого-нибудь за матерью. Она буряки полет сегодня.
Петро сложил свой небольшой багаж на крыльце, побродил по двору, заглянул в сад и на огород. Хозяйственные постройки были разломаны, фруктовые деревья поредели, пасеку растащили; следы разрушения лежали на всем, но Петро и не ожидал увидеть иное. Он уже заметил, как безлюдно на улицах и во дворах, и понял, что не до приусадебных участков и домашних дел криничанам.
Петро вернулся к хате, задумчиво постоял у палисадника, над поблекшей под солнцем ночной фиалкой. «Это уже мать посадила цветы», – догадался он.
Ему вдруг живо представилось возвращение домой из Москвы, после окончания Тимирязевки. Вспомнилась холодно-сдержанная встреча после долгой разлуки с Оксаной и бурная стычка около сельрады с Алексеем Костюком. «А ведь всего три года назад это было! – подумал Петро. – Как бродила, играла кровь!.. Сколько тогда было светлых надежд, планов, уверенности в своих силах!»
И будто со стороны увидел себя Петро в те дни: пышущего здоровьем, с дерзким взглядом веселых глаз, жизнерадостного, способного горы свернуть…
«А ведь мало радости я доставлю отцу своим возвращением», – мелькнула мысль у Петра. Он даже поморщился, представив себе свое страдальчески вытянутое, худое лицо и вспомнив однообразные мрачные шутки по поводу «недорезанного желудка».
Петро пошарил над дверью, надеясь разыскать ключ от хаты там, где всегда оставляла его мать, уходя из дому, и заметил в эту минуту батька. Остап Григорьевич шел от Днепра огородами; увидев Петра еще издали, прибавил шагу.
Петро пошел ему навстречу. Целуя жесткие, пропахшие самосадом щеки отца, он подметил, как под седыми усами дрогнули его губы; только этим и выдал свое волнение старик.
– Что ж ты ни письма не послал, ни телеграммы, – с легким укором сказал отец. – Встретил бы на станции.
– Я точно не знал, когда поезд приходит.
– Мать еще сегодня ранком вспоминала: «Что-то не едет наш Петро…»
Остап Григорьевич, держа в руке картуз и вытирая рукавом рубашки лысину, с сердечной радостью, любовно оглядывал сына. Сам он заметно постарел, но глаза его смотрели по-прежнему молодо, был он бодр, крепок, как и раньше.
– Вас, батько, ни года, ни трудности не берут. Прямо богатырь вы у нас…
Они пошли к хате и едва успели отпереть дверь и внести вещи, прибежала Катерина Федосеевна.
Петро, обнимая мать, заметил, что волосы у нее стали совершенно седыми, множество морщинок легло мелкой сеткой на коричневые от солнца и ветров щеки, худую шею.
– Не надо так плакать, мама, – ласково уговаривал Петро, тихонько поглаживая ее голову. – Ничего страшного со мной не стряслось. Поправлюсь, еще здоровее буду…
– Я с радости, сынок, – шептала мать, вытирая глаза и припадая к его руке, обливая ее слезами…
– Отдохну с дороги – увидите, что я совсем герой, – утешал Петро, подметив тревогу в ее глазах.
Но то, чего он втайне побаивался, все же случилось. Дорога сильно изнурила его, и, едва схлынула радость встречи с родными, Петро ощутил во всем своем теле такую слабость, что вынужден был прилечь.
Мать, с разрешения бригадира, в этот день после обеда в степь не пошла. Внешне ничем не выдавая жалости и сострадания, которые вызывали у нее худоба и болезненный вид Петра, она принялась деятельно за ним ухаживать: согрела в большом чугуне воду, достала чистое белье, сбегала к соседке за молоком и творогом.
– На домашних харчах, хоть и не те они, что прежде, ты у нас быстренько сил наберешься, – уверенно пообещала она, застилая колени сына полотняным рушником и в радостной рассеянности уже который раз вытирая концом передника щербатую вилку. – Ешь, сынок, отъедайся… Да рассказывай про Ванюшу, про Оксану… Как они там?..
К ее огорчению, Петро не притронулся к еде. Выпив немного молока, он отставил стакан в сторону. «Больной, совсем больной, только признаваться не хочет, – обеспокоенно думала мать. – Сегодня же скажу старому, чтоб доктора позвал…»
Уже темнело, когда со степи примчался Сашко́.
– Спит? – шепотом спросил он у матери.
– Тише, нехай спит, – тоже шепотом откликнулась мать.
Сашко́ на цыпочках вышел из хаты.
В стекле приоткрытого в палисадник окна отражалась огненная полоска заката… Наперебой сверчали в саду кузнечики… В комнату вливались вместе с прохладным вечерним воздухом теплые запахи душистого лугового сена, ночной фиалки…
За окном кто-то ворошил сухое сено. По улице, переговариваясь, прошли женщины.
– С возвращением сыночка, Федосеевна! – крикнула одна из них.
Шуршание сена прекратилось. Катерина Федосеевна ответила негромко, однако Петро проснулся.
Что именно сказала мать, он не разобрал, но голос у нее был счастливый и по-молодому звонкий.
Петро энергичным движением руки скинул с себя одеяло, стал одеваться.
– Сашко́! – позвал он, заметив за окном шарообразную стриженую голову братишки.
– Есть Сашко́!
В сенях звякнуло задетое босой ногой пустое ведерко, и Сашко́, мигом появившись на пороге, бросился обнимать брата.
– Ну-ка, стань вот так, рядышком, – сказал Петро, расцеловавшись с ним. – Ого, скоро меня обгонишь! Большой, большой стал.
Они, радостно улыбаясь, разглядывали друг друга.
Сашко́ выглядел значительно старше своих двенадцати лет, голос его ломался и басил, как у шестнадцатилетнего. Но он так застенчиво разговаривал со своим братом-фронтовиком, лицо его, нежное, поросшее на щеках пушком, так часто краснело, что Петро понял: Сашко́ не утратил детской непосредственности, хотя на его долю и достались жестокие испытания.
– У тебя, говорят, радиоприемник есть? – спросил Петро.
– Есть, а слушать нельзя.
– Почему?
– Аккумуляторы сели…
Сашко́, шлепая босыми ногами по полу, направился в угол, содрал дерюжку с ящика. Пощелкав ручками, печально подтвердил:
– Не берет… В Богодаровку их надо отвезти.
Он бросил дерюжку на радиоприемник и присел на табуретку.
– Ты мне вот что, друг, разъясни, – сказал Петро, подсаживаясь к нему и кладя на его худенькое плечо ладонь. – Комсомольская организация в колхозе, конечно, есть?
– Меня не принимают, – угрюмо прервал Сашко́. – Говорят, мал еще…
– Придет время – примут… Секретарем кто в комсомоле?
– Полина Ивановна Волкова. Учительша.
– Учительница, а не «учительша»… Ну, так вот… Комсомол, значит, есть, а колхоз в прорыве… Как ты, друг, это объяснишь?
Вопрос был трудный. Сашко́ насупился и сосредоточенно крутил пальцами уголок скатерти, постланной матерью по случаю возвращения Петра. Взглянув в окно, поднялся:
– Пойду матери подсоблю… Сено сгребаем для телушки.
Петро, смеясь, удержал его за рукав:
– Ты не удирай! Сперва ответь… Хлопчаков много ведь в селе… Помогаете этой Полине Ивановне? Вы же теперь вместо мужчин…
– А то не помогаем! – обиженно произнес Сашко́, садясь на место. – У меня шестьдесят семь трудодней уже заработано…
– Ну, а комсоргу ты вот лично, Сашко́ Рубанюк, помогаешь? – продолжал допытываться Петро.
– А то нет!
– Газеты читать в бригадах, восстанавливать разрушенное, с вредителями на полях бороться?.. Да мало ли забот у хороших комсомольцев?
Сашко́, видимо тяготясь разговором на эту тему, неожиданно спросил:
– Тибр – большая река?
– Тибр? – Петро посмотрел на братишку озадаченно. – А при чем здесь Тибр? Ну, большая…
– Больше, чем наш Днепр?
– Сравнил! Днепр тянется на две тысячи с лишним километров, а Тибр… вспомню сейчас… километров пятьсот…
– А какая шире?
– Да на что тебе?
– А ты скажи.
– Днепр шире, глубже, длиннее…
Петро смотрел на брата с любопытством. А Сашко́, радуясь тому, что может блеснуть своей осведомленностью, пояснил:
– Американцы… хвастуны. Переплыли Тибр этот и хвастаются… Я в газете читал… Только я думал, он большой, – разочарованно заключил он.
Заметив, что Петро ищет поясной ремень, Сашко́ помог разыскать его, услужливо протянул.
– Петя, а орденов тебе никаких не дали? – спросил он вполголоса и чуть замявшись.
Петро перехватил разочарованный взгляд Сашка́, устремленный на его гимнастерку: на ней одиноко поблескивал гвардейский знак.
– Есть, есть ордена, – успокоил он братишку.
– У председателя нашего, дядьки Андрея, аж три ордена и четыре медали, – сообщил Сашко́ с таким видом, словно он сам был владельцем этих наград. – А у тебя сколько?
– Как-нибудь с тобой посчитаем, – ответил Петро, чуть приметно усмехаясь. – Давай-ка лучше матери поможем…
Он вышел на крылечко. Катерина Федосеевна в развязавшемся платочке, с засученными по локоть рукавами, спешила управиться с раскиданным для просушки сеном.
Петро подошел и взялся за держак навильника.
– Идите, мама, другими делами занимайтесь, я сложу.
– Да тут совсем трошки осталось, – возразила Катерина Федосеевна. – Отдыхай.
Петро все же отобрал у нее навильник, уверенно и умело принялся за работу.
На дворе совсем стемнело, но из-за крыш уже выползла огромная луна, и от хаты, сараев легли на землю неясные тени.
Из сада пришел Остап Григорьевич. Петро сел рядом с ним, закурил. Обоим, и сыну и отцу, не раз рисовалась во время разлуки эта долгожданная минута… И вот они снова вместе. Можно спокойно, не торопясь, переговорить обо всем, поведать друг другу, как прожиты грозные годы, испытаны суровые превратности судьбы.
Но именно потому, что каждому нужно было рассказать о многом, они не коснулись пережитого. У Остапа Григорьевича накопилось много неотложных вопросов. Он был парторгом колхоза, и все, что его волновало, как-то сразу вылилось в, разговоре с сыном. Недоделок и недостатков в Чистой Кринице было столько, что «хоть садись и кричи», как выразился Остап Григорьевич. А ему никогда не приходилось работать парторгом. По неопытности он многое упускал, да и грамотность у него была небольшая. А тут еще и у колхозного председателя, Андрея Горбаня, не ладилось.
– И вот, сынку, – со вздохом подытожил Остап Григорьевич, – прямо надо сказать, хромаем…
Послушать разговор вышла и Катерина Федосеевна. Она молча стала рядом, прислонившись к притолоке.
– Я вот за покойным Кузьмой Степановичем жалкую, – сказал Остап Григорьевич. – Был бы он живой, это – руководитель! Да-а… Подход он до людей имел, ну и люди за ним. А вот у Савельича прямо-таки неуважительные манеры… Ругается, никогда ни до кого не улыбнется. «Слушай, говорю, Савельевич, ты хоть человек и беспартейный, а прислухаться к партии должен. Она с людьми не позволяет такие фокусы выделывать». Обижается… «Мне, говорит, перед каждым выгинаться, упрашивать тоже терпения не хватит… Время, говорит, военное, ну и нехай понимают мой военный язык…» Вот и вся балачка с ним.








